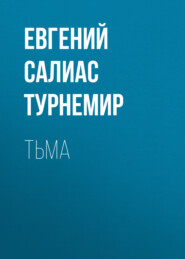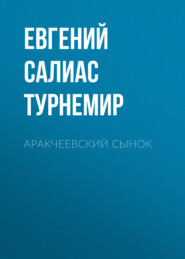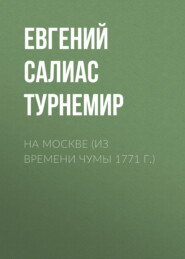По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петербургское действо. Том 1
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молиться Богу Кириллу было немудрено, он и сам привык это часто делать с горя и тоски в доме деда, хотя тайком от деда читал не «Отче наш» или «Верую», которые и мысленно произносил с трудом, а более близкие, даже отчасти родные «Pater Noster» и «Credo»[24 - «Отче наш» и «Верую» (лат.).]. Латинские слова этих молитв он понимал не более, чем русские, но привык к ним.
Затем – тратить много денег он не мог, так как деньги были поручены Спиридону. Что же касается до третьего пункта, то он был юноше совершенно неясен, потому что приказание деда сторониться от женского пола Эмиль, по глупости, перевел так, как сам понял, то есть совсем иначе. Эмиль сказал, переведя слова графа Иоанна Иоанновича с русского на французский:
– Ne touchez jamais le plancher[25 - Никогда не касайся пола (фр.).].
Дед, не понимавший ни слова по-французски, не исправил перевода. Вновь же нанятый француз Жоли понял и перевел третью заповедь дедушки:
– Evitez la societe des grandes dames![26 - Уклоняйся общества старых дам! (фр.)]
Оба варианта Эмиля и Жоли перепутались в голове Кирилла, и он сам не знал, как выпутаться из беды, чтобы исполнить третью мудреную заповедь.
XXVI
Переехав русскую границу и очутившись в Польском королевстве, а затем в веселой, пышной, красивой Варшаве, Кирилл как будто почуял вдруг всеми нервами своего существа иной дух, потянул в себя полною грудью иной, уже более теплый, почти весенний воздух и сразу ожил, сразу щеки его зарумянились, глаза заблестели.
– С,est un petit Paris![27 - Это маленький Париж! (фр.)] – воскликнул он, прогуливаясь по Краковскому предместью и по Саксонскому саду. Вдобавок теперь юноша был не «фертик» и не «путифиц», по дороге величали его титулом и называли внуком русского магната, родственником фаворита российской императрицы. Сам Кирилл не отказывался от этого.
Через полтора месяца пути, будучи в Париже, юноша не только окреп, поздоровел, развернулся, как бы нечаянно для самого себя, не только вышел из-под влияния и повиновения своих двух менторов, но даже приобрел вдруг некоторое влияние над ними. Случилось это очень просто.
Жоли был жирный и добрый француз, у которого была только одна страсть – спать. Всю дорогу, а затем и по приезде в Париж Жоли спал, и спал без просыпа. И, вероятно, от этого постоянного сна или от праздности и сытой пищи он окончательно отупел и соглашался на все, что делал и предлагал «Monsieur le vicomte»[28 - «Господин граф» (фр.).], как стал он звать питомца; соглашался он на все, вероятно, потому, чтобы не тревожить и не беспокоить своей лени отказом или спором.
Упрямый, глуповатый, но и грубоватый Спиридон, неограниченно и круто повелевавший и распоряжавшийся всем от графчика, ему вверенного, и до последнего винта в экипаже, притих вдруг, даже приуныл, даже как будто струсил. Тотчас по переезде границы российско-польской, во время двухдневного пребывания в Варшаве, холопская важность и хамово упрямство Спиридона много поубавились. Он все оглядывался, озирался кругом себя и дико прислушивался к полуродной польской речи. И как собака, хотя злая, но попавшая нечаянно в чужой дом, обнюхивается, поджимая хвост, и косит злыми, но боязливыми глазами, так и Спиридон ворчал, бранился, нападал на графчика, привязывался к Жоли, но, однако, тотчас же приходил к обоим с просьбой по поводу всякого пустяка.
– Не понимают, дьяволы! – говорил он. – Тридцать раз повторил, балуются, будто не смыслят. Подите скажите!
Но если в Польше Спиридон иногда вывертывался без помощи спутников, то, попав в Германию, а затем во Францию, он окончательно примолк и только неодобрительно покачивал головой, почесывал за ухом и думал про себя:
«Вот зажора-то! Покомандуй-ка поди! Заслал бы я тебя, – обращался он мысленно к барину, графу Иоанну Иоанновичу. – Заслал бы тебя сюда – и ты бы тут покаянного грешника изобразил!»
Таким образом, юноша, благодаря обстоятельствам и обстановке, благодаря беспробудному сну Жоли и беспомощному состоянию Спиридона на чужой стороне, среди чуждых ему людей, обычаев и языка, сразу стал независим. Кроме того, он нравственно встрепенулся, ожил, воскрес на тех местах, где родился, провел все детство, воспитывался и стал юношей и где, наконец, имел пропасть знакомых и друзей покойного отца.
Одно только ярмо и было теперь – зависимость денежных средств от деда, оставшегося там где-то, далеко, среди огромных сугробов и страшных морозов. Надо было кое-как прожить еще несколько лет под попечительством этого злого деда, и жить на гроши, которые он высылал.
– Когда буду совершеннолетним, – мечтал Кирилл, – выйду из опеки, продам заглазно все, что есть в России, и переведу все состояние во Францию.
То же самое, конечно, советовали ему здесь и друзья покойного отца. Некоторые полагали даже начать процесс, тотчас же освободить юношу из-под опеки старого тирана, изверга, «lours de la Neva»[29 - «Невский медведь» (фр.).], как прозвали они теперь Иоанна Иоанновича. И как еще недавно Кирилл был щедро награждаем дедушкой всякими прозвищами, смешными и дурацкими, так теперь юноша и его парижские знакомые в свою очередь изощрялись в прозвищах и названиях петербургскому деду, который был теперь «lours blanc, le vampire, le cyclope, le grand ogre»…[30 - «Белый медведь, вампир, циклоп, старый осел» (фр.).]
С самого приезда Кирилла на свою полуродину, то есть в Версаль, он поселился на том же бульваре, где был дом, в котором он долго жил, но которого теперь, конечно, не мог нанять, не имея средств своего отца. Обстоятельства особенно благоприятствовали, и петербургский узник, скоморох за столом деда, стал здесь сразу предметом всеобщего внимания и любезного обращения. Король знал его в лицо и при встрече милостиво кивал головой au jeune russe-versaillais[31 - Молодому русскому версальцу (фр.).]. Герцогини и маркизы тоже милостиво улыбались ему при встречах. Вскоре, наконец, одна из них, очень веселого поведения, приблизила к себе красивого юношу, как мимолетный каприз, и перезнакомила его с придворным кругом как сына всем знакомого, недавно еще умершего дипломата. Трудно было Спиридону перечить питомцу и обругать его здорово за то, что он, например, засиделся где-нибудь на вечеринке, когда он сам видел, что французский царь кланялся его графчику.
«Нагрубить ему, – рассуждал Спиридон, – нажалуется он на тебя здешним генералам, и что будет? Тебя ж и выпорют. Говорят, анафемы, что здесь, вишь, не порют! Враки! Верно знаю, что у них есть эдакое место за несколько верст от эвтой Версальи, куда никого не пущают и где всех генералов, и дворян, и нашего брата лакея не токмо страшнеюще порют розгами, а головы снимают и четвертуют на десять частей».
Но каково соображение было у Спиридона о четвертовании на десять частей, таково же было его составившееся понятие о Франции, Париже, Версале и королевском дворе. Он стал не на шутку бояться своего графчика и ожидать, что он как-нибудь нажалуется и его, не говоря худого слова, обезглавят или сошлют в какую-нибудь французскую Сибирь на вечные времена.
И Спиридон, чтобы ужиться и не пропасть, стал, насколько умел, ласков с графчиком. Но и это продолжалось недолго. Как Кирилл чах в Петербурге в доме деда, так и Спиридон, хотя здоровенный, стал чахнуть в Версале. Да и мудрено было, конечно, безвыходно и невозможно положение русского хама, костромича по происхождению, уроженца деревни Степкины Овражки, сотни раз битого и дранного на все лады, занесенного судьбой-мачехой… куда же? за несколько шагов от блестящего, пышного, сказочно великолепного двора короля, первого щеголя своего века, гуляющего среди стриженых аллей, бассейнов, фонтанов, среди целой толпы беломраморных статуй, целой сияющей толпы придворных. Положение Спиридона, разумеется, было такое же, каково положение таракана-пруссака, волею судеб очутившегося в изящной бонбоньерке, переполненной разными чудными и душистыми конфетами.
Так или иначе, но Спиридон начал чахнуть и слезно начал просить своего графчика проставить в цидулях, которые он отписывал аккуратно деду, чтобы его, раба, помиловали, простили и вернули на родимую сторону. Кирилл из жалости два раза написал деду, что Спиридон изнывает по отечеству и стал неузнаваем и жалок. Через шесть месяцев приехал в Версаль, довезенный каким-то русским, другой дядька, имя которого юноша Кирилл сразу и выговорить не мог. Новый дядька был молодой, умный и расторопный парень, показавшийся ему даже очень добрым малым; он был тоже с большущими, грубыми и красными руками, с особым запахом чего-то жирно-горького, как и Спиридон, а назывался по имени Агафаклей.
– Oh, mon Dieu![32 - О мой Бог! (фр.)] – воскликнул на это Кирилл. – A-ga-fa-cley!! Это ужасно! C,esi terrible. Надо будет переменить это имя, pour ne pas aboyer, когда придется называть. А то ведь все смеяться будут надо мной.
Агафаклей привез от Иоанна Иоанновича грозное послание насчет Спиридона, хотя и дозволявшее ему вернуться в Петербург, но обещавшее суд и расправу. Агафаклей на словах передал Спиридону Ефимычу, что ему «хоть и не езди в Расею! Сказывали во двору, что как он приедет, так его выпорют и в степную вотчину на скотный двор сошлют».
Но Спиридон, услыша это, возликовал:
– Пусть хоть в Сибирь сошлют! На скотный двор?! Да ты вот, Агафаклеюшка, поживешь тут малость, так увидишь. Это тебе так внове повадливо кажет. Тут жисть окаянная, паскудная, каторжная, пуще всякой Сибири. Слова сказать не с кем, лба перекрестить негде, ни одного храма. У них, подлецов, церквей и в заводе нет, а, вишь, леглизы свои. Захочешь коли молиться, так дома молись. Не идти ж в ихний леглиз. А то скотный двор! Да я хоть сотню коров на себя возьму, чем с здешним скотом расправляться.
При первой же случившейся оказии состоящий при польском посольстве в Версале магнат, уезжая на родину, по просьбе Кирилла захватил с собой Спиридона с обещанием из Кракова доставить его как-нибудь в Петербург. Кирилл послал со Спиридоном деду письмо, пространное и написанное в сообщничестве со своими друзьями в довольно решительном тоне. Он говорил, что при скудных посылках денег он при французском дворе срамит имя графов Скабронских и что сам король удивляется, как ему высылают на прожиток так мало средств. Кирилл в этом письме кончал угрозой деду, что если он не будет высылать ему по крайней мере пятьсот червонцев в год на жизнь, то он по совету здешних министров и по желанию даже самого короля перейдет во французское подданство и законным порядком вытребует все свое состояние.
Спиридон, три месяца пробыв в пути от Avenue du Roi[33 - Королевский проспект (фр.).] до Васильевского острова, сияющий, счастливый и поздоровевший по вступлении на русскую землю, явился перед ясные очи Иоанна Иоанновича. В тот же вечер граф, прочитав привезенное ему французское и дерзкое послание внучка, велел Спиридона заковать в кандалы. И плохо пришлось бы Спиридону, если бы не случилось казуса.
Иоанн Иоаннович справился через день:
– Что, Спирька присмирел в цепях-то?
Но графу доложили, что Спиридон ликует и, сидя в сарае скованный, радуется, все крестится, Господа Бога благодарит да сказывает: пущай его в кандалах в старый высохнувший колодец посадит граф – и то будет Бога благодарить.
Вследствие этого Иоанн Иоаннович призвал к себе Спиридона и, беседуя с ним, велел снять с него кандалы.
Спиридон объяснил, что предпочтет быть живым зарытому в землю, только в матушку русскую сыру землю. И затем в продолжение нескольких часов Иоанн Иоаннович расспрашивал Спиридона обо всем: о внуке, о Версале, о короле, о житье-бытье за границами государства. И наконец, Иоанн Иоаннович вдруг сам удивился тому, что оказалось само собой.
Оказалось, что Спиридон такой любопытный собеседник, так много видел и знает, так речисто все описует, так ненавидит и злобствует на все заморское и так рад вернуться к нему, старому барину, в услужение, что этакого человека не только грех, а глупость несообразная в степную деревню сослать или в Сибирь в кандалах угнать.
Через месяц Спиридон, вместо того чтобы быть острожником или ссыльным, сделался в палатах Иоанна Иоанновича не более не менее как главным заправилой и самым приближенным лицом к барину.
Что касается до письма, привезенного от внука, Иоанн Иоаннович изорвал его в клочки и только изредка, вспоминая окончание письма, угрозы молокососа и расхрабрившегося издали путифица, качал головой и бормотал:
– Подрастешь, вестимое дело, все твое имение и иждивение тебе в целости и сохранности передам. А покуда извини, путифицушка, посидишь у меня в энтой Версали и на сто червончиков в год.
Через шесть лет по возвращении Спиридона возвратился в Петербург и сам молодой граф Кирилл Петрович Скабронский и прямо остановился у деда.
Но с ним случилось такое удивительное превращение, что Иоанн Иоаннович диву дался. Черты лица были, конечно, те же, но двадцатитрехлетний молодой человек так себя вел и держал, так говорил, что уж его теперь мудрено было скоморохом поставить. Обзови его «путифицем» – он сам каким-нибудь дурацким прозвищем сдачи даст и, чего доброго, дедушку Кащеем Бессмертным назовет. Граф Кирилл стал совсем француз и даже парижанин, был друг и приятель придворного кружка в Версале и жил за последнее время при дворе очень широко, бросая золото чуть не за окошки своего великолепного отеля; но это делалось, конечно, в долг, за страшные проценты, в ожидании получения от деда своего состояния, за которым он и приехал теперь.
И дед Иоанн Иоаннович беспрекословно по толстым книгам, реестрам и записям передал внуку все, начиная с больших вотчин в разных губерниях и кончая камзолами, шубами, галунами и всякой рухлядью, которая нашлась в огромных кладовых того богатого дома, который он же, Иоанн Иоаннович, купил когда-то на имя внука.
– Захочу, ничего тебе не дам. Все мое. И ходов на меня к государыне не найдешь. Все мое! – грозился Иоанн Иоаннович, отдавая все до последней тряпки.
В два месяца времени, проведенного на берегах Невы, граф Кирилл Петрович обворожил всех придворных императрицы Елизаветы Петровны, и Шуваловых, и Разумовских; обворожил и «малый двор» великого князя Петра Федоровича. Но, несмотря ни на какие просьбы и убеждения, он все-таки тайком, через двух евреев банкиров, быстро распродал все свои вотчины, все до последней ложки и плошки и, простясь с негодующим дедом Иоанном Иоанновичем, уехал снова в свое истинное отечество.
XXVII
Граф Кирилл Петрович вернулся в Версаль и тотчас начал расплачиваться с долгами. Цифра вышла очень значительная, так как ему теперь пришлось заплатить втрое более того, что он когда-то брал, будучи под опекой деда. Треть суммы, вырученной через продажу русских имений, пошла на уплату.
На этот раз Кирилл Петрович недолго остался во Франции. В то же лето он отправился в Вену, о которой много слышал с детства как о самом веселом городе после Парижа. Однако кесарская столица ему не понравилась, тем более что он не знал ни слова по-немецки.
Между тем вся его недавняя жизнь в Версале, беспорядочная и распущенная, благодаря распущенности нравов двора короля донжуана, теперь начинала сказываться. Кирилл Петрович, будучи только двадцати четырех лет, стал сильно прихварывать, и на вид ему казалось уже за тридцать лет. Особенно дурно вдруг почувствовал он себя в Вене и, посоветовавшись с докторами, воспользовался летними месяцами, чтобы полечиться водами в красивом и уже знаменитом местечке – Карлсбаде.
Здесь-то неожиданно долженствовала решиться его участь, здесь простой случай должен был иметь влияние на всю его жизнь. В числе немногочисленных посетителей вод он встретил еще очень молоденькую женщину, которая даже его, избалованного красавицами Версаля, поразила своей замечательной красотой, благородством и грацией в малейшем движении. Ко всем прелестям незнакомки присоединялась еще одна, имевшая высокую цену в глазах графа Кирилла как всякого праздного волокиты. Красавица, которая не могла иметь более девятнадцати лет, была вдова.
Граф тотчас же познакомился с своей очаровательницей. Она оказалась немка, уроженка Баварии, по мужу баронесса Луиза фон Пфальц. Она, по словам ее, будучи круглой сиротой, выдана была насильно замуж за богатого старика барона и тотчас овдовела.
Затем – тратить много денег он не мог, так как деньги были поручены Спиридону. Что же касается до третьего пункта, то он был юноше совершенно неясен, потому что приказание деда сторониться от женского пола Эмиль, по глупости, перевел так, как сам понял, то есть совсем иначе. Эмиль сказал, переведя слова графа Иоанна Иоанновича с русского на французский:
– Ne touchez jamais le plancher[25 - Никогда не касайся пола (фр.).].
Дед, не понимавший ни слова по-французски, не исправил перевода. Вновь же нанятый француз Жоли понял и перевел третью заповедь дедушки:
– Evitez la societe des grandes dames![26 - Уклоняйся общества старых дам! (фр.)]
Оба варианта Эмиля и Жоли перепутались в голове Кирилла, и он сам не знал, как выпутаться из беды, чтобы исполнить третью мудреную заповедь.
XXVI
Переехав русскую границу и очутившись в Польском королевстве, а затем в веселой, пышной, красивой Варшаве, Кирилл как будто почуял вдруг всеми нервами своего существа иной дух, потянул в себя полною грудью иной, уже более теплый, почти весенний воздух и сразу ожил, сразу щеки его зарумянились, глаза заблестели.
– С,est un petit Paris![27 - Это маленький Париж! (фр.)] – воскликнул он, прогуливаясь по Краковскому предместью и по Саксонскому саду. Вдобавок теперь юноша был не «фертик» и не «путифиц», по дороге величали его титулом и называли внуком русского магната, родственником фаворита российской императрицы. Сам Кирилл не отказывался от этого.
Через полтора месяца пути, будучи в Париже, юноша не только окреп, поздоровел, развернулся, как бы нечаянно для самого себя, не только вышел из-под влияния и повиновения своих двух менторов, но даже приобрел вдруг некоторое влияние над ними. Случилось это очень просто.
Жоли был жирный и добрый француз, у которого была только одна страсть – спать. Всю дорогу, а затем и по приезде в Париж Жоли спал, и спал без просыпа. И, вероятно, от этого постоянного сна или от праздности и сытой пищи он окончательно отупел и соглашался на все, что делал и предлагал «Monsieur le vicomte»[28 - «Господин граф» (фр.).], как стал он звать питомца; соглашался он на все, вероятно, потому, чтобы не тревожить и не беспокоить своей лени отказом или спором.
Упрямый, глуповатый, но и грубоватый Спиридон, неограниченно и круто повелевавший и распоряжавшийся всем от графчика, ему вверенного, и до последнего винта в экипаже, притих вдруг, даже приуныл, даже как будто струсил. Тотчас по переезде границы российско-польской, во время двухдневного пребывания в Варшаве, холопская важность и хамово упрямство Спиридона много поубавились. Он все оглядывался, озирался кругом себя и дико прислушивался к полуродной польской речи. И как собака, хотя злая, но попавшая нечаянно в чужой дом, обнюхивается, поджимая хвост, и косит злыми, но боязливыми глазами, так и Спиридон ворчал, бранился, нападал на графчика, привязывался к Жоли, но, однако, тотчас же приходил к обоим с просьбой по поводу всякого пустяка.
– Не понимают, дьяволы! – говорил он. – Тридцать раз повторил, балуются, будто не смыслят. Подите скажите!
Но если в Польше Спиридон иногда вывертывался без помощи спутников, то, попав в Германию, а затем во Францию, он окончательно примолк и только неодобрительно покачивал головой, почесывал за ухом и думал про себя:
«Вот зажора-то! Покомандуй-ка поди! Заслал бы я тебя, – обращался он мысленно к барину, графу Иоанну Иоанновичу. – Заслал бы тебя сюда – и ты бы тут покаянного грешника изобразил!»
Таким образом, юноша, благодаря обстоятельствам и обстановке, благодаря беспробудному сну Жоли и беспомощному состоянию Спиридона на чужой стороне, среди чуждых ему людей, обычаев и языка, сразу стал независим. Кроме того, он нравственно встрепенулся, ожил, воскрес на тех местах, где родился, провел все детство, воспитывался и стал юношей и где, наконец, имел пропасть знакомых и друзей покойного отца.
Одно только ярмо и было теперь – зависимость денежных средств от деда, оставшегося там где-то, далеко, среди огромных сугробов и страшных морозов. Надо было кое-как прожить еще несколько лет под попечительством этого злого деда, и жить на гроши, которые он высылал.
– Когда буду совершеннолетним, – мечтал Кирилл, – выйду из опеки, продам заглазно все, что есть в России, и переведу все состояние во Францию.
То же самое, конечно, советовали ему здесь и друзья покойного отца. Некоторые полагали даже начать процесс, тотчас же освободить юношу из-под опеки старого тирана, изверга, «lours de la Neva»[29 - «Невский медведь» (фр.).], как прозвали они теперь Иоанна Иоанновича. И как еще недавно Кирилл был щедро награждаем дедушкой всякими прозвищами, смешными и дурацкими, так теперь юноша и его парижские знакомые в свою очередь изощрялись в прозвищах и названиях петербургскому деду, который был теперь «lours blanc, le vampire, le cyclope, le grand ogre»…[30 - «Белый медведь, вампир, циклоп, старый осел» (фр.).]
С самого приезда Кирилла на свою полуродину, то есть в Версаль, он поселился на том же бульваре, где был дом, в котором он долго жил, но которого теперь, конечно, не мог нанять, не имея средств своего отца. Обстоятельства особенно благоприятствовали, и петербургский узник, скоморох за столом деда, стал здесь сразу предметом всеобщего внимания и любезного обращения. Король знал его в лицо и при встрече милостиво кивал головой au jeune russe-versaillais[31 - Молодому русскому версальцу (фр.).]. Герцогини и маркизы тоже милостиво улыбались ему при встречах. Вскоре, наконец, одна из них, очень веселого поведения, приблизила к себе красивого юношу, как мимолетный каприз, и перезнакомила его с придворным кругом как сына всем знакомого, недавно еще умершего дипломата. Трудно было Спиридону перечить питомцу и обругать его здорово за то, что он, например, засиделся где-нибудь на вечеринке, когда он сам видел, что французский царь кланялся его графчику.
«Нагрубить ему, – рассуждал Спиридон, – нажалуется он на тебя здешним генералам, и что будет? Тебя ж и выпорют. Говорят, анафемы, что здесь, вишь, не порют! Враки! Верно знаю, что у них есть эдакое место за несколько верст от эвтой Версальи, куда никого не пущают и где всех генералов, и дворян, и нашего брата лакея не токмо страшнеюще порют розгами, а головы снимают и четвертуют на десять частей».
Но каково соображение было у Спиридона о четвертовании на десять частей, таково же было его составившееся понятие о Франции, Париже, Версале и королевском дворе. Он стал не на шутку бояться своего графчика и ожидать, что он как-нибудь нажалуется и его, не говоря худого слова, обезглавят или сошлют в какую-нибудь французскую Сибирь на вечные времена.
И Спиридон, чтобы ужиться и не пропасть, стал, насколько умел, ласков с графчиком. Но и это продолжалось недолго. Как Кирилл чах в Петербурге в доме деда, так и Спиридон, хотя здоровенный, стал чахнуть в Версале. Да и мудрено было, конечно, безвыходно и невозможно положение русского хама, костромича по происхождению, уроженца деревни Степкины Овражки, сотни раз битого и дранного на все лады, занесенного судьбой-мачехой… куда же? за несколько шагов от блестящего, пышного, сказочно великолепного двора короля, первого щеголя своего века, гуляющего среди стриженых аллей, бассейнов, фонтанов, среди целой толпы беломраморных статуй, целой сияющей толпы придворных. Положение Спиридона, разумеется, было такое же, каково положение таракана-пруссака, волею судеб очутившегося в изящной бонбоньерке, переполненной разными чудными и душистыми конфетами.
Так или иначе, но Спиридон начал чахнуть и слезно начал просить своего графчика проставить в цидулях, которые он отписывал аккуратно деду, чтобы его, раба, помиловали, простили и вернули на родимую сторону. Кирилл из жалости два раза написал деду, что Спиридон изнывает по отечеству и стал неузнаваем и жалок. Через шесть месяцев приехал в Версаль, довезенный каким-то русским, другой дядька, имя которого юноша Кирилл сразу и выговорить не мог. Новый дядька был молодой, умный и расторопный парень, показавшийся ему даже очень добрым малым; он был тоже с большущими, грубыми и красными руками, с особым запахом чего-то жирно-горького, как и Спиридон, а назывался по имени Агафаклей.
– Oh, mon Dieu![32 - О мой Бог! (фр.)] – воскликнул на это Кирилл. – A-ga-fa-cley!! Это ужасно! C,esi terrible. Надо будет переменить это имя, pour ne pas aboyer, когда придется называть. А то ведь все смеяться будут надо мной.
Агафаклей привез от Иоанна Иоанновича грозное послание насчет Спиридона, хотя и дозволявшее ему вернуться в Петербург, но обещавшее суд и расправу. Агафаклей на словах передал Спиридону Ефимычу, что ему «хоть и не езди в Расею! Сказывали во двору, что как он приедет, так его выпорют и в степную вотчину на скотный двор сошлют».
Но Спиридон, услыша это, возликовал:
– Пусть хоть в Сибирь сошлют! На скотный двор?! Да ты вот, Агафаклеюшка, поживешь тут малость, так увидишь. Это тебе так внове повадливо кажет. Тут жисть окаянная, паскудная, каторжная, пуще всякой Сибири. Слова сказать не с кем, лба перекрестить негде, ни одного храма. У них, подлецов, церквей и в заводе нет, а, вишь, леглизы свои. Захочешь коли молиться, так дома молись. Не идти ж в ихний леглиз. А то скотный двор! Да я хоть сотню коров на себя возьму, чем с здешним скотом расправляться.
При первой же случившейся оказии состоящий при польском посольстве в Версале магнат, уезжая на родину, по просьбе Кирилла захватил с собой Спиридона с обещанием из Кракова доставить его как-нибудь в Петербург. Кирилл послал со Спиридоном деду письмо, пространное и написанное в сообщничестве со своими друзьями в довольно решительном тоне. Он говорил, что при скудных посылках денег он при французском дворе срамит имя графов Скабронских и что сам король удивляется, как ему высылают на прожиток так мало средств. Кирилл в этом письме кончал угрозой деду, что если он не будет высылать ему по крайней мере пятьсот червонцев в год на жизнь, то он по совету здешних министров и по желанию даже самого короля перейдет во французское подданство и законным порядком вытребует все свое состояние.
Спиридон, три месяца пробыв в пути от Avenue du Roi[33 - Королевский проспект (фр.).] до Васильевского острова, сияющий, счастливый и поздоровевший по вступлении на русскую землю, явился перед ясные очи Иоанна Иоанновича. В тот же вечер граф, прочитав привезенное ему французское и дерзкое послание внучка, велел Спиридона заковать в кандалы. И плохо пришлось бы Спиридону, если бы не случилось казуса.
Иоанн Иоаннович справился через день:
– Что, Спирька присмирел в цепях-то?
Но графу доложили, что Спиридон ликует и, сидя в сарае скованный, радуется, все крестится, Господа Бога благодарит да сказывает: пущай его в кандалах в старый высохнувший колодец посадит граф – и то будет Бога благодарить.
Вследствие этого Иоанн Иоаннович призвал к себе Спиридона и, беседуя с ним, велел снять с него кандалы.
Спиридон объяснил, что предпочтет быть живым зарытому в землю, только в матушку русскую сыру землю. И затем в продолжение нескольких часов Иоанн Иоаннович расспрашивал Спиридона обо всем: о внуке, о Версале, о короле, о житье-бытье за границами государства. И наконец, Иоанн Иоаннович вдруг сам удивился тому, что оказалось само собой.
Оказалось, что Спиридон такой любопытный собеседник, так много видел и знает, так речисто все описует, так ненавидит и злобствует на все заморское и так рад вернуться к нему, старому барину, в услужение, что этакого человека не только грех, а глупость несообразная в степную деревню сослать или в Сибирь в кандалах угнать.
Через месяц Спиридон, вместо того чтобы быть острожником или ссыльным, сделался в палатах Иоанна Иоанновича не более не менее как главным заправилой и самым приближенным лицом к барину.
Что касается до письма, привезенного от внука, Иоанн Иоаннович изорвал его в клочки и только изредка, вспоминая окончание письма, угрозы молокососа и расхрабрившегося издали путифица, качал головой и бормотал:
– Подрастешь, вестимое дело, все твое имение и иждивение тебе в целости и сохранности передам. А покуда извини, путифицушка, посидишь у меня в энтой Версали и на сто червончиков в год.
Через шесть лет по возвращении Спиридона возвратился в Петербург и сам молодой граф Кирилл Петрович Скабронский и прямо остановился у деда.
Но с ним случилось такое удивительное превращение, что Иоанн Иоаннович диву дался. Черты лица были, конечно, те же, но двадцатитрехлетний молодой человек так себя вел и держал, так говорил, что уж его теперь мудрено было скоморохом поставить. Обзови его «путифицем» – он сам каким-нибудь дурацким прозвищем сдачи даст и, чего доброго, дедушку Кащеем Бессмертным назовет. Граф Кирилл стал совсем француз и даже парижанин, был друг и приятель придворного кружка в Версале и жил за последнее время при дворе очень широко, бросая золото чуть не за окошки своего великолепного отеля; но это делалось, конечно, в долг, за страшные проценты, в ожидании получения от деда своего состояния, за которым он и приехал теперь.
И дед Иоанн Иоаннович беспрекословно по толстым книгам, реестрам и записям передал внуку все, начиная с больших вотчин в разных губерниях и кончая камзолами, шубами, галунами и всякой рухлядью, которая нашлась в огромных кладовых того богатого дома, который он же, Иоанн Иоаннович, купил когда-то на имя внука.
– Захочу, ничего тебе не дам. Все мое. И ходов на меня к государыне не найдешь. Все мое! – грозился Иоанн Иоаннович, отдавая все до последней тряпки.
В два месяца времени, проведенного на берегах Невы, граф Кирилл Петрович обворожил всех придворных императрицы Елизаветы Петровны, и Шуваловых, и Разумовских; обворожил и «малый двор» великого князя Петра Федоровича. Но, несмотря ни на какие просьбы и убеждения, он все-таки тайком, через двух евреев банкиров, быстро распродал все свои вотчины, все до последней ложки и плошки и, простясь с негодующим дедом Иоанном Иоанновичем, уехал снова в свое истинное отечество.
XXVII
Граф Кирилл Петрович вернулся в Версаль и тотчас начал расплачиваться с долгами. Цифра вышла очень значительная, так как ему теперь пришлось заплатить втрое более того, что он когда-то брал, будучи под опекой деда. Треть суммы, вырученной через продажу русских имений, пошла на уплату.
На этот раз Кирилл Петрович недолго остался во Франции. В то же лето он отправился в Вену, о которой много слышал с детства как о самом веселом городе после Парижа. Однако кесарская столица ему не понравилась, тем более что он не знал ни слова по-немецки.
Между тем вся его недавняя жизнь в Версале, беспорядочная и распущенная, благодаря распущенности нравов двора короля донжуана, теперь начинала сказываться. Кирилл Петрович, будучи только двадцати четырех лет, стал сильно прихварывать, и на вид ему казалось уже за тридцать лет. Особенно дурно вдруг почувствовал он себя в Вене и, посоветовавшись с докторами, воспользовался летними месяцами, чтобы полечиться водами в красивом и уже знаменитом местечке – Карлсбаде.
Здесь-то неожиданно долженствовала решиться его участь, здесь простой случай должен был иметь влияние на всю его жизнь. В числе немногочисленных посетителей вод он встретил еще очень молоденькую женщину, которая даже его, избалованного красавицами Версаля, поразила своей замечательной красотой, благородством и грацией в малейшем движении. Ко всем прелестям незнакомки присоединялась еще одна, имевшая высокую цену в глазах графа Кирилла как всякого праздного волокиты. Красавица, которая не могла иметь более девятнадцати лет, была вдова.
Граф тотчас же познакомился с своей очаровательницей. Она оказалась немка, уроженка Баварии, по мужу баронесса Луиза фон Пфальц. Она, по словам ее, будучи круглой сиротой, выдана была насильно замуж за богатого старика барона и тотчас овдовела.