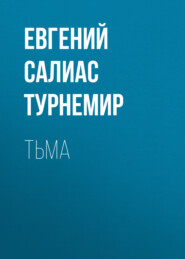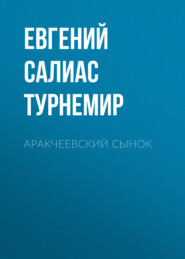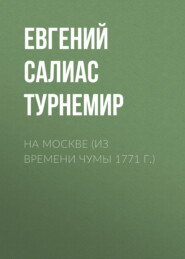По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петербургское действо. Том 1
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фленсбург выронил на пол свою шляпу, взял обе так мило и ребячески протянутые руки и стал целовать их.
– Да! Вы ребенок, капризный ребенок, – вымолвил он, и, снова выпрямившись, он тихо потянул ее за руки, потом взял их в одну руку, а свободная рука его скользнула вокруг бюста молодой женщины. Лицо его, слегка смущенное, близилось к ее лицу. – Маргарита! – шепотом произнес он с оттенком вопроса в голосе.
Но графиня вдруг отступила на шаг, слегка оттолкнула его и вымолвила:
– Нет. В этом доме есть умирающий. Пускай он умрет, тогда… увидим.
– Но это каприз, – тихо выговорил Фленсбург.
– Нет. Да, наконец, кроме того… – Маргарита запнулась, потом вдруг весело рассмеялась, отняла руки и вымолвила: – Прежде выучитесь безгласному повиновению. Я всегда ненавидела людей с характером, всегда любила овечек в мужском образе. Если любите, то переродитесь, а главное, – снова весело рассмеялась она, – главное, господин бывший ссыльный, вспомните уроки, полученные на родине, и снова станьте вежливы с дамами.
Фленсбург постоял несколько минут молча, потом, увидя свою шляпу на полу, поднял ее и наконец произнес:
– Все то же, всегда, везде. Кокетство и глупая игра. Насколько я отношусь искренне, настолько вы шутите. Скажите мне, наконец, серьезно, в последний раз: когда этот, там, умрет – выскажетесь вы? Или эта игра будет продолжаться и после его смерти?
– Да! Тогда я выскажусь! – таким странным голосом ответила Маргарита, что совершенно нельзя было понять, шутит она, или говорит серьезно, или, наконец, умышленно отвечает двусмысленностью.
Фленсбург нетерпеливо пожал плечами и, выговорив сухо: «До свидания», вышел из горницы.
– Какая чепуха! – произнесла тихо Маргарита ему вслед. – Dumm! Dumm! Dumm!..[46 - Дурак! Дурак! Дурак! (нем.)] И все вы таковы.
Она простояла несколько минут, не двигаясь с места и озабоченная новой мыслью. Она искала сравнения и, вдруг найдя его, громко рассмеялась.
– Да, похож! Удивительно похож!.. – воскликнула она.
В эту минуту в гостиную влетела Лотхен, как всегда улыбающаяся и веселая.
– Я думала, он никогда не уедет! – затараторила немка. – И посмотрите, что значит провести столько часов с возлюбленным! У вас сияющее лицо, счастливые глаза, райская улыбка!..
– Лотхен, – смеясь, выговорила графиня, – скажи мне, как по-твоему, на что похож лицом господин Фленсбург? Не правда ли… это датский бульдог?
Лотхен замерла на месте, как пораженная громом.
– Так он не был вашим… – заговорила Лотхен и запнулась.
– Любовником? – рассмеялась Маргарита. – Говори прямо.
– Ну да, он не был никогда?
– Никогда.
– И не будет?
– Не будет.
– Ах, Grдfin, liebe Grдfin! – запрыгала на месте Лотхен. – Ах, как я счастлива! Но кто ж тогда будет? – воскликнула она снова. – Дедушка?
– Да, Лотхен, но с условием: ты мне покажешь пример. Я после тебя…
И обе женщины начали так громко хохотать, что больной, дремавший наверху, проснулся, открыл глаза и тяжело вздохнул.
Этот постоянный хохот внизу, которым его будто провожали ежедневно на тот свет, действовал на него теперь невыносимо больно и уже раза два вызывал на глаза его слезы.
IX
Шепелев сам не знал, что с ним делается за последнее время. Он переменился, похудел и побледнел.
Болезнь его, однако, состояла только в том, что он и день и ночь напролет думал о графине Скабронской. Разумеется, он смутно понимал, что влюблен со всем пылом страсти своих двадцати лет, хотя и сознавал, как бессмысленно, глупо, даже дерзко влюбиться в такую блестящую красавицу из высшего столичного круга. Между ним, рядовым, и ею была целая пропасть.
Юноша, только что поступивший в ряды гвардии, был почти без всяких средств благодаря разорившемуся отцу и без всякой протекции благодаря неожиданной смерти Шувалова, на покровительство которого надеялась его мать, снаряжая сына на службу.
Шепелев был настолько образован и благовоспитан, насколько мог быть юноша из старой дворянской семьи, слегка захудалой, но еще недавно пользовавшейся большими средствами. До появления в Петербурге он жил с матерью в Калуге. Лето проходило в большой и красивой усадьбе с большим количеством дворни, исполнявшей все прихоти барича, так как он был единственное и возлюбленное чадо барыни-вдовы. Зимы проводились в городе Калуге, где все общество было или дальней родней, или друзьями из рода в род. У матери было много приятельниц, и благодаря ее вдовству общество, собиравшееся у нее зимой и гостившее у нее летом в вотчине, было исключительно женское. Все это были тетушки, двоюродные сестры, племянницы и, наконец, приятельницы. Совершенно случайно маленький Митя, с тех пор как помнил себя, был постоянно окружен женщинами всех лет и возрастов, и все они равно баловали его.
Вследствие этого в юношеские года оказалась одна странность в его характере. Женщина – старуха ли, молодая ли девушка – была для него свой брат, и он никогда не стеснялся, не смущался и не робел никакой барыни. Напротив того, не только сорокалетний сановник, но всякий даже молодой человек, появлявшийся в доме матери или встречаемый где-либо, ставил его в неловкое положение. Как юноша, выросший в обществе мужчин, конфузится обыкновенно перед какой-нибудь светской кокеткой, случайно оставшись с ней наедине, так Шепелев конфузился всякой мужской компании, в которую случайно попадал.
До прибытия в Петербург юноша не знал, что такое быть влюбленным, именно потому, что слишком много было вокруг него всякого рода молодых девушек и женщин и на всех них он глядел как на товарищей. И наоборот, один молодой офицер, заехавший на побывку в Калугу, блестящий петербургский гвардеец, обошедшийся с юношей очень ласково, победил его сердце. Шепелев плакал, когда офицер уехал, и в нем осталось к нему такое чувство, которое похоже было на первую любовь.
Поселившись теперь у незнакомого человека, считавшегося дядей, в сущности грубого, хотя доброго и сердечного человека, Шепелев чувствовал себя так же неловко в этой обстановке солдат и офицеров, как другой юноша, выпорхнувший из-под крылышка матери, чувствовал бы себя среди сотни блестящих светских красавиц. Мужская среда не была его средой, и он тяготился ею.
Каким образом и почему красивая незнакомка, спасшая его в овраге, могла так быстро завладеть его разумом и всем его существом, он сам не знал. Правда, она красавица. Но ведь он не сказал с ней и трех слов! Да и мало ли видал он красавиц!
Аким Акимыч беспокоился, руками разводил, видя перемену в племяннике, и, не понимая, что с ним делается, заставлял юношу несколько раз пить липовый цвет и обтираться французской водкой с уксусом и с хреном.
Шепелев, чтобы отвязаться от приставаний дяди, проделывал все это, печально усмехаясь и думая:
«Да, кабы через французскую водку, хрен да через липовый цвет можно было познакомиться с этой графиней Скабронской, так я бы, пожалуй, несколько бочек выпил».
И действительно, мысль о том, чтобы познакомиться с блестящей красавицей, не покидала его ни на минуту. Другой не решился бы никогда и подумать об этом; другому показалось бы оно нелепым и невозможным. Но юноша, выросший среди всяких женщин, не смущался. Он не боялся, что не будет знать, что сказать этой красавице и как вести себя.
Через несколько дней Шепелев надумался, что надо как можно более заводить знакомств в Петербурге, начав с офицеров полка и их семейств. Тогда где-нибудь да удастся повстречать графиню. И он начал знакомиться. Благодаря своей красивой внешности и, главное, какой-то женственной грации, утонченной вежливости и скромности, последствий женского воспитания и женской среды, он был принят повсюду ласково и охотно.
Но, как нарочно, все семейства, в которых появлялся он, не были знакомы с графиней Скабронской. У одной из петербургских львиц она бывала часто, но это была знаменитая Апраксина, приятельница того же Орлова, а познакомиться ближе с Орловым он не мог. Дядя Квасов и слышать об этом не хотел, за его короткий визит к ним он целую неделю бранил и попрекал племянника.
– Нешто это компания для тебя? – говорил Аким Акимыч. – Орловы картежники, буяны, головорезы. Не ныне завтра они в остроге будут.
Чувствуя, что он один не добьется ничего, Шепелев, видаясь часто с Державиным, единственным своим приятелем, решился искренне признаться ему во всем.
Такой же юноша, как и он, Державин давно заметил, что ученик стал плохо учиться по-немецки, рассеян и печален, задумчив и бледен. Но Шепелев в своем приятеле не нашел никакой поддержки. Державин отнесся к исповеди приятеля хладнокровно.
Жизнь Державина была совершенно иная. Он бился как рыба об лед. Солдатки перестали заказывать ему свои писули и грамотки, и ему снова пришлось, как простому рядовому, без протекции, исполнять разные тяжелые работы; снова пришлось браться за метлу и лопату, участвовать в тех партиях, которые назначались копать по городу и очищать дворы сановников.
Когда Шепелев явился однажды в каморку своего друга снова плакаться о своей судьбе, то нашел Державина сидящим на своем сундучке с головой, опущенной на руки.
– Что ты? Или голова болит? – спросил Шепелев.
– Да, есть малость, но это не лих. А лих вот что – сломает меня эта жизнь. Не знал я, что, надев эту амуницию, попаду в дворники. Сегодня опять восемь часов Фонтанку копали. Спину не разогнешь, руки и ноги – как деревянные, болит все везде.
Действительно, за это время Державин тоже слегка похудел, но по причинам, совершенно противоположным, нежели Шепелев.
– Да! Вы ребенок, капризный ребенок, – вымолвил он, и, снова выпрямившись, он тихо потянул ее за руки, потом взял их в одну руку, а свободная рука его скользнула вокруг бюста молодой женщины. Лицо его, слегка смущенное, близилось к ее лицу. – Маргарита! – шепотом произнес он с оттенком вопроса в голосе.
Но графиня вдруг отступила на шаг, слегка оттолкнула его и вымолвила:
– Нет. В этом доме есть умирающий. Пускай он умрет, тогда… увидим.
– Но это каприз, – тихо выговорил Фленсбург.
– Нет. Да, наконец, кроме того… – Маргарита запнулась, потом вдруг весело рассмеялась, отняла руки и вымолвила: – Прежде выучитесь безгласному повиновению. Я всегда ненавидела людей с характером, всегда любила овечек в мужском образе. Если любите, то переродитесь, а главное, – снова весело рассмеялась она, – главное, господин бывший ссыльный, вспомните уроки, полученные на родине, и снова станьте вежливы с дамами.
Фленсбург постоял несколько минут молча, потом, увидя свою шляпу на полу, поднял ее и наконец произнес:
– Все то же, всегда, везде. Кокетство и глупая игра. Насколько я отношусь искренне, настолько вы шутите. Скажите мне, наконец, серьезно, в последний раз: когда этот, там, умрет – выскажетесь вы? Или эта игра будет продолжаться и после его смерти?
– Да! Тогда я выскажусь! – таким странным голосом ответила Маргарита, что совершенно нельзя было понять, шутит она, или говорит серьезно, или, наконец, умышленно отвечает двусмысленностью.
Фленсбург нетерпеливо пожал плечами и, выговорив сухо: «До свидания», вышел из горницы.
– Какая чепуха! – произнесла тихо Маргарита ему вслед. – Dumm! Dumm! Dumm!..[46 - Дурак! Дурак! Дурак! (нем.)] И все вы таковы.
Она простояла несколько минут, не двигаясь с места и озабоченная новой мыслью. Она искала сравнения и, вдруг найдя его, громко рассмеялась.
– Да, похож! Удивительно похож!.. – воскликнула она.
В эту минуту в гостиную влетела Лотхен, как всегда улыбающаяся и веселая.
– Я думала, он никогда не уедет! – затараторила немка. – И посмотрите, что значит провести столько часов с возлюбленным! У вас сияющее лицо, счастливые глаза, райская улыбка!..
– Лотхен, – смеясь, выговорила графиня, – скажи мне, как по-твоему, на что похож лицом господин Фленсбург? Не правда ли… это датский бульдог?
Лотхен замерла на месте, как пораженная громом.
– Так он не был вашим… – заговорила Лотхен и запнулась.
– Любовником? – рассмеялась Маргарита. – Говори прямо.
– Ну да, он не был никогда?
– Никогда.
– И не будет?
– Не будет.
– Ах, Grдfin, liebe Grдfin! – запрыгала на месте Лотхен. – Ах, как я счастлива! Но кто ж тогда будет? – воскликнула она снова. – Дедушка?
– Да, Лотхен, но с условием: ты мне покажешь пример. Я после тебя…
И обе женщины начали так громко хохотать, что больной, дремавший наверху, проснулся, открыл глаза и тяжело вздохнул.
Этот постоянный хохот внизу, которым его будто провожали ежедневно на тот свет, действовал на него теперь невыносимо больно и уже раза два вызывал на глаза его слезы.
IX
Шепелев сам не знал, что с ним делается за последнее время. Он переменился, похудел и побледнел.
Болезнь его, однако, состояла только в том, что он и день и ночь напролет думал о графине Скабронской. Разумеется, он смутно понимал, что влюблен со всем пылом страсти своих двадцати лет, хотя и сознавал, как бессмысленно, глупо, даже дерзко влюбиться в такую блестящую красавицу из высшего столичного круга. Между ним, рядовым, и ею была целая пропасть.
Юноша, только что поступивший в ряды гвардии, был почти без всяких средств благодаря разорившемуся отцу и без всякой протекции благодаря неожиданной смерти Шувалова, на покровительство которого надеялась его мать, снаряжая сына на службу.
Шепелев был настолько образован и благовоспитан, насколько мог быть юноша из старой дворянской семьи, слегка захудалой, но еще недавно пользовавшейся большими средствами. До появления в Петербурге он жил с матерью в Калуге. Лето проходило в большой и красивой усадьбе с большим количеством дворни, исполнявшей все прихоти барича, так как он был единственное и возлюбленное чадо барыни-вдовы. Зимы проводились в городе Калуге, где все общество было или дальней родней, или друзьями из рода в род. У матери было много приятельниц, и благодаря ее вдовству общество, собиравшееся у нее зимой и гостившее у нее летом в вотчине, было исключительно женское. Все это были тетушки, двоюродные сестры, племянницы и, наконец, приятельницы. Совершенно случайно маленький Митя, с тех пор как помнил себя, был постоянно окружен женщинами всех лет и возрастов, и все они равно баловали его.
Вследствие этого в юношеские года оказалась одна странность в его характере. Женщина – старуха ли, молодая ли девушка – была для него свой брат, и он никогда не стеснялся, не смущался и не робел никакой барыни. Напротив того, не только сорокалетний сановник, но всякий даже молодой человек, появлявшийся в доме матери или встречаемый где-либо, ставил его в неловкое положение. Как юноша, выросший в обществе мужчин, конфузится обыкновенно перед какой-нибудь светской кокеткой, случайно оставшись с ней наедине, так Шепелев конфузился всякой мужской компании, в которую случайно попадал.
До прибытия в Петербург юноша не знал, что такое быть влюбленным, именно потому, что слишком много было вокруг него всякого рода молодых девушек и женщин и на всех них он глядел как на товарищей. И наоборот, один молодой офицер, заехавший на побывку в Калугу, блестящий петербургский гвардеец, обошедшийся с юношей очень ласково, победил его сердце. Шепелев плакал, когда офицер уехал, и в нем осталось к нему такое чувство, которое похоже было на первую любовь.
Поселившись теперь у незнакомого человека, считавшегося дядей, в сущности грубого, хотя доброго и сердечного человека, Шепелев чувствовал себя так же неловко в этой обстановке солдат и офицеров, как другой юноша, выпорхнувший из-под крылышка матери, чувствовал бы себя среди сотни блестящих светских красавиц. Мужская среда не была его средой, и он тяготился ею.
Каким образом и почему красивая незнакомка, спасшая его в овраге, могла так быстро завладеть его разумом и всем его существом, он сам не знал. Правда, она красавица. Но ведь он не сказал с ней и трех слов! Да и мало ли видал он красавиц!
Аким Акимыч беспокоился, руками разводил, видя перемену в племяннике, и, не понимая, что с ним делается, заставлял юношу несколько раз пить липовый цвет и обтираться французской водкой с уксусом и с хреном.
Шепелев, чтобы отвязаться от приставаний дяди, проделывал все это, печально усмехаясь и думая:
«Да, кабы через французскую водку, хрен да через липовый цвет можно было познакомиться с этой графиней Скабронской, так я бы, пожалуй, несколько бочек выпил».
И действительно, мысль о том, чтобы познакомиться с блестящей красавицей, не покидала его ни на минуту. Другой не решился бы никогда и подумать об этом; другому показалось бы оно нелепым и невозможным. Но юноша, выросший среди всяких женщин, не смущался. Он не боялся, что не будет знать, что сказать этой красавице и как вести себя.
Через несколько дней Шепелев надумался, что надо как можно более заводить знакомств в Петербурге, начав с офицеров полка и их семейств. Тогда где-нибудь да удастся повстречать графиню. И он начал знакомиться. Благодаря своей красивой внешности и, главное, какой-то женственной грации, утонченной вежливости и скромности, последствий женского воспитания и женской среды, он был принят повсюду ласково и охотно.
Но, как нарочно, все семейства, в которых появлялся он, не были знакомы с графиней Скабронской. У одной из петербургских львиц она бывала часто, но это была знаменитая Апраксина, приятельница того же Орлова, а познакомиться ближе с Орловым он не мог. Дядя Квасов и слышать об этом не хотел, за его короткий визит к ним он целую неделю бранил и попрекал племянника.
– Нешто это компания для тебя? – говорил Аким Акимыч. – Орловы картежники, буяны, головорезы. Не ныне завтра они в остроге будут.
Чувствуя, что он один не добьется ничего, Шепелев, видаясь часто с Державиным, единственным своим приятелем, решился искренне признаться ему во всем.
Такой же юноша, как и он, Державин давно заметил, что ученик стал плохо учиться по-немецки, рассеян и печален, задумчив и бледен. Но Шепелев в своем приятеле не нашел никакой поддержки. Державин отнесся к исповеди приятеля хладнокровно.
Жизнь Державина была совершенно иная. Он бился как рыба об лед. Солдатки перестали заказывать ему свои писули и грамотки, и ему снова пришлось, как простому рядовому, без протекции, исполнять разные тяжелые работы; снова пришлось браться за метлу и лопату, участвовать в тех партиях, которые назначались копать по городу и очищать дворы сановников.
Когда Шепелев явился однажды в каморку своего друга снова плакаться о своей судьбе, то нашел Державина сидящим на своем сундучке с головой, опущенной на руки.
– Что ты? Или голова болит? – спросил Шепелев.
– Да, есть малость, но это не лих. А лих вот что – сломает меня эта жизнь. Не знал я, что, надев эту амуницию, попаду в дворники. Сегодня опять восемь часов Фонтанку копали. Спину не разогнешь, руки и ноги – как деревянные, болит все везде.
Действительно, за это время Державин тоже слегка похудел, но по причинам, совершенно противоположным, нежели Шепелев.