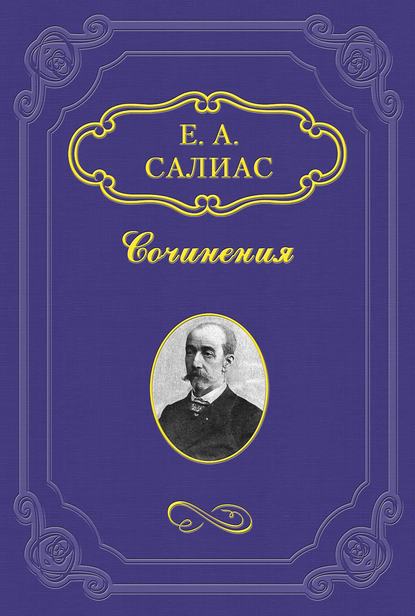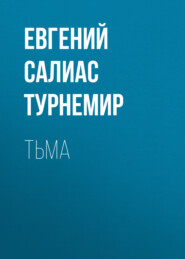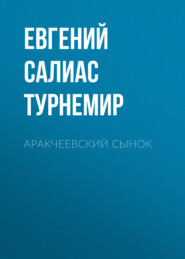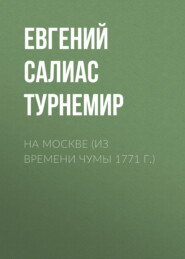По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский сынок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шумский приостановился и подумал: «Робеешь, брат? Теперь поздно!»
– Я имею честь просить у вас руки баронессы, – проговорил молодой человек таким упавшим голосом, как если бы просил барона взять пистолет и на месте застрелить его.
XXXIX
Барон встрепенулся. Он ждал уже, конечно, этих слов, но тем не менее произнесение их подействовало на него, как сильный толчок. И в первое же мгновение глазам честолюбца Нейдшильда представилось, как он обнимается и целуется с графом Аракчеевым, как он говорит ему «ты» и «наши дети».
Через мгновение барон уже увидел себя в громадном дом Грузина близким родственником временщика-владельца, дедом родным будущего владельца. Еще через мгновение этот домик на Васильевском острове уже наполнился густой толпой просителей – военных и штатских генералов, ждущих покровительства и милостей от всесильного в Петербурге аракчеевского родственника, сановника Нейдшильда.
От этого умственного прыганья у барона закружилась голова, и он невольно откачнулся и прислонился спиною к креслу.
Наконец, он услыхал смущенный голос Шумского, говорившего:
– Ваше молчание, барон, меня тревожит.
Нейдшильд пришел в себя, хотел заговорить и не знал, что сказать.
– Я так… Не знаю, право. Конечно, я польщен. Мне эта честь… Но я буду просить вас…
И барон смолк.
Опять целая толпа всяких сановников нахлынула сюда в кабинет из столовой с поклонами, просьбами и бумагами, и, обступая, теснясь, чуть не придавила его к креслу. Нейдшильд провел рукой по лбу, отогнал от себя все видения, взглянул более осмысленным взором на Шумского и вымолвил, протягивая руку:
– Благодарю вас. Я рад, что этим, конечно, прежде всего все извиняется, уничтожается. Но я никакого ответа не могу дать. Мне надо спросить дочь. Я ее люблю, она – мое единственное счастие в жизни. Она… Ева…
И барон вдруг прослезился и полез за носовым платком в карман.
– Конечно, барон. Но зачем откладывать? Зачем не поступить гораздо проще. Попросите баронессу сюда и объявите ей. Или я скажу…
– Нет, нет, как можно!
– Отчего же?
– Нет, право. Я не знаю… Я лучше сегодня скажу Еве, переговорю с ней и дам вам знать. Вы приедете. Или завтра…
– Нет, барон. Я не могу. Войдите в мое положение. Эти сутки ожидания измучают меня насмерть. Это пытка. Что бы ни было, но лучше сейчас же услыхать из уст самой баронессы свою судьбу. Так, по крайней мере, я тотчас же стану счастливейший из смертных, или же к вечеру буду уже на том свете.
– Как! – вскрикнул барон.
– Конечно. Неужели вы думаете, что если баронесса откажет навек соединить свою судьбу с моею, то я могу оставаться на белом свете! – горячо произнес Шумский и прибавил про себя:
«В любом романе не скажут лучше». Шумский встал с места, взял барона за обе руки и, ласково глядя и улыбаясь, приподнял его с места.
– Идите, барон, зовите сюда вашу дочь и решайте. Будьте моими спасителями или моими палачами.
Барон поднялся и сразу, быстро, как бы желая поскорее убежать от настойчивости Шумского, вышел из кабинета.
Молодой человек стал среди горницы, растопыря ноги, и, глядя в пол, прошептал, кисло ухмыляясь, но взволнованно:
– Лечу! Да, лечу! Или попаду на тот край, или вверх тормашками в бездонную пропасть! А что хуже – самому дьяволу чертовичу, господину сатанинскому неизвестно. Нет, уж лучше перескочить! А оттуда обратно найдем тропиночку потайную, кустиками, ночью, чтобы никто не видел и не приметил.
Помолчав немного, он снова забормотал вслух:
– Удивительное создание человек Божий! Собираешься вместе и жениться, и умертвить… Или это я такой уродился! Должно быть, все таковы, только из ста человек девяносто девять блудливы, как кошки, да трусливы, как зайцы.
Но в эту минуту Шумский вздрогнул, смутился и, приблизившись к креслу, оперся на него. Ему показалось, что у него от волнения подкашиваются ноги. Из столовой через отворенную дверь ясно послышались шаги барона и шуршанье платья.
Дверь отворилась. Нейдшильд вошел быстро, и Шумский увидел фигуру, которая сразу сказала ему все. Лицо барона сияло сквозь смущение.
Вслед за ним тихо появилась, как привидение, Ева. Она была в своем неизменно белом платье и неизменно красива. Только румянец сильнее горел на ее щеках и глаза были опущены.
Шумский поклонился, но Ева не видела его поклона. Она была, действительно, крайне смущена и двигалась неровной походкой.
– Садись, садись, – заспешил барон, как бы опасаясь, что дочь упадет середи комнаты.
И взяв Еву за руку, он посадил ее на кресло, около которого стоял Шумский. Подставив ему стул, барон, также спеша и растерянным движеньем, сел на свое место.
Шумский ждал, что он заговорит, но, увидя его смущенную фигуру, сам прервал молчание.
– Баронесса! Прежде чем отвечать мне, – тихо заговорил он, – подумайте. Не убивайте меня одним словом – роковым словом! Если вы теперь не можете сделать меня счастливейшим из смертных, то лучше подождать; у меня будет надежда в смущенном сердце… Я лучше буду ждать и долго ждать, лелея мысль, что я вам не чужой, нежели тотчас услыхать свой смертный приговор.
И, несмотря на волнение, в котором был Шумский, в его голове промелькнула мысль:
«Вот эдак-то, слово в слово, кто-то такой изъясняется в романе «Злосчастный Адольф».
И, вместе с тем, Шумский, смотря на девушку, пожирал ее глазами и снова убеждался в сотый раз, что она, действительно, замечательно красива собой, что красивее ее он никогда не встречал никого. За то время, что он не видал ее, Ева стала еще прелестнее. Она подняла глаза на Шумского, как бы осветила его на мгновение очаровательным синим светом, и, зардевшись, снова потупилась.
– Я не знаю, – залепетала она едва слышно, хотя взгляд ее уже сказал Шумскому многое. Он вздохнул и подумал:
«Нет. Неправда. Тебя можно будет любить долго!»
– Вы нам дадите два дня на размышление, Михаил Андреевич, – проговорил барон робко.
– Я уже вам объяснял, барон, и повторяю, что в таком важном вопросе – что может значить размышление? На это нужен год или одно мгновение. Если вы, баронесса, никого не любите и ваше сердце свободно, то я сумею заставить вас полюбить себя! Вся моя жизнь будет посвящена на то, чтобы сделать вас счастливой и заслужить вашу любовь.
– Все это так неожиданно, – заговорила Ева едва слышно, – что я не могу… я не знаю.
– Но могу ли я надеяться! – вскрикнул Шумский. – Дайте мне хоть тень надежды, что скоро я буду счастлив. Скажите мне, что вы почти согласны. Или скажите, что я вам ненавистен, что своим дерзким появлением и поведением у вас в доме г. Андреев сумел заслужить только одно ваше презрение или ненависть!
– Нет! – твердо произнесла Ева, не подымая глаз, и прибавила чуть слышно: – Напротив…
Это отрицание по отношению к Андрееву все сказало Шумскому. Он сразу понял, почти почувствовал по ее голосу, что она была неравнодушна к Андрееву и только сдерживала себя, а теперь рада сознаться…
Шумский вдруг поднялся с места, упал на колени перед Евой и воскликнул:
– Одно слово! Ради Бога! Сейчас.
Барон при движении молодого человека вскочил с места и бессмысленно задвигал руками.