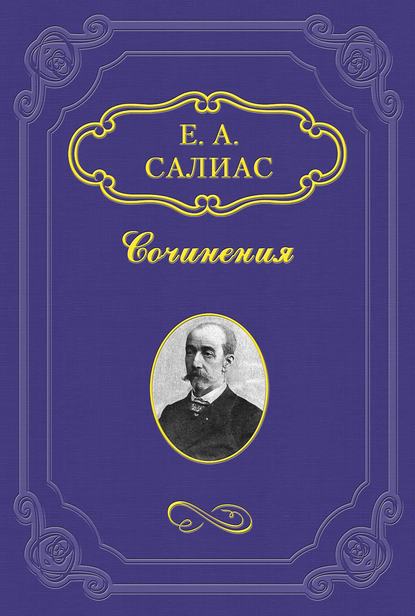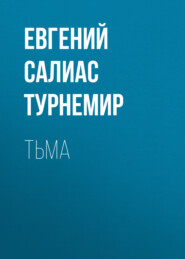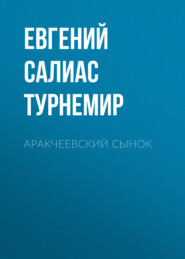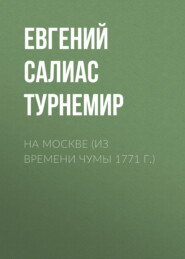По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский сынок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он поднял упавшие листки и передал их Квашнину, который быстро начал читать красивый и разборчивый почерк барона.
Письмо было чрезвычайно пространно и хотя толково написано, но витиевато и фигурно, с претензиями на то, что очень любил барон – le style epistolaire[32 - Эпистолярный стиль (фр.).]. Вдобавок письмо было в третьем лице.
Барон писал, что несмотря на данное им слово и согласие на брак дочери, он должен взять это слово назад и не только отказать г. Шумскому, но одновременно с этим отказом согласиться на бракосочетание баронессы с дальним их родственником фон Энзе. Действовать так странно и необычно для дворянина барон принужден вследствие чрезвычайно исключительных обстоятельств. Фон Энзе представил барону доказательства первостепенной важности того, что баронесса никоим образом не должна стать женою г. Шумского.
Разъяснения этих едва вероятных, подавляющих обстоятельств барон не желает, так как оно поведет только к огласке и соблазну. Барон не удивится, если узнает, что сам г. Шумский в полном неведении той причины, которая понуждает его, барона, взять свое слово назад.
Баронесса Нейдшильд, дворянка, принадлежащая к одному из древнейших родов Финляндии, она последний отпрыск знаменитой и славной в шведской истории фамилии Нейдшильдов, которые были в родстве с потомками Густава Вазы. И баронесса, как праправнучка Вазы, не имеет права стать женою человека не равного с ней происхождения.
– Уй, батюшки! – не выдержал Ханенко, – Вазы-то зачем он приплел? До горшков дело дойдет…
Квашнин нетерпеливо махнул рукой на капитана и продолжал читать.
Барон говорил, что поспешил дать свое согласие на брак дочери с г. фон Энзе для того, чтобы прекратить всякие толки и скорее дать дочери законного заступника, так как он, в его года, уж не может рыцарски защищать дочь от злоязычия светского.
Затем особенно пространно и очень осторожно барон намекал, что он в настоящем, невероятно щекотливом случае готов даже на крайность, готов отказаться, что когда-либо соглашался на брак баронессы с Шуйским. Барон туманно объяснял, что в случае подобных вопросов и разговоров в обществе, он будет отвечать, что никогда не соглашался на этот брак и что если г. Шумский рассказал это кому-либо в Петербурге, то это была… ошибка!
Барон прибавлял, что если барон Нейдшильд действует в данном случае не совсем правильно, то он вынужден так поступать теми же поразительно невероятными обстоятельствами, которые г. Шумскому, быть может, даже и неведомы. В конце письма барон просил избавить его от личного посещения и от всяких объяснений и затем объявлял, что свадьба баронессы Евы последует в очень скором времени ради скорейшего прекращения всяких толков и пересудов в обществе.
Письмо было подписано длинной строчкой: Густав-Эрик-Христиан, барон фон Нейдшильд, Голм фон Голмквист, – Цур Олау.
Квашнин бросил письмо на стол, а Ханенко выговорил, как бы продолжая титулование:
– Абра-кадабра, турска-курка, польска-цурка, сивая ковурка…
– Да, канитель, – заметил Квашнин. – Размазал, половины не поймешь.
– Нет, совершенно все понятно, – выговорил Шумский глухо. – То, что нужно знать, то понятно. Отказ! А она – женою фон Энзе.
И Шумский вдруг разразился хохотом, которого его друзья еще ни разу не слыхали. Мороз продрал по коже добродушного Квашнина.
– И неужели же, – воскликнул Шумский, – все они думают, что она будет г-жею фон Энзе? Да не только его – я десять человек, двадцать человек убью. Я самое ее и себя застрелю, но никогда этой свадьбы не допущу.
Шумский встал, начал шарить в комоде, потом в письменном столе, потом раскрыл шкаф и на нижней полке достал небольшой красный ящик. Раскрыв его, он вынул пару пистолетов.
– Что ты хочешь делать? – изумился Квашнин.
– Что вы? – вскрикнул и капитан.
– Заряжу сейчас один из них и возьму с собой. Я заставлю его драться. Если он опять откажется, я ему приставлю пистолет ко лбу и положу на месте.
Друзья стали успокаивать и уговаривать Шумского.
Он молчал, но отсыпал пороху, выбирал пули и не обращал на них никакого внимания. Наконец, он обернулся к ним и произнес совершенно спокойно, улыбаясь той улыбкой, которую так не любил Квашнин и которой так боялась мамка Авдотья.
– Полно же. Ведь вы, как бабы какие, судите. Вы, точно, ничего не видите и ничего не понимаете. Неужто это так мудрено понять? У человека отнимают его жизнь. Он из чувства сохранения этой жизни защищается. Фон Энзе меня без ножа режет и хочет дорезать. Надо же мне себя защищать! Ну, я его и застрелю. Пойду я в солдаты, или пойду в каторгу, или в Камчатку. Ну, что ж из этого! Неужели же там хуже мне будет, нежели здесь в Петербурге сидеть и видеть счастие супругов фон Энзе. А ведь эта нареченная г-жа фон Энзе для меня – все! Уж, конечно, больше и дороже того, что называют жизнью! Жизнь – комедия! Ну, да что! – махнул Шумский рукой. – Не мешайте. Я не младенец, не мальчишка, и не выживший из ума старик, и не безумный. Если я действую, то действую с полным разумом.
Шумский быстро, но аккуратно зарядил пистолет, заколотил пулю, бросил было шомпол, но затем подумал секунду, взял еще пулю и забил в дуло – вторую.
– Эдак крепче будет, – рассмеялся он сухим смехом. – Вы, други мои, можете меня здесь обождать: через часа полтора, два, все будет кончено – я приеду и объясню вам, что фон Энзе согласился драться со мной. Или же, если до сумерек я не вернусь, так вы разузнайте, где я. По всей вероятности, буду арестован за убийство и буду где-нибудь сидеть. А там, дальше – что Бог даст! Да почем знать! Может быть, этот дуболом Аракчеев, тятенька мой, схлопочет и меня выгородит. Он, да я, – мы не простые люди: нам на Руси безобразничать можно, сколько душа примет. Только лады у нас разные.
Шумский спокойно оделся, положил пистолет в карман сюртука и бодро двинулся из квартиры. Друзья его стояли истуканами, переглядывались и не знали, что делать.
Когда Шумский уже надевал шинель и спускался на крыльцо, Квашнин догнал его и взволнованно вскрикнул:
– Михаил Андреевич! Еще раз – подумай. Не ходи с легким сердцем на такое дело!
– Я не с легким иду… – проговорил Шумский, делая над собой усилие, и хотел было что-то прибавить, но скулы его так затряслись, что он стиснул зубы и быстро спустился с крыльца.
Взяв извозчика, он выговорил с трудом:
– На Владимирскую. Гони. Рубль.
Извозчик, знавший барина Шумского, как и многие «ваньки» Большой Морской, погнал лошадь вскачь.
Через несколько минут молодой человек снова поднимался по лестнице в квартиру улана, снова позвонил, и тот же латыш отворил ему дверь.
– Барин? Фон Энзе? – произнес Шумский.
– Нету, – отозвался латыш.
– Врешь! – и Шумский двинулся.
– Ей-Богу, нету! Стойте! Куда вы?!.
Шумский ударом кулака сшиб с ног латыша и прошел в квартиру. Вместе с тем, он отстегнул пуговицы сюртука и ощупал ручку пистолета, как бы примериваясь.
Он прошел две-три комнаты и вошел в спальню улана – везде было пусто. За спальней виднелась маленькая ясеневая дверка. Он подошел к ней, оттолкнул ее, и глазам его представилась крошечная комнатка, в которой не было ничего особенного: в одном углу умывальный стол, в другом – стол с рапирами и масками. Но переведя глаза направо, Шумский вскрикнул и невольно попятился, шагнул назад, как от привидения.
– О-о! – тихо протянул он, как если бы получил сильный удар в грудь или был ранен.
В этом протяжном звуке сказалось много муки – физической и нравственной боли.
То, что нежданно бросилось в глаза Шумскому, имело для него громадное пояснительное значение. Со стены, в красивой деревянной раме из пальмового дерева, под стеклом, смотрела на него Ева.
Но этот портрет был его портрет, его – Шумского, его работы! Стало быть, он наемным живописцем писал с нее портрет для ее возлюбленного. Очевидно, что она, и быть может, даже тайком от барона, подарила улану этот портрет.
Прошло несколько мгновений, Шумский шагнул к стене, схватил что-то тяжелое, попавшееся под руку и сильными ударами начал разбивать стекло вдребезги. Осколки стекол сыпались и падали на пол, жалобно дребезжали, звенели, и эхо разносилось по всей пустой квартире, дико отдаваясь в ушах Шумского.
Какая-то фигура что-то кричала, вопила около него, сильная рука уцепилась за его плечи. Он обернулся, схватил эту фигуру и почти не понимая, что это латыш-лакей, вышвырнул его в другую комнату, вернулся и снова принялся за работу. При помощи ножниц, взятых со стола, Шумский быстро вырезал из рамы портрет, свернул его трубкой и двинулся быстро из квартиры.
Лакей снова бросился было к нему, как бы собираясь отнять свернутый лист, но достаточно было одного движения Шумского, чтобы латыш отскочил.
XLIX
Шумский вышел на улицу и тихо двинулся пешком. Ему хотелось успокоиться. Ему хотелось, чтобы та буря, которая поднялась на душе, улеглась. Этот портрет его работы, найденный в квартире улана, был для него вторым ударом и таким же, как письмо барона: там узнал он, что Ева не будет его женой, а теперь он почти так же верно узнал, что Ева любит фон Энзе.
«Но зачем же дала она мне свое согласие? Ведь она согласилась. Ведь она протянула мне руку. И когда же это было! Ведь не полгода назад, не неделю. А между тем, мне, право, кажется, что это было чуть не год назад».