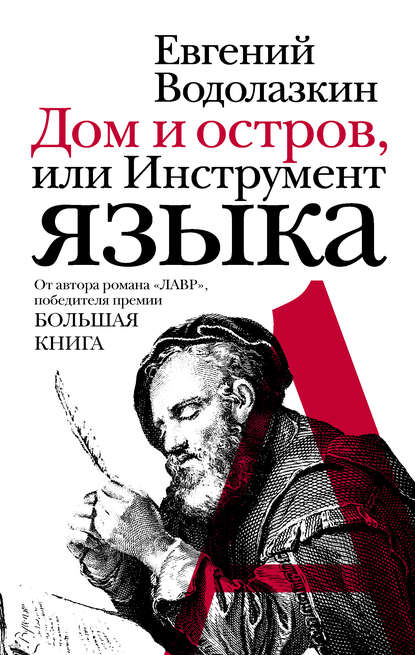По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дом и остров, или Инструмент языка (сборник)
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По одной из рассказанных мне в Киеве версий, ситуацию якобы спас какой-то академик-архитектор. Взывая к коллективной мудрости украинского ЦК, этот старичок призвал задуматься над одной немаловажной деталью: если предполагается, что из Днепра станут выходить обнаженные люди высотой в десятки метров, то какого же размера у них должен быть срам? Сейчас уже трудно сказать, кто, по слову классика, «нам помог» – протесты общественности, дороговизна материала или целомудрие украинского ЦК, – но факт остается фактом: «Родину-мать» в Киеве понизили, а водопад с воинами убрали.
Спустя годы аналогичная ситуация сложилась в Петербурге. С маниакальной настойчивостью в городе пытались построить 400-метровый небоскреб в форме кукурузы. Многочисленные протесты архитекторов, историков культуры, философов, филологов и юристов несколько лет оставались без внимания.
В какой-то момент, однако, появилась надежда, что и в этой истории, подобно киевской, поможет свежий взгляд на вещи. Его предложил профессор Лев Моисеевич Щеглов, питерский сексолог и телеведущий. По мнению профессора, мечта построить сооружение указанной формы скрывает под собой глубинные психолого-сексуальные проблемы. Лев Моисеевич также справедливо полагал, что подобные проблемы нужно решать у специалиста.
От строительства «Охта-центра» в конце концов отказались. Это решение (как, впрочем, и решение о строительстве) не сопровождалось особыми пояснениями, но слово науки сыграло здесь, возможно, не последнюю роль. Если заявление профессора Щеглова я понимаю правильно, он способен оказать помощь любому, кого замучили мечты о небоскребах.
Подземный мир
В Петербурге я живу у станции метро «Спортивная». Название столь же яркое, сколь и редкое. Первоначально предполагалось, что станция будет называться «Тучков мост» (у этого моста она расположена), и в мечтах мне уже слышалось, как, давая свой адрес, я произношу два симпатичных слова. Но, как пелось в одном романсе, «и может быть, мечты мои безумны»: «Тучковым мостом» станция не стала. В то время городской администрацией вынашивалась идея провести в Питере Олимпийские игры 2004 года. Ввиду близости стадиона и Дворца спорта станцию решили назвать «Спортивная».
С Олимпиадой не сложилось. Вероятно, на фоне общего состояния дел в городе спортивный топоним не произвел на отборочную комиссию никакого впечатления. Мечты об Олимпиаде (еще раз сошлюсь на упомянутый романс) ушли, но «Спортивная» – осталась. И я решил обратиться к моему коллеге по Пушкинскому Дому академику Александру Михайловичу Панченко. В девяностые годы Александр Михайлович возглавлял Топонимическую комиссию. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что это был лучший председатель комиссии за всё время ее существования. Встретив академика в коридоре Пушкинского Дома, я спросил его, нельзя ли «Спортивной» присвоить то название, которое предполагалось при ее проектировании. Александр Михайлович грустно покачал головой: «Знаете, это – подземный мир. С этим трудно что-либо сделать».
С тех пор труднопреодолимые и, в общем, малоприятные обстоятельства в моем сознании прочно связались с подземным миром. Определение вышло для меня далеко за пределы Петербургского метрополитена. В череде событий, разрушающих метафизику города, «Спортивная» оказалась самым невинным. Ну, хотели провести Олимпиаду, ну, заказали мозаики на олимпийскую тему. Не отбирать же у кого-то дорогостоящий заказ. В конце концов, звуковая реклама в метро давит на психику гораздо сильнее олимпийской мозаики.
Фраза Александра Михайловича встала передо мной в полный рост, когда на одной оси с Петропавловской крепостью построили «Петербургский Монблан» – огромных размеров сооружение, непонятно (или понятно?) как добившееся разрешения на свой жуткий экзистенс. Глядя на то, как этаж за этажом подрастал этот монстр, я уже не сомневался в его происхождении. Взламывая асфальт и окружающие дома, на всеобщее обозрение выходил подземный мир.
Оказавшись на поверхности, подземный мир начал рваться в небеса. Это стало понятно с объявлением конкурса на строительство газпромовского небоскреба. Сначала проект назвали «Газпром-сити», затем название изменили на «Охта-центр». Не решились, видимо, обозначить подземные (газ все-таки) источники финансирования. Оба названия в высшей степени китчевые и безвкусные – как, впрочем, и сама идея строительства небоскреба в Петербурге. В городе сложилось мнение, что подобная идея могла посетить только того, кто лишен глаз. Или головы. Или никогда не выходил на поверхность. Глубоко подземная идея.
Вредные привычки
Академик Александр Михайлович Панченко однажды пригласил меня на заседание Топонимической комиссии Петербурга. Комиссия занималась тогда возвращением улицам исторических названий. Речь в тот день шла о переименовании улицы Щорса в Малый проспект Петроградской стороны. Некоторым исконное название казалось слишком длинным.
– Раньше, – говорили они, – можно было дать домой телеграмму: «Ленинград. Щорса». А сейчас – извольте: «Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской стороны», потому что есть и Малый проспект Васильевского острова.
– Так не во всяком городе есть два Малых проспекта, – возражали им. – Тоже ведь понимать нужно.
Больше всех горячился пожилой представитель компартии. Расставаться со Щорсом ему не хотелось. Его уговаривали, напоминали, что еще пол-Питера носит коммунистические названия, что существует, к нашему общему стыду, даже улица Белы Куна, которого за зверства в Крыму любой трибунал признал бы военным преступником.
Так или иначе все выступления были обращены к Панченко. Не как к председателю комиссии даже, а как к выдающемуся ученому. Но Панченко молчал. Кому-то вспомнились красивые слова из песни о Щорсе:
Голова обвязана,
Кровь на рукаве,
След кровавый тянется
По сырой траве.
Представитель компартии зачитал подробную справку о Щорсе с экскурсом в историю Гражданской войны. Вспомнился, конечно, и другой куплет:
В голоде и холоде
Жизнь его прошла,
Но недаром пролита
Кровь его была.
Помолчали. Не видя реакции Александра Михайловича, выступавший кратко проинформировал присутствующих о перспективах мирового коммунистического движения. Панченко слушал, опустив голову. Академического спора не получалось.
– В конце концов, – крикнул поклонник комдива, – сотни тысяч людей называли эту улицу улицей Щорса! Почему вы топчете их привычки?
– Так ведь есть и привычка в носу ковырять, – тихо заметил Панченко.
Аргумент оказался исчерпывающим. Он подвел итог ожесточенному спору, и улицу переименовали.
Годы спустя, уже после смерти Панченко, мне пришлось еще раз присутствовать на заседании Топонимической комиссии. В тот раз безымянной набережной против Пушкинского Дома комиссия отказалась присвоить имя Дмитрия Сергеевича Лихачева. Ученикам Лихачева дали понять, что такое наименование вряд ли совпадет со вкусами тех, кто в эту набережную будет «вкладываться». Песен на этот раз уже никто не вспоминал: время стало прагматическим, да и лица присутствующих были совсем другими. Замена Александру Михайловичу была явно неравноценной.
С уходом Панченко процесс возвращения исторических названий сошел на нет. До сих пор в самом центре города преспокойно существуют улицы, носящие имена Ленина, Воскова, Блохина и многих совсем уж ныне забытых участников революционного террора – в боевой компании с улицами Красного Курсанта, Пионерской и т. п. Под этими именами и кличками ведут свое призрачное существование Широкая, Матвеевская, Большая Белозерская, Церковная, Большая Спасская, Большая Гребецкая и другие улицы, чьи старые и прекрасные имена никто не возвращает.
Говорят, что дело теперь не в Топонимической комиссии, а в том, что городские власти слишком привыкли к названиям советским. Не исключено также, что в отсутствие Александра Михайловича для возвращения исторических названий властям просто не хватает аргументов.
Мало приятного
Выдающийся литературовед Ф. в конце жизни разговаривал сам с собой. Это ни в коей мере не указывало на его (не вижу, мол, достойного собеседника) заносчивость, потому что Ф. находил возможность разговаривать и с другими. В сущности, то, что в данном случае называли беседой с самим собой, было скорее мыслями вслух, произносившимися негромким голосом. Таким голосом в театре произносят реплики с ремаркой «в сторону». Эти тексты звучали независимо от присутствия коллег, что характеризовало Ф. как человека, расположенного к откровенности. Стоя рядом с ним в библиотеке, можно было услышать:
– Посмотрю-ка эту книгу. Новая… Чушь, наверное. – Шуршание пролистываемых страниц. – И ведь точно – чушь.
Следует заметить, что, обладая хорошим вкусом, в своих оценках Ф. обычно не ошибался.
Когда волна компьютеризации дошла до Пушкинского Дома, фирма, устанавливавшая технику, прислала своего представителя для обучения потенциальных пользователей. Пользователь Ф. смотрел в окно и вникнуть в объяснения компьютерщика даже не пытался.
– Слишком поздно, – задумчиво сказал Ф., – слишком поздно. И не нужно.
Последнее мое воспоминание об этом человеке – в высшей степени зимнее. Подходя однажды в метель к Пушкинскому Дому, я увидел Ф. В полусотне метров впереди меня он двигался механической походкой немого кино. Сверху донизу картинка перечеркивалась полосами колючего снега и сопровождалась полным отсутствием звука: эта метель поглощала не только изображение, но и звук. Приблизившись к сугробу, Ф. так же беззвучно в нем исчез. Через мгновение – как негатив предыдущего кадра – он вновь возник с абсолютно белой спиной.
В Пушкинский Дом мы с ним вошли почти одновременно. Принимая его пальто, гардеробщица сочувственно спросила: «Упали где?», но Ф. не ответил. Вид у него был довольно свирепый. Поднимаясь по лестнице, Ф. сказал самому себе:
– Разве что-нибудь приятное услышишь?
Умер он, если не ошибаюсь, в ту же зиму. Метель к тому времени сменилась жестоким морозом, который в условиях питерской влажности переносится с большим трудом. Я поехал договариваться о похоронах с одним из пригородных кладбищ. На нем Ф. завещал себя похоронить рядом с родными. От станции до кладбища я шел пешком по шоссе, и это, пожалуй, были два самых длинных километра в моей жизни. Кожа лица, неспособная обогреть ледяной воздух, и сама, как мне казалось, превращалась в лед. Так что если бы я, скажем, захотел улыбнуться (а улыбаться мне не хотелось), сделать этого я бы не смог.
В дирекции кладбища у меня потребовали – трудно поверить – денег. Кладбищенскому коротко остриженному руководству было, как ни странно, недостаточно того, что у них похоронят крупнейшего специалиста в области русской литературы. Действительного члена (присутствующие сдержанно заулыбались) Академии наук. Я не уходил только потому, что в помещении было тепло. Подумав, попросил разрешения позвонить в Пушкинский Дом.
– Деньги? – удивились на том конце провода. – Будем связываться с Академией наук. Ждите новостей на месте.
Минут через пятнадцать на кладбище зазвонил телефон. Судя по тону кладбищенского начальства, звонили не из Пушкинского Дома и даже не из Академии наук.
– Да-да. Похороним в лучшем виде. Об чем речь. – Говоривший повесил трубку и посмотрел на меня усталым взглядом. – Ну, могилям хоть дашь на бутылку? Холодно копать-то.
Я достал всё содержимое карманов – несколько скомканных бумажек – и положил на его стол. Одну бумажку (мой обратный билет на электричку) я, поколебавшись, забрал.
– Одно слово – академики, – сказал строгий человек и сгреб выложенные деньги в ящик.
Сквозь полузамерзшее окно за его действиями следили могили.
В тот же вечер у меня поднялась температура, и на похороны я уже не поехал. Когда катафалк с телом Ф. прибыл на кладбище, выяснилось, что его могила еще не вырыта. Кладбищенского начальства не было, а могили держались индифферентно. Кто-то из пушкинодомских было возмутился, но один из могилей пригрозил, что сейчас его закопает. Разве что-нибудь приятное услышишь, как сказал бы Ф…
Через какое-то время приехал трактор и вырыл-таки могилу. Могили ее только слегка подровняли. Мне вот что кажется: в нашей жизни мало приятного. В оценке нашего отношения друг к другу, да и атмосферы в целом, фраза Ф. чрезвычайно точна. Статистика и ощущения говорят, что жизнь стала чуть легче. Только ведь уменьшение плохого не всегда ведет к увеличению хорошего. Потому что хорошее должно быть и в виде приятного. А приятного – мало.
Сеанс с разоблачением
Эту историю рассказал литературовед Евгений Александрович Маймин.