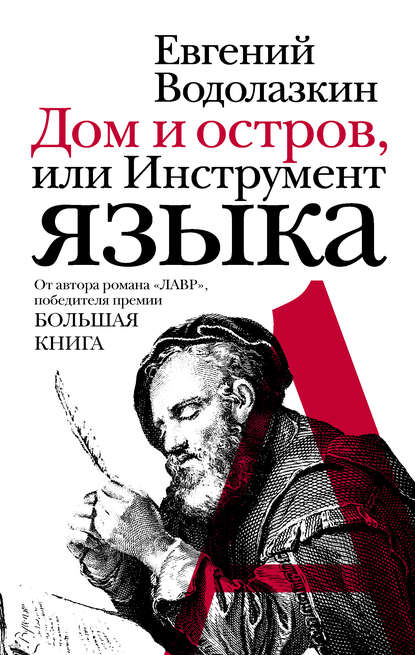По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дом и остров, или Инструмент языка (сборник)
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В 1949 году филфак Ленинградского университета был озабочен разоблачением «космополитов». Одним из первых предполагалось разоблачить выдающегося исследователя русской литературы Бориса Михайловича Эйхенбаума. Определенная сложность предприятия состояла в том, что разоблачаемого в это время не было в городе. После второго инфаркта он находился в сестрорецком санатории для сердечников. Родных Бориса Михайловича беспокоило его здоровье, и о происходящем в университете ему ничего не говорили.
Здоровье Бориса Михайловича беспокоило и декана филфака. После долгих раздумий он отправил в Москву феноменальный запрос: «Как быть с Эйхенбаумом, если он умрет раньше, чем его разоблачат? Хоронить его как космополита или как профессора?» Не сочтя этот текст подражанием Андрею Платонову, из Москвы ответили: «Как профессора».
Вернувшись в Ленинград, Эйхенбаум принял известие о своем увольнении из университета философски. Даже поэтически:
В дни юбилея В.Гюго
И Николая Гоголя
Не получил я ничего —
Ни хлеба, ни алкоголя.
«Да ведь это стихея, – сказал он тогда своим ученикам. – Как со стихеею бороться?»
Коллизия между Борисом Михайловичем Эйхенбаумом и советской властью разрешилась, как это часто бывает, компромиссом. Советская власть в тот раз позволила Борису Михайловичу выжить, в результате чего он предоставил советской власти возможность себя разоблачить. А мог ведь умереть неразоблаченным.
Легкое дыхание
Вслед за Ленинградским университетом «космополитов» начали прорабатывать и в Пушкинском Доме. Зайдя в туалет, Борис Михайлович Эйхенбаум сказал: «Вот единственное здесь помещение, где легко дышится». С тех пор много там воды утекло. Интересно, что самые неприятные вещи в Пушкинском Доме по-прежнему случаются вне туалета.
Литературоведы в блокаду
В майские дни я вспоминаю рассказы стариков Пушкинского Дома о блокаде. Как всякое свидетельство о трагедии, рассказы их были пронзительны. Между тем сквозил в них и несомненный мифоборческий оттенок. Вообще говоря, я хорошо отношусь к мифам. Миф – это не выдумка, как легкомысленно кто-то может подумать. Миф (назовем его для благозвучия легендой) – это форма восприятия явления, наше активное к явлению отношение. Легенды возникают вокруг вещей масштабных. Они лишь подчеркивают их размер.
Была, например, распространена легенда о том, что, покинув Бадаевские склады, по Невскому проспекту шли крысы. Предчувствуя судьбу складов, крысы якобы ушли еще до их сожжения и перебрались в порт. И хотя этот сумрачный марш описан не в одном литературном произведении, пушкинодомские литературоведы его не помнили. Они говорили о том, что, направляясь в порт, крысы вовсе не были обязаны идти через Невский. Напротив: чтобы промаршировать по главной улице, им, крысам, пришлось бы даже сделать крюк. Так считали наши старики.
В сущности, мне было жаль расставаться с легендой о крысином марше. В глубине души я до сих пор допускаю, что на Невский крысы заглянули намеренно. Может быть, они указывали городским властям на фатальную неподготовленность города к блокаде, потому что людей к тому времени уже не слушали.
Но реальность была удивительнее легенд. В блокадное (как и во всякое другое) время Пушкинский Дом оставался необычным местом. В нем хранились рукописи Пушкина и доброй половины русских классиков. Имелись также сапоги, сшитые Львом Толстым, локоны Гоголя и Тургенева, карандаш, бывший во время дуэли в нагрудном кармане Лермонтова, и даже сноп пшеницы, подаренный Некрасову крестьянами Карабихи. Наконец, в Пушкинском Доме было то, чего нет ни в одном литературоведческом учреждении мира: подводники.
Они появились вместе с базой подводных лодок, обосновавшейся здесь же, на набережной Малой Невы. Из всех находящихся в Пушкинском Доме экспонатов подводников заинтересовал лишь некрасовский сноп. Будучи людьми практическими, подводники обратились к президенту Академии наук академику Комарову с вопросом, нельзя ли эту пшеницу съесть. Ботаник Комаров ответил короткой телеграммой: «Валяйте, ребята!» Сноп подводники обмолотили и съели в новогоднюю ночь.
Об этой ночи рассказывали и пушкинодомцы. Они вспоминали о замерзших фекалиях на окнах домов. Этими страшными гирляндами город встречал новый, 1942-й, год. Канализация уже не работала, и ночные горшки выливались через форточку. Спуститься на улицу у многих не хватало сил.
Сил не хватало даже у тех, кому нужно было выбраться из горящих домов. Об одном таком доме однажды рассказал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Это был дом на Мытнинской набережной против Пушкинского Дома. На его крышу упала зажигательная бомба, и огонь шел сверху вниз. Шел медленно – четыре дня. Отсветы его по ночам плясали на колоннах Пушкинского Дома. Лихачев отправился было вытащить остававшихся, возможно, в нем людей, но на мосту через Неву его оставили силы. Он едва смог вернуться обратно. Впоследствии этот дом восстановили, и Дмитрий Сергеевич многие годы смотрел на него из окна своего кабинета. Сейчас на месте дома зияющая пустота. Городские власти снесли его и обещают построить новый – точно такой же. За исключением, разумеется, теней погибших. Не приходится сомневаться, что в этот новодел они уже не вернутся.
О блокаде Лихачевым написано несколько десятков страниц. Собственно говоря, не так уж много. Но, по мнению многих, его «Воспоминания» – самое сильное, что сказано об этом времени. Самое сильное и самое страшное. Без страха перед физиологическими подробностями и без «сюсюка», как с прямотой бывшего зэка Лихачев называл советскую литературу о блокаде.
Его собственные воспоминания не просто трагичны. За лишенным риторики, почти монотонным перечислением происходившего явственно проступает эс хатологическое начало. «Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог», – говорится в его книге. Он рассказывает о случаях величайшего самоотречения и немыслимых зверствах: любое явление имеет два полюса, и чем это явление ужаснее, тем резче полюса. Рассказывает о Пушкинском Доме, об умиравших один за другим литературоведах, о дирекции, объедавшейся за закрытыми дверями и торговавшей институтской квотой на эвакуацию. Этот Дом был лишь маленькой моделью города, пожираемого блокадой. Города с нечеловечески страдающими людьми. С Андреем Александровичем Ждановым во главе, получавшим спецрейсами ананасы. Сохранявшим силы для своего главного литературоведческого труда, опубликованного в 1946 году.
Дом и остров
Под стрекотание пленки, в чернобелом: 1919й, голодающий Петроград, крупный план петропавловского шпиля. Мой прадед, директор гимназии (вросшее в переносицу пенсне), отправив семью к знакомым в Киев, уходит добровольцем в Белую армию. Что ему тогда увиделось – мутный рассол Сиваша, лазурное небо Ялты? – я ведь даже не знаю, где он воевал. Известно лишь, что на родной Троицкий проспект прадед уже не вернулся: там все знали, по какой надобности он отсутствовал. После разгрома белых прадед («Петербург, я еще не хочу умирать») отправился к семье на Украину, что в конечном счете и спасло ему жизнь. Петербург остался где-то далеко, стал лучом давнего счастья и семейным преданием. Покинутым домом, в который семья вернулась спустя лишь долгие десятилетия – в моем лице.
Цветные кадры аэропорта Пулково. В город на Неве я прилетел осенью 1986 года, поступив в ас пирантуру Института русской литературы, более известного как Пушкинский Дом. Это академическое учреждение туристы путают порой с Мойкой, 12, но – Пушкин в Пушкинском Доме не жил. Жаль, конечно, потому что здание – красивое, с колоннами, отчего бы ему там и в самом деле не жить? Будь на то наша, пушкинодомская, воля, мы бы его там поселили.
Нам всем хочется сделать что-то для Пушкина, да и не только нам. Фотографию моей дочери на фоне Спасской башни Кремля одно немецкое издание сопроводило пояснением, что это Пушкинский Дом. Несмотря на фактическую неточность, немцы обнаружили знакомство с нашей системой ценностей. Есть своя логика в том, чтобы на главной площади страны стоял именно его дом.
Приехав в Пушкинский Дом, я попал на подготовку праздничного капустника. Дмитрия Сергеевича Лихачева, моего будущего многолетнего учителя (формально – начальника), поздравляли с восьмидесятилетием. ДэЭса – так его называли в Отделе древнерусской литературы – приветствовали те средневековые герои, о которых он писал. Мне досталась роль Василька Теребовльского, коварно ослепленного князьями. Романс Василька исполнялся мной под гитару. Голос мой, как положено, дрожал – до некоторой степени от сочувствия Васильку, но главным образом оттого, что я поздравлял всемирно известного академика. В сравнении с тем, что довелось повидать ДэЭсу в концлагере, княжеское преступление было, видимо, не самым страшным злом, но слушал он меня сочувственно.
Потом мы сыграли капустник еще раз на отмечании юбилея в ресторане. К моменту выступления мне удалось промочить горло, и голос мой дрожал уже меньше. Нужно сказать, что к пирам у Лихачева было отношение древнерусское. Близких людей ему нравилось собирать – дома, в банкетных залах или на даче в академическом поселке Комарово. Восьмидесятилетие Дмитрия Сергеевича мы праздновали в интуристовском ресторане, потому что в обычных ресторанах (кто сейчас помнит антиалкогольную кампанию?) после семи вечера не подавали водку. Ничего, кроме вина, Лихачев не пил, но, зная, что его сотрудники не отвергают напитков и покрепче, предпринял всё, чтобы эти напитки были.
Закругляя тему пиров, вспомню последний день рождения Дмитрия Сергеевича, на котором мне довелось присутствовать. К тому времени я давно уже не пел. Под влиянием Лихачева я стал человеком письменного текста и написал ему стихотворение. В этом стихотворении отразилась, среди прочего, любимая академиком мысль, что возрождение России начнется из провинции:
Спадает зной. Вдали грустит баян.
Захлопыванье ставен. Скрип ступенек.
Деревня Комарово: из крестьян
Здесь ныне каждый третий академик.
Мужского рода кофе на столе,
Изыскан слог, и чувствуешь в волненье,
Как рост образованья на селе
Готовит всей России возрожденье.
Да, тогда я уже не пел. Но пока пел, слушал меня не только Дмитрий Сергеевич. Всё спетое, как выяснилось, произвело впечатление на мою соученицу по аспирантуре Таню, русскую немку из Казахстана. Лихачев называл ее «тихой душой нашего сообщества». Определение было удивительно точным. Не будучи тихой душой нашего сообщества, я проявил активность, и через год с небольшим Таня стала моей женой.
Весь этот год наши отношения мы скрывали. Нам казалось, что Дом, в который мы оба попали, подразумевает лишь один род любви – любовь к науке. Всякие иные связи, устанавливаемые между исследователями, виделись нам не то чтобы предательством – скорее дурным тоном. Мы жили в общежитии аспирантов, вполне по советским меркам неплохом. Я располагал там «койкоместом», а Таня, как аспирантка третьего курса, завершающая диссертацию, – отдельной комнатой.
Исследовательницу, к тому времени добившуюся в науке значительно больше моего, я посещал ежевечерне. После насыщенного дня, проведенного в Пушкинском Доме или в библиотеке, я неутомимо интересовался способами датировки древнерусских рукописей, особенностями новгородского диалекта или переводом отдельных древнерусских фрагментов. Мой научный аппетит к вечеру удваивался.
Я думаю, девушка не хуже меня догадывалась, куда лежит курс, но отказать пытливому исследователю не могла. В те годы – годы бескорыстия и взаимопомощи – это не было принято. Я слушал Танины объяснения, и чувствовал, как к моим ушам приливает кровь, и прижимал к ним холодные ладони, и ничего сквозь прижатые ладони не слышал. Я ничего не слышал бы и без них. Смотрел на воздушные Танины пальцы, втайне лелея мечту оставить свое одинокое койкоместо и переселиться к ней. Как-то незаметно это и случилось.
Вообще говоря, в отношении людей семейных научное общежитие не было дружественным местом. Его возглавлял некто Валентин Иванович, партиец со стажем и человек трудной судьбы. Трудности его, по слухам, состояли в том, что, будучи прежде директором интуристовской гостиницы, он попался на организации сексуслуг для постояльцев. Голубоглазых ленинградских комсомолок Валентин Иванович передавал в жадные руки империалистов, получая вознаграждение – и это оказалось самым тяжким пунктом обвинения – в иностранной валюте. Ему светил немалый срок, но какие-то немыслимые связи в обкоме партии в последний момент его спасли. Впрочем, в Смольном всё еще хранили память о благородных девицах и проступком Валентина Ивановича (а особенно тем, что попался) довольны не были. Валентину Ивановичу придумали свое наказание, и оно оказалось изощренным: его поставили директором аспирантского общежития.
Вопиющее безденежье отечественных аспирантов оставляло организаторский опыт Валентина Ивановича невостребованным. Влача непривычное для него безвалютное существование, директор общежития скатился к мелкому вымогательству в рублях. Когда мой коллега Владислав попросил на время учебы поселить в общежитии и его жену, Валентин Иванович удивился. «Странная просьба, – сказал он. – Представьте, что я попросил бы у вас, скажем, тысячу рублей». Будучи филологом, аллегорию Владислав понял, но тысячи рублей (по тем временам значительной суммы), у него не было.
У меня тоже не было тысячи, но я с моей (будущей) женой жил совершенно бесплатно. Об этом факте нашей – тогда уже общей – биографии Валентин Иванович не знал, иначе, не сомневаюсь, это влетело бы нам в копеечку. Что же касается коллеги Владислава, то он после некоторых раздумий написал письмо Горбачеву, которое, как и положено, в конечном счете приземлилось в Смольном. Разбираться в сложившейся ситуации прислали одного академика-биолога. Собрав обитателей общежития, академик долго стыдил Владислава и аспирантов за то, что отрывают Михаила Сергеевича от важных дел. Пристыдив всех, кроме Валентина Ивановича, академик удалился. Впоследствии выяснилось, что перед нами выступал крупный специалист в области беспозвоночных.
Но контроль осуществлялся не только со стороны Валентина Ивановича. Почти ежедневно нас посещали многочисленные соседи по общежитию. Они (молодость наблюдательна) время от времени регистрировали происходившие в Таниной комнате перемены. Одной из таких перемен оказались однажды мои носки, ненавязчиво выглядывавшие из-под Таниной кровати.
– Чьи это носки? – последовал простодушный вопрос.
Таня тогда сменила тему, но было очевидно, что наша маленькая тайна доживает последние дни. Несмотря на то что я стал прятать носки так далеко, что и сам порой не находил их впоследствии, они обладали удивительным свойством показываться в самый неподходящий момент. Выныривать из ниоткуда в компании моих футболок, зубных щеток и бритвенных принадлежностей.
Впрочем, всем всё уже было ясно, вопрос заключался лишь в констатации факта. А с этим мы всё еще медлили. Дело шло к окончанию аспирантуры – сначала Таниной, потом моей. И Тане, и, позднее, мне Лихачев предложил работу в Пушкинском Доме. Когда для принятия меня на работу понадобилось решать непростую проблему ленинградской прописки, Дмитрий Сергеевич (перед этим он хлопотал о прописке для Тани) пригласил к себе нескольких сотрудников Отдела древнерусской литературы.
– Не хочется лишний раз обращаться в Смольный с просьбами, – сказал он. – Я слышал, что Женя и Таня… дружат. Если они станут мужем и женой, Женя получит прописку автоматически. Вы не могли бы поинтересоваться их планами?
– Но… Дмитрий Сергеевич, – развели руками сотрудники, – как можно спрашивать о таких вещах?
– Только в лоб, – ответил Лихачев.
На следующий день всем стало известно, что хлопотать о моей прописке не нужно. С этого дня для коллег мы перешли в совсем другой статус, и в этом было что-то семейное. Так родители, обнаружив, что дети выросли, начинают давать им подчеркнуто взрослые советы. Звенящее молчание, окружавшее прежде запретные сферы, сменяется столь же гулким пониманием и солидарностью. Случалось, институтские дамы шепотом указывали Тане аптеки, где «выбрасывали» презервативы – один из дефицитов тех времен. Мы же, следуя академической этике, продолжали делать вид, что предметом нашего общения является исключительно наука. Когда после свадьбы Танин живот стал все-таки расти, стало очевидно, что наши с ней отношения носят совершенно неакадемический характер.
Свадьбу мы праздновали трижды – в Караганде, Киеве и Питере. При этом в каждом из городов получили талоны на приобретение колец и кое-чего из одежды. Стоял 1989-й год, и в свободной продаже ничего было уже не купить. Справедливости ради скажу, что талонами мы воспользовались только для покупки Таниного свадебного платья, колец и обуви – на всё остальное денег у нас не было. Свадебный костюм мне подарили мои родственники. Зато обувь, которая была в абсолютном дефиците, мы купили в каждом из трех городов. Заполняя шкаф обувными коробками, мы чувствовали себя брачными аферистами.
Нашу питерскую свадьбу отмечали в общежитии, где для этих целей нам была предоставлена «ленинская комната». В этой комнате лежали подшивки центральных газет и стоял, как полагалось, бюст того, чье имя комната носила. К нему, однако, у меня были большие претензии, и его присутствия на моей свадьбе я потерпеть не мог. Кроме того, зная взрывной характер некоторых гостей, я допускал, что присутствие вождя мирового пролетариата добром не кончилось бы и для него самого. Вынести Ленина из комнаты было единственно возможным решением.
Это был довольно большой Ленин, и вначале я да же засомневался в возможности вынести его одному. С другой стороны, мне не хотелось делать кого-либо соучастником события с непонятным, по сути, исходом: время-то было еще советское. Подойдя к бюсту, я приподнял его – несмотря на внушительный размер, он был совсем не тяжелым. Ленин оказался полым. Подобно прочим советским конструкциям (включая и сам Советский Союз), большая вещь оказалась чистой видимостью. Я вынес ее без всякого труда.
Рядом с комнатой нашелся недействующий туалет, я поставил Ленина туда и накрыл сверху газетами. Тут же выяснилось, что поступок мой оказался идеологически неверным. Первым мое внимание на это обратил сотрудник хозчасти.