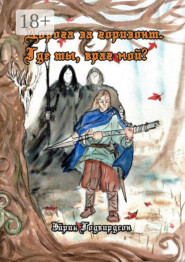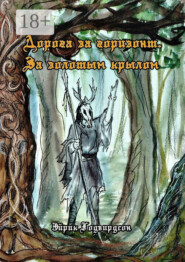По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Семиведьмие. Бронзовый котел
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это так. Из боли, бывает, растет великая сила, а из тоски – уверенность и твердость. Слышишь – копыта звенят по насту?
– Слышу… ох заведет нынче новую буйную голову в волчьи овраги этот звон, – Мод говорит это скучным голосом – таким, каким рассказывают о цене на капустный кочан у ярмарочной торговки по осени, или о прошедшем дожде.
– Конечно, заведет! – хекает Ингреда. – И это тоже – сила. Ее сила выросла из боли.
– Моя, наверное, тоже, – Мод скучнеет еще сильнее, и смотрит, сморит в огонь жадно – точно видит в нем мелькание быстрых ног девы-косули – и следом неспешный шаг по оставленной стежке следов.
– Похлебку снимешь – вот этот короб перебери еще. Кора черной полуночной ивы, что содрана была костяным ножом… помнишь, от чего?
– А то не помнить! Будто не ее толкла я тогда, когда пришла сюда – руки по локоть кровью вымазаны!
– Вот и перебирай. Надумаешь что – говори, не молчи. Ты умная девочка, Мод, но тебе еще многому учиться нужно. Да помешай в котле, как бы не выкипело!
И снова ведьмы – юная и старая – погружаются каждый в свое дело.
И видят, и знают – одна по тому, как тянется нить из кудели да взвывает ветер, а вторая в случайном узоре рассыпавшихся по столу листочков тимьяна да руты, иль по взблескам искр в очаге, иль по бульканью котелка – как торопится по следу охотник. На свою беду увидел свежий след, и ноги несут его вперед. Чутко, как пес, припадает к рыхлому снегу – мягок слой снежного пуха. Не настыл, не схватился след, край его рыхло осыпается под касанием рукавицы близко, близко! Дева косуля бежит впереди – вот сияющее-золотой волос на ветке шиповника, меж рдяных ягод блестит. Вот шерстинка на шершавом древесном стволе… вот меж дерев мелькнула – она! Точно она! Лунное серебро девичьего лика – нежного и чистого. И золото рогов! Все, как сказывали – и теперь уже эта сказочная козочка от него, удальца, не уйдет!
Выстукивают копытца звонкую вязь бега, ткут узорный след – и стремится по нему, по легкой стежке – синеватому серебру на белизне – охотник за козочкой, за девой-ланью, за не живой, но и не мертвою Лалейн раэн Тавтейр, госпожой не замка с солнечными крышами, но лесов и всех диких земель окрест.
Он был не местным, этот охотник. Издалека пришел, с берегов, что ныне ларанд Рэвенд зовутся.
Он не знал в лицо бароновой дочки – да и по правде, мало кто узнавал ее, потому что в единое лето лицо девочки стало не детским, но девичьим, а после таким и осталось, не меняясь. Ну и все же верно сказывали – мало кто без страха мог взглянуть в лицо существу, что человеком уже не было. Зреть лицо с человеческими чертами, да с выражением, которого ни у кого из живущих быть не может – это надо большим храбрецом быть. Охотник, что летел по снежной рыхлой стежке, был таков. Храбр и ловок. И стрелял он славно – вскинул лук, натянул тетиву, свистнула стрела – безжалостная, быстрая!
«Попал! Или промазал?!» – метнулась мысль в голове туда-сюда, точь-в-точь. Как белая куропатка, незнамо откуда вспорхнувшая, когда слетела прочь стрела. Вспугнутая, белоперая – верно, у ног козочки в снегу сидела, а как та дернулась, уязвленная стрелою, так и птица испугалась, улетела. Как бы там ни было, а рванула дева-коза прочь пуще той стрелы.
«Если попал – то скоро выдохнется. Пройду, посмотрю. Обидно упустить будет!» – так мыслил храбрый мастер-охотник. И двинулся следом снова. И вскоре бледная строчка взрытой белизны, как мохнатая некрученая нить, украсилась мелкими ягодами-бусинами. Алыми, горячими, солеными с горечью – не рябина то, ох, и не рябина просыпалась! Сочилась кровь жаркими каплями, пятная белое красным.
«Так попал! Попал! Я, я возьму баронову награду, я сумею добыть эту чудо-козу!» – ликовал охотник. Мстились ему уже в каплях крови той рубины, а в блеске снежном – россыпи золотые. На что молодому охотнику с черной бородою, человеку с берега Рэв, нужны были те рубины да золото, никому он не сказывал – может, просто жаден был, а может, хотел в жены звать знатную деву. А может – думал заплатить колдуну, чтоб тот сладил для него сложную работу, или на лекарства старому родителю потратил бы, аль на выкуп побратима из долга… никто не знал. Никому до того дела не было, в том числе и Мод, что теперь пряла, тянула нитку вместе со старой Ингердой. А уж козочке о золотых рожках – и подавно! Ни дела, ни печали.
Все чаще падали рябиновые ягодки кровавых капель в снег, все быстрее спешил охотник. Нагонял – козочка была близко. Только вот поздно понял – не в косулю он попал. Поздно увидел – смеется злое болото и лунные тени пляшут в глазах у той косули. Она нарочно подпустила к себе удальца – чтоб видел тот, что игры играются и истории сказываются здесь такие, как ей, деволикой, угодно. Держала в зубах косуля-госпожа белую куропатку. Из шейки птичьей торчала охотничья стрела с бурым пером – та, что выпустил сам охотник. И именно птичья кровь пятнала снег. Выронила косуля-дева птицу, разжав белые зубы, и рассмеялась – так, как не смеется никто из живущих. Так плачет болотная птица, так выдра потешается над уснувшим рыбаком[2 - Голос речной выдры очень похож на человеческий смех.], так кличет беду ветер, гуляя в трещине ствола древесного. И, рассмеявшись, бросилась козочка вперед, копытами метя в грудь человека, оцепеневшего пред нею. Ударила, повалила, пронеслась – светлый козий живот мелькнул над лицом упавшего в снег человека. Больно скрипнуло за грудиной – верно, поломала ребра, окаянная… Второй раз наскакивать не стала – растоптала уроненный лук с колчаном и унеслась, взвихрив буран снежной пыли. И куропатку битую с собой унесла. Даже рассказ подтвердить нечем – кроме ломаных ребер да узких синюшных следов на груди – но то охотник увидит позже, сейчас – ух! – ноги унести он только мечтает. Кружат вдали за сугробами волчьи голоса – и не хочет чернобородый охотник видеть тех, кому они принадлежат! И пока потускневшие солнечные крыши не замаячат впереди – только о том и будет думать – прочь, прочь от этой козы и этого леса! Страшный хохот звучит в ушах – чем страшный, и не сказать даже. А жутко – жутче волчьей голодной песни за спиною. У, жутко!
Убежала коза, куропатку забрала. Куропатку ту снесла к домику Ингреды, в порог трижды била копытом. И выходила Мод на крыльцо, и затирала мазью из черной ивовой коры рану на птичьей шее, выдрав и скомкав в кулаке стрелу, как травинку. И вспархивала птица, и летела прочь – белая в белесом небе зимнем, незаметная, на землю падет, так и вовсе не различишь, покуда не коснешься.
У, жутко – а жутче всего, что потом, напившись вина горячего с сушеными травами и повинившись, как дело было, уйдет охотник спать к слугам бароновым – и в ту ночь же обнимет его страшная лихорадка. Такая, что чем ни поили его, что при лихоманке-трясовице помогает, а все без толку. Три дня солнечных и три ночи черных метался в жару и бреду. И хрипел, выл, как зверь, и выплевывал слова охотник, задыхаясь, точно давят ему на грудь или терзают горло. Отхаркивал такие слова: передает, говорил, косуля златорогая, весточку барону. Я, говорила она, дева Лалейн, госпожа раэн Тавтейр, и не властно время, не властны люди, сталь и серебро, золото и камень, и медь с водою текучей, и дерево с огнем горючим, не властно даже самое светило надо мною – покуда не возьму я крови из сердца барона Готрида Хромого. Так и передай, всем, кто услышать сможет.
Как трижды слова сии произнес, по разу в каждую ночь, так разом отпустила и лихоманка, и трясовица… только ребра отбитые болели. Забылся тяжким сном, еще три ночи проспал. Проснулся здоров, только глаза дикие. Молча собрался и ушел – никому ничего не сказав. Не видел, как – белая в светлом – мелькает куропатка в небе над следом его. Но да недолго провожала она его – ушел чужой человек, и птица улетела.
Летела-летела – на крыльцо избушки приземлилась. Вышла к ней снова Мод – рыжий пламень незаплетенных волос по плечам и внимательные, недобрые темные глаза, да тонкие руки, веснушки на пальцах. Смотрит – была куропатка, а вот уже и стоит напротив нее точно такая же Мод. Такие же глаза и волосы, и руки – веснушки на пальцах, тонкие косточки… в чаше ладоней – белая куропатка комком пуха. Шагнула одна к другой, слились они в одну девушку, одну-единственную племянницу ведьмы. Не было никакой второй Мод, то ее хитрое, крепкое слово вместе с птицей летало, а теперь к ней вернулось. Куропатку ту – хладную уже тушку – тем вечером сварит Мод в бульоне с кореньями да ягодами. А охотник… что охотник. Домой он вернулся. Только вот на коз больше охотиться зарекся.
Так-то, слышишь, бывает. Слово может стать сильней того, кто из плоти и крови. И что же то слово, вложенное перезвоном недоброго смеха, исторгнутое с больным жаром из груди и вползшее в уши людские, праздные? Как оно жило себе поживало?
Распрекрасно, отвечу, поживало – ползало себе юркой веретеницей, грелось у огня неприметной мышью или хитрой кошкою, пробиралось в дома хорьком, почуявшим кур. Порхало, летело – быстрей голубей, носящих письма! Секли это слово, рубили и жгли, как упрямое дерево и чернотальный кустарник, как сорную траву – запрещали, забыть пытались. А оно знай себе новые колосья, новые зерна пускало. И ползло, бежало, лилось, летело дальше. И, конечно, прослышал о том барон. Что же он? Того не скажет вам никто – вроде бы храбрился сперва. Потом изменников ждал – ну как явятся люди с косами да заступами, факелами да худыми старыми мечами, и скажут – давай, барон, иди. Напои лиходейку лесную кровью, чтоб жить мы смогли вольно. Не случилось – может, к худу, может, к добру, неведомо.
Годы шли – как-то люд притерпелся. Научились ладить охранки плетеные от козьих набегов – не то что бы помогали они, скорее, козочке прискучила однообразная игра. Да только охотиться знатному люду по-прежнему было опасно.
Текли себе годы, текли, да.
Один оборот, два, десять… из одного не выйдет десять, коли верно не заклясть! У! Верно закляла старуха Ингреда.
Так верно, что за эти десять лет состарился Хромой барон больше, чем мог бы кто подумать – точно десять обернулось в пять раз большим сроком под тусклыми крышами нового замка. Взошел на резное ларандфордское кресло он могучим мужем, пусть охромевшим на одну ногу, пусть с окровавленным дважды неправедно – трижды, четырежды – мечом. А нынче сидел на нем – старик, зимней старостью объят.
И выбивал звонкий цокот копыт раздвоенных искры из утоптанной, каменистой дороги, что втекала в замковые врата. И несся смех – ветер в расщепе древесного ствола, стон камня, прокаленного стужей – над замком. Каждую ночь. Иные люди, сказывают, не слышали – но барон, о, барон прекрасно слышал. И видел мелькание искорок от копытец. И лунный свет, льющийся от легкой фигурки девы-козы.
И стал барон тогда созывать колдунов к себе, раз охотники не помогли – да только первый же, прознав, что за дело, спешно собрался и уехал. Второй начертал охранные руны на воротах замка. Третий сварил снотворного зелья барону… как-то еще прожил лето Готрид Хромой. Затворником, трусом, трясущимся стариком, не могущим без травяного пойла смежить глаз.
Пока не приехал один умник – он долго заставлял Хромого глядеть в воду в серебряной чаше, поил этой водою, пел странные песни на старом языке южных морей. И воспрял Хромой! Не помолодел враз, нет – но страх и бессонница ушли, как не были! И собирался было он уже, как до того, попробовать добыть снова диковинную козу – крепко уповал на амулет, что вырезал ему заезжий кудесник! Злые языки сказывали, что раскопал тот кудесник недогоревшую в погребальной краде косточку старшего отпрыска рода Тавтейр, и на ней рисовал знаки-обереги, вдергивал шнурок и велел Хромому носить против сердца вечно. Но так ли это, не скажет никто – может статься, что и так. Мол, не посмеет бить дева Лалейн туда, где почует родную плоть. Может, был в тех речах толк. Только вот случилось так: однажды грозовою ночью в пору, когда осень ложится золотой патиной на земли и леса, цокот копыт и тихий, нечеловеческий смех услышали все, не только барон-самозванец. А следом великой силы удар сотряс ворота, точно стучал в них каменный великан-багр цельным дубовым стволом. Раз, другой ударил некто в ворота! Проснулись все, кто был в замке. Выскочил барон с мечом в руке – и на бегу оправлял кольчугу, пряча под нее неведомый никому амулет от заезжего колдуна-умельца.
Третий удар – бах! Гром и молния с небес! Треснули ворота – того и гляди, хлынет вражья армия в пролом! Еще удар – щепки от ворот, открыт проход! И – армия хлынула. Звери и птицы, дневные и ночные, великие и малые, олени и козы с волками бок о бок. Разбежались по двору, били и топтали, и крушили все, что пожелают. И будто бы, если надумался кто замереть и не шевелиться, стараться даже не дышать – не трогали таких людей звери. Да только мало у кого хватило духу на то – отбивалась стража, бежали слуги, махал мечом направо и налево сам Хромой барон. И вышел к нему – грудью в грудь сшибиться – полководец той дикой армии. Дева Лалейн госпожа раэн Тавтейр, та, корой в этот час сравнялось ровно восемнадцать оборотов. То есть – сравнялось бы.
Била копытами и бодала рогами – и от касаний ее железо становилось ржавой трухой, тупился меч и осыпалась рыжей пылью кольчуга. И крученый шнурок, продетый в железное колечко амулета, скоро повис пустым – и это железо не выдержало чар девы-козы. И тогда, о, тогда смогла косуля-госпожа добраться до своего врага! Ударила рожками – сверкнуло золото в свете молний, осветивших замковый двор! Пронзила она рожками грудь предателя и убийцы, неправедно севшего на трон ларанда Тавтейр, Готрида Жестокого, ныне называемого Хромым! Багрянцем запятнало золото, брызнула густая живая соль из сердца Готрида, оросила деву-косулю! Да! За чем пришла – то она и взяла!
Замолчала королева Радда, опустила взгляд, занялась новой ниткой – вставила в иглу, узелок затянула, через ткань протянула. И король Грон подошел ближе, сел рядом:
– И что же было дальше?
– А вот тут, о король мой, расходятся речи сказителей. Одни говорят – в тот же миг стала дева Лалейн сама собою – человеком, живой и прекрасной девушкой, взрослой наследницей замка и всего ларанда. Тогда велела дева людям присягать ей, законной хозяйке. Повинились в страхе все, кто был в замке, и присягнули. И кончилась ее власть над зверьем тотчас – как стала она госпожой над людьми. Разбежались звери, попрятались в лесах, и стало в краю Тавтейр спокойно и тихо с той поры, и воссела на братний и отцов дубовый трон юная баронесса. Правила мудро, жила долго, мужа сыскала храброго и сильного, детей родилось у них – что земляники росным летним утром на опушке…
А иные говорят – да, все так, взяла кровь, что желала, и свершила давнюю месть. Но – из одного не выйдет десять, если ведьме не повезет заклясть, а прежнее колдовство Ингерды не было властно сделать из козьего тела человеческое, да и разум не переделать – бегая не зверем, и не человеком, немного сохранишь от себя прежнего, верно? И оттого не обернулась Лалейн никем больше, зато погас злой огонь в ее глазах, и улыбнулась она светло… сказала слово, и повернули звери прочь. А замок тот, белостенный, с крышами, прежде точно солнцем облитыми, рассыпался – будто враз весь раствор скрепляющий песком вытек меж камней. Рухнул, и стал погребением вечным для тех, кто не защитил ее саму, не помог ее брату, не осмелился перечить злому приказу десяток лет назад. Все те, кто кровь и боль принесли юной госпоже, легли замертво – как и старый барон Готрид. А Лалейн осталась косулею. Хранила земли свои, оберегала честный люд, а нечестный и злой – карала… а может, попросту снова жила, как прежде – прихотью да весельем. Вечная, неизменная, живая – да только уже не она, какой была прежде. Дивная колдовская дева-коза, забывшая, что значит быть человеком.
– И какая же концовка верна? – удивляется король. В самом деле удивляется: мелькает в серых глазах огонек любопытства, и мальчишечья улыбка озаряет суровые черты его лица.
– А того, супруг мой возлюбленный, того никто не знает. Сказывали и так, и так – поровну находилось сторонников обеих концовок, – отвечает Радда, глядя мужу в глаза. – В недавнюю годину, пока я жила за морем, в гаэльской стороне, говорят, эту сказку особенно любили. Говорили – наша родина, Краймор, как та дева Лалейн… знаешь, в страшное время людям отчего-то по вкусу больше была первая концовка. Где молодая баронесса, прекрасная, как летний день, садится на древний трон, и правит – мудро, долго. Так-то, мой король!
– Это очень… страшная сказка, моя королева. Знаешь, я думал – страшнее жизни ни одна сказка не может быть.
– Так и есть. Так и есть.
И оба подумают – а славно, что в жизни может быть больше двух финалов.
Сказка о голубой траве, что отмыкает оковы и меняет пути
Давно это было, но не настолько, чтобы те, кто живет сейчас, не помнил этой истории и не мог рассказать другим.
Рассказывают, и по сей день рассказывают – так от чего бы не послушать вновь?
Сказывают, жила некогда семья – очень просто жили, бедно – потому что поселились далеко от прочих, на окраине большого леса, и до другого жилья идти пришлось бы долго, и то, если заблудиться не угораздит. Но, говорят, всего хватало семье – разве что сыновей боги не дали, а только лишь трех дочерей, но родители вроде бы не очень печалились этому. Печально только было то, что замуж дочерей, живя на отшибе, будет сложно выдать. Редко когда гости бывали в их домике, а одних дочерей далеко ходить отец не пускал – боялся, как бы беда какая не приключилась. Кем по крови были они – то до точности неизвестно, но вот говорят знающие люди, что фамилия их начиналась на Мэк – и кажется, верна сия догадка. Но да не о том речь. Жили они себе незнамо сколько в тишине да покое, изо дня в день жизнь была похожа на ту, что днем ранее текла, ну вот ровно как дождевые брызги сходны – может, и отличны чем, да на поверку о землю одинаково бьются. Но когда-то и ровную завесу дождя прорезает вдруг взблеск молнии, бывает что.
Случилось однажды так, что проходил на ту пору близ домика жрец кого-то из Сокрытых, богов земли Гаэль. Кого – сразу не поймешь так, то ли Эдарна, то ли Этивы верный, а то и вовсе Мианы-Матери последователь – ясно только было, что не кого-то из богов-воинов. На ту пору отец семейства дрова рубил. Подошел к нему жрец, воды испросил напиться. Тот работу, значит, отставил, кликнул дочку, та принесла два кувшина – с молоком из погреба, холодным да свежим, и с водою, как и просил мимохожий. Тот поблагодарил, испил все же молока, и видно было, что рад такой предусмотрительности. Пообещал добрым советом отдариться и так молвил:
– Знаю, почтенный, что три дочери у тебя, и все умны и расторопны, как и та добрая девушка, что поднесла молока усталому путнику, и красивы – не меньше, чем умны. Всем девицы хороши, да свататься никто не идет, далеко вы забрались. Но послушай сюда – хочешь коли счастья для дочерей, не смей первому, кто свататься явится, отказать. Откажешь – беда будет, за кого бы дочки твои потом не вышли, все злом обернется. А коли уважишь первого, руки твоей дочери взыскующего – так и вам потом самим оно добром вернется, и двум другим девам счастье принесет много.
Послушал-послушал тот, почесал в голове, спросить чего хотел – глядь, да и нету пред ним говорившего! Ровно растворился!
Ну, мужик не стал долго над тем голову ломать – мало ли чего кудеснику в голову могло взбрести! А вот совет запомнил – с виду не таилось в том совете ничего странного, звучал он разумно… да страшновато все равно было – ну а как знать, кто первым явится?
И как воду глядел же!
Не прошло и седмицы, как постучали в дверь их избушки со словами:
– Слышу… ох заведет нынче новую буйную голову в волчьи овраги этот звон, – Мод говорит это скучным голосом – таким, каким рассказывают о цене на капустный кочан у ярмарочной торговки по осени, или о прошедшем дожде.
– Конечно, заведет! – хекает Ингреда. – И это тоже – сила. Ее сила выросла из боли.
– Моя, наверное, тоже, – Мод скучнеет еще сильнее, и смотрит, сморит в огонь жадно – точно видит в нем мелькание быстрых ног девы-косули – и следом неспешный шаг по оставленной стежке следов.
– Похлебку снимешь – вот этот короб перебери еще. Кора черной полуночной ивы, что содрана была костяным ножом… помнишь, от чего?
– А то не помнить! Будто не ее толкла я тогда, когда пришла сюда – руки по локоть кровью вымазаны!
– Вот и перебирай. Надумаешь что – говори, не молчи. Ты умная девочка, Мод, но тебе еще многому учиться нужно. Да помешай в котле, как бы не выкипело!
И снова ведьмы – юная и старая – погружаются каждый в свое дело.
И видят, и знают – одна по тому, как тянется нить из кудели да взвывает ветер, а вторая в случайном узоре рассыпавшихся по столу листочков тимьяна да руты, иль по взблескам искр в очаге, иль по бульканью котелка – как торопится по следу охотник. На свою беду увидел свежий след, и ноги несут его вперед. Чутко, как пес, припадает к рыхлому снегу – мягок слой снежного пуха. Не настыл, не схватился след, край его рыхло осыпается под касанием рукавицы близко, близко! Дева косуля бежит впереди – вот сияющее-золотой волос на ветке шиповника, меж рдяных ягод блестит. Вот шерстинка на шершавом древесном стволе… вот меж дерев мелькнула – она! Точно она! Лунное серебро девичьего лика – нежного и чистого. И золото рогов! Все, как сказывали – и теперь уже эта сказочная козочка от него, удальца, не уйдет!
Выстукивают копытца звонкую вязь бега, ткут узорный след – и стремится по нему, по легкой стежке – синеватому серебру на белизне – охотник за козочкой, за девой-ланью, за не живой, но и не мертвою Лалейн раэн Тавтейр, госпожой не замка с солнечными крышами, но лесов и всех диких земель окрест.
Он был не местным, этот охотник. Издалека пришел, с берегов, что ныне ларанд Рэвенд зовутся.
Он не знал в лицо бароновой дочки – да и по правде, мало кто узнавал ее, потому что в единое лето лицо девочки стало не детским, но девичьим, а после таким и осталось, не меняясь. Ну и все же верно сказывали – мало кто без страха мог взглянуть в лицо существу, что человеком уже не было. Зреть лицо с человеческими чертами, да с выражением, которого ни у кого из живущих быть не может – это надо большим храбрецом быть. Охотник, что летел по снежной рыхлой стежке, был таков. Храбр и ловок. И стрелял он славно – вскинул лук, натянул тетиву, свистнула стрела – безжалостная, быстрая!
«Попал! Или промазал?!» – метнулась мысль в голове туда-сюда, точь-в-точь. Как белая куропатка, незнамо откуда вспорхнувшая, когда слетела прочь стрела. Вспугнутая, белоперая – верно, у ног козочки в снегу сидела, а как та дернулась, уязвленная стрелою, так и птица испугалась, улетела. Как бы там ни было, а рванула дева-коза прочь пуще той стрелы.
«Если попал – то скоро выдохнется. Пройду, посмотрю. Обидно упустить будет!» – так мыслил храбрый мастер-охотник. И двинулся следом снова. И вскоре бледная строчка взрытой белизны, как мохнатая некрученая нить, украсилась мелкими ягодами-бусинами. Алыми, горячими, солеными с горечью – не рябина то, ох, и не рябина просыпалась! Сочилась кровь жаркими каплями, пятная белое красным.
«Так попал! Попал! Я, я возьму баронову награду, я сумею добыть эту чудо-козу!» – ликовал охотник. Мстились ему уже в каплях крови той рубины, а в блеске снежном – россыпи золотые. На что молодому охотнику с черной бородою, человеку с берега Рэв, нужны были те рубины да золото, никому он не сказывал – может, просто жаден был, а может, хотел в жены звать знатную деву. А может – думал заплатить колдуну, чтоб тот сладил для него сложную работу, или на лекарства старому родителю потратил бы, аль на выкуп побратима из долга… никто не знал. Никому до того дела не было, в том числе и Мод, что теперь пряла, тянула нитку вместе со старой Ингердой. А уж козочке о золотых рожках – и подавно! Ни дела, ни печали.
Все чаще падали рябиновые ягодки кровавых капель в снег, все быстрее спешил охотник. Нагонял – козочка была близко. Только вот поздно понял – не в косулю он попал. Поздно увидел – смеется злое болото и лунные тени пляшут в глазах у той косули. Она нарочно подпустила к себе удальца – чтоб видел тот, что игры играются и истории сказываются здесь такие, как ей, деволикой, угодно. Держала в зубах косуля-госпожа белую куропатку. Из шейки птичьей торчала охотничья стрела с бурым пером – та, что выпустил сам охотник. И именно птичья кровь пятнала снег. Выронила косуля-дева птицу, разжав белые зубы, и рассмеялась – так, как не смеется никто из живущих. Так плачет болотная птица, так выдра потешается над уснувшим рыбаком[2 - Голос речной выдры очень похож на человеческий смех.], так кличет беду ветер, гуляя в трещине ствола древесного. И, рассмеявшись, бросилась козочка вперед, копытами метя в грудь человека, оцепеневшего пред нею. Ударила, повалила, пронеслась – светлый козий живот мелькнул над лицом упавшего в снег человека. Больно скрипнуло за грудиной – верно, поломала ребра, окаянная… Второй раз наскакивать не стала – растоптала уроненный лук с колчаном и унеслась, взвихрив буран снежной пыли. И куропатку битую с собой унесла. Даже рассказ подтвердить нечем – кроме ломаных ребер да узких синюшных следов на груди – но то охотник увидит позже, сейчас – ух! – ноги унести он только мечтает. Кружат вдали за сугробами волчьи голоса – и не хочет чернобородый охотник видеть тех, кому они принадлежат! И пока потускневшие солнечные крыши не замаячат впереди – только о том и будет думать – прочь, прочь от этой козы и этого леса! Страшный хохот звучит в ушах – чем страшный, и не сказать даже. А жутко – жутче волчьей голодной песни за спиною. У, жутко!
Убежала коза, куропатку забрала. Куропатку ту снесла к домику Ингреды, в порог трижды била копытом. И выходила Мод на крыльцо, и затирала мазью из черной ивовой коры рану на птичьей шее, выдрав и скомкав в кулаке стрелу, как травинку. И вспархивала птица, и летела прочь – белая в белесом небе зимнем, незаметная, на землю падет, так и вовсе не различишь, покуда не коснешься.
У, жутко – а жутче всего, что потом, напившись вина горячего с сушеными травами и повинившись, как дело было, уйдет охотник спать к слугам бароновым – и в ту ночь же обнимет его страшная лихорадка. Такая, что чем ни поили его, что при лихоманке-трясовице помогает, а все без толку. Три дня солнечных и три ночи черных метался в жару и бреду. И хрипел, выл, как зверь, и выплевывал слова охотник, задыхаясь, точно давят ему на грудь или терзают горло. Отхаркивал такие слова: передает, говорил, косуля златорогая, весточку барону. Я, говорила она, дева Лалейн, госпожа раэн Тавтейр, и не властно время, не властны люди, сталь и серебро, золото и камень, и медь с водою текучей, и дерево с огнем горючим, не властно даже самое светило надо мною – покуда не возьму я крови из сердца барона Готрида Хромого. Так и передай, всем, кто услышать сможет.
Как трижды слова сии произнес, по разу в каждую ночь, так разом отпустила и лихоманка, и трясовица… только ребра отбитые болели. Забылся тяжким сном, еще три ночи проспал. Проснулся здоров, только глаза дикие. Молча собрался и ушел – никому ничего не сказав. Не видел, как – белая в светлом – мелькает куропатка в небе над следом его. Но да недолго провожала она его – ушел чужой человек, и птица улетела.
Летела-летела – на крыльцо избушки приземлилась. Вышла к ней снова Мод – рыжий пламень незаплетенных волос по плечам и внимательные, недобрые темные глаза, да тонкие руки, веснушки на пальцах. Смотрит – была куропатка, а вот уже и стоит напротив нее точно такая же Мод. Такие же глаза и волосы, и руки – веснушки на пальцах, тонкие косточки… в чаше ладоней – белая куропатка комком пуха. Шагнула одна к другой, слились они в одну девушку, одну-единственную племянницу ведьмы. Не было никакой второй Мод, то ее хитрое, крепкое слово вместе с птицей летало, а теперь к ней вернулось. Куропатку ту – хладную уже тушку – тем вечером сварит Мод в бульоне с кореньями да ягодами. А охотник… что охотник. Домой он вернулся. Только вот на коз больше охотиться зарекся.
Так-то, слышишь, бывает. Слово может стать сильней того, кто из плоти и крови. И что же то слово, вложенное перезвоном недоброго смеха, исторгнутое с больным жаром из груди и вползшее в уши людские, праздные? Как оно жило себе поживало?
Распрекрасно, отвечу, поживало – ползало себе юркой веретеницей, грелось у огня неприметной мышью или хитрой кошкою, пробиралось в дома хорьком, почуявшим кур. Порхало, летело – быстрей голубей, носящих письма! Секли это слово, рубили и жгли, как упрямое дерево и чернотальный кустарник, как сорную траву – запрещали, забыть пытались. А оно знай себе новые колосья, новые зерна пускало. И ползло, бежало, лилось, летело дальше. И, конечно, прослышал о том барон. Что же он? Того не скажет вам никто – вроде бы храбрился сперва. Потом изменников ждал – ну как явятся люди с косами да заступами, факелами да худыми старыми мечами, и скажут – давай, барон, иди. Напои лиходейку лесную кровью, чтоб жить мы смогли вольно. Не случилось – может, к худу, может, к добру, неведомо.
Годы шли – как-то люд притерпелся. Научились ладить охранки плетеные от козьих набегов – не то что бы помогали они, скорее, козочке прискучила однообразная игра. Да только охотиться знатному люду по-прежнему было опасно.
Текли себе годы, текли, да.
Один оборот, два, десять… из одного не выйдет десять, коли верно не заклясть! У! Верно закляла старуха Ингреда.
Так верно, что за эти десять лет состарился Хромой барон больше, чем мог бы кто подумать – точно десять обернулось в пять раз большим сроком под тусклыми крышами нового замка. Взошел на резное ларандфордское кресло он могучим мужем, пусть охромевшим на одну ногу, пусть с окровавленным дважды неправедно – трижды, четырежды – мечом. А нынче сидел на нем – старик, зимней старостью объят.
И выбивал звонкий цокот копыт раздвоенных искры из утоптанной, каменистой дороги, что втекала в замковые врата. И несся смех – ветер в расщепе древесного ствола, стон камня, прокаленного стужей – над замком. Каждую ночь. Иные люди, сказывают, не слышали – но барон, о, барон прекрасно слышал. И видел мелькание искорок от копытец. И лунный свет, льющийся от легкой фигурки девы-козы.
И стал барон тогда созывать колдунов к себе, раз охотники не помогли – да только первый же, прознав, что за дело, спешно собрался и уехал. Второй начертал охранные руны на воротах замка. Третий сварил снотворного зелья барону… как-то еще прожил лето Готрид Хромой. Затворником, трусом, трясущимся стариком, не могущим без травяного пойла смежить глаз.
Пока не приехал один умник – он долго заставлял Хромого глядеть в воду в серебряной чаше, поил этой водою, пел странные песни на старом языке южных морей. И воспрял Хромой! Не помолодел враз, нет – но страх и бессонница ушли, как не были! И собирался было он уже, как до того, попробовать добыть снова диковинную козу – крепко уповал на амулет, что вырезал ему заезжий кудесник! Злые языки сказывали, что раскопал тот кудесник недогоревшую в погребальной краде косточку старшего отпрыска рода Тавтейр, и на ней рисовал знаки-обереги, вдергивал шнурок и велел Хромому носить против сердца вечно. Но так ли это, не скажет никто – может статься, что и так. Мол, не посмеет бить дева Лалейн туда, где почует родную плоть. Может, был в тех речах толк. Только вот случилось так: однажды грозовою ночью в пору, когда осень ложится золотой патиной на земли и леса, цокот копыт и тихий, нечеловеческий смех услышали все, не только барон-самозванец. А следом великой силы удар сотряс ворота, точно стучал в них каменный великан-багр цельным дубовым стволом. Раз, другой ударил некто в ворота! Проснулись все, кто был в замке. Выскочил барон с мечом в руке – и на бегу оправлял кольчугу, пряча под нее неведомый никому амулет от заезжего колдуна-умельца.
Третий удар – бах! Гром и молния с небес! Треснули ворота – того и гляди, хлынет вражья армия в пролом! Еще удар – щепки от ворот, открыт проход! И – армия хлынула. Звери и птицы, дневные и ночные, великие и малые, олени и козы с волками бок о бок. Разбежались по двору, били и топтали, и крушили все, что пожелают. И будто бы, если надумался кто замереть и не шевелиться, стараться даже не дышать – не трогали таких людей звери. Да только мало у кого хватило духу на то – отбивалась стража, бежали слуги, махал мечом направо и налево сам Хромой барон. И вышел к нему – грудью в грудь сшибиться – полководец той дикой армии. Дева Лалейн госпожа раэн Тавтейр, та, корой в этот час сравнялось ровно восемнадцать оборотов. То есть – сравнялось бы.
Била копытами и бодала рогами – и от касаний ее железо становилось ржавой трухой, тупился меч и осыпалась рыжей пылью кольчуга. И крученый шнурок, продетый в железное колечко амулета, скоро повис пустым – и это железо не выдержало чар девы-козы. И тогда, о, тогда смогла косуля-госпожа добраться до своего врага! Ударила рожками – сверкнуло золото в свете молний, осветивших замковый двор! Пронзила она рожками грудь предателя и убийцы, неправедно севшего на трон ларанда Тавтейр, Готрида Жестокого, ныне называемого Хромым! Багрянцем запятнало золото, брызнула густая живая соль из сердца Готрида, оросила деву-косулю! Да! За чем пришла – то она и взяла!
Замолчала королева Радда, опустила взгляд, занялась новой ниткой – вставила в иглу, узелок затянула, через ткань протянула. И король Грон подошел ближе, сел рядом:
– И что же было дальше?
– А вот тут, о король мой, расходятся речи сказителей. Одни говорят – в тот же миг стала дева Лалейн сама собою – человеком, живой и прекрасной девушкой, взрослой наследницей замка и всего ларанда. Тогда велела дева людям присягать ей, законной хозяйке. Повинились в страхе все, кто был в замке, и присягнули. И кончилась ее власть над зверьем тотчас – как стала она госпожой над людьми. Разбежались звери, попрятались в лесах, и стало в краю Тавтейр спокойно и тихо с той поры, и воссела на братний и отцов дубовый трон юная баронесса. Правила мудро, жила долго, мужа сыскала храброго и сильного, детей родилось у них – что земляники росным летним утром на опушке…
А иные говорят – да, все так, взяла кровь, что желала, и свершила давнюю месть. Но – из одного не выйдет десять, если ведьме не повезет заклясть, а прежнее колдовство Ингерды не было властно сделать из козьего тела человеческое, да и разум не переделать – бегая не зверем, и не человеком, немного сохранишь от себя прежнего, верно? И оттого не обернулась Лалейн никем больше, зато погас злой огонь в ее глазах, и улыбнулась она светло… сказала слово, и повернули звери прочь. А замок тот, белостенный, с крышами, прежде точно солнцем облитыми, рассыпался – будто враз весь раствор скрепляющий песком вытек меж камней. Рухнул, и стал погребением вечным для тех, кто не защитил ее саму, не помог ее брату, не осмелился перечить злому приказу десяток лет назад. Все те, кто кровь и боль принесли юной госпоже, легли замертво – как и старый барон Готрид. А Лалейн осталась косулею. Хранила земли свои, оберегала честный люд, а нечестный и злой – карала… а может, попросту снова жила, как прежде – прихотью да весельем. Вечная, неизменная, живая – да только уже не она, какой была прежде. Дивная колдовская дева-коза, забывшая, что значит быть человеком.
– И какая же концовка верна? – удивляется король. В самом деле удивляется: мелькает в серых глазах огонек любопытства, и мальчишечья улыбка озаряет суровые черты его лица.
– А того, супруг мой возлюбленный, того никто не знает. Сказывали и так, и так – поровну находилось сторонников обеих концовок, – отвечает Радда, глядя мужу в глаза. – В недавнюю годину, пока я жила за морем, в гаэльской стороне, говорят, эту сказку особенно любили. Говорили – наша родина, Краймор, как та дева Лалейн… знаешь, в страшное время людям отчего-то по вкусу больше была первая концовка. Где молодая баронесса, прекрасная, как летний день, садится на древний трон, и правит – мудро, долго. Так-то, мой король!
– Это очень… страшная сказка, моя королева. Знаешь, я думал – страшнее жизни ни одна сказка не может быть.
– Так и есть. Так и есть.
И оба подумают – а славно, что в жизни может быть больше двух финалов.
Сказка о голубой траве, что отмыкает оковы и меняет пути
Давно это было, но не настолько, чтобы те, кто живет сейчас, не помнил этой истории и не мог рассказать другим.
Рассказывают, и по сей день рассказывают – так от чего бы не послушать вновь?
Сказывают, жила некогда семья – очень просто жили, бедно – потому что поселились далеко от прочих, на окраине большого леса, и до другого жилья идти пришлось бы долго, и то, если заблудиться не угораздит. Но, говорят, всего хватало семье – разве что сыновей боги не дали, а только лишь трех дочерей, но родители вроде бы не очень печалились этому. Печально только было то, что замуж дочерей, живя на отшибе, будет сложно выдать. Редко когда гости бывали в их домике, а одних дочерей далеко ходить отец не пускал – боялся, как бы беда какая не приключилась. Кем по крови были они – то до точности неизвестно, но вот говорят знающие люди, что фамилия их начиналась на Мэк – и кажется, верна сия догадка. Но да не о том речь. Жили они себе незнамо сколько в тишине да покое, изо дня в день жизнь была похожа на ту, что днем ранее текла, ну вот ровно как дождевые брызги сходны – может, и отличны чем, да на поверку о землю одинаково бьются. Но когда-то и ровную завесу дождя прорезает вдруг взблеск молнии, бывает что.
Случилось однажды так, что проходил на ту пору близ домика жрец кого-то из Сокрытых, богов земли Гаэль. Кого – сразу не поймешь так, то ли Эдарна, то ли Этивы верный, а то и вовсе Мианы-Матери последователь – ясно только было, что не кого-то из богов-воинов. На ту пору отец семейства дрова рубил. Подошел к нему жрец, воды испросил напиться. Тот работу, значит, отставил, кликнул дочку, та принесла два кувшина – с молоком из погреба, холодным да свежим, и с водою, как и просил мимохожий. Тот поблагодарил, испил все же молока, и видно было, что рад такой предусмотрительности. Пообещал добрым советом отдариться и так молвил:
– Знаю, почтенный, что три дочери у тебя, и все умны и расторопны, как и та добрая девушка, что поднесла молока усталому путнику, и красивы – не меньше, чем умны. Всем девицы хороши, да свататься никто не идет, далеко вы забрались. Но послушай сюда – хочешь коли счастья для дочерей, не смей первому, кто свататься явится, отказать. Откажешь – беда будет, за кого бы дочки твои потом не вышли, все злом обернется. А коли уважишь первого, руки твоей дочери взыскующего – так и вам потом самим оно добром вернется, и двум другим девам счастье принесет много.
Послушал-послушал тот, почесал в голове, спросить чего хотел – глядь, да и нету пред ним говорившего! Ровно растворился!
Ну, мужик не стал долго над тем голову ломать – мало ли чего кудеснику в голову могло взбрести! А вот совет запомнил – с виду не таилось в том совете ничего странного, звучал он разумно… да страшновато все равно было – ну а как знать, кто первым явится?
И как воду глядел же!
Не прошло и седмицы, как постучали в дверь их избушки со словами: