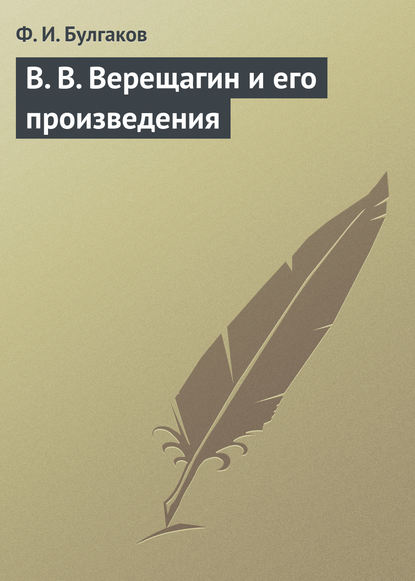По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В. В. Верещагин и его произведения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Выставки эти, однако, не прерывали обычных работ над картинами. В 1881 году он написал ряд новых картин: «Перед атакой», «Турецкий лазарет» и «Перевязочный пункт» – с двумя тысячами раненых, множеством докторов и сестер милосердия. Это была едва ли не первая картина, на которой художник вывел женщин. Еще в 1879 году он сам обратил внимание на то, что в его картинах отсутствуют женщины, и писал В. Стасову: «У меня нет в картинах женщин – но это не преднамеренно, а потому что не приходилось еще. После, вероятно, будет. Кстати, недавно, по поводу отзывов о книге Ильинского, я хотел написать в газеты несколько слов, чтобы с своей стороны засвидетельствовать о женском терпении, настойчивости, выносливости, искусстве, храбрости и проч. за прошедшую войну. Я хотел высказать крайнюю необходимость, после таких отзывов, неотложно открыть молодым женским силам натуральную дорогу… да все еще не решаюсь говорить иначе, как кистью»… Картина «Перевязочный пункт» была результатом этого желания. В 1882 году он написал еще новых «Дервишей» и вид Московского Кремля. Новые болгарские картины вместе с 43 индийскими выставлялись в Москве и Петербурге в 1883 году.
XIX. В Сирии и Палестине
Побывав еще раз в Индии, Верещагин в 1884 г. отправился в Сирию и Палестину. Путешествие в Святую Землю произвело на него такое же впечатление, как и на всех паломников, посещавших эту страну. Идеальные представления, которые связываются с целым рядом местностей, освященных страданиями и смертью Спасителя, представления, созданные на основании Евангелия, разлетаются обыкновенно при первом же посещении этих месте. Грубый цинизм современного греческого духовенства уничтожает всякое возвышенное настроение, лишает названия палестинских городов и местностей их того ореола, который создается чтением Евангелия. Весьма многие паломники возвращались оттуда глубоко разочарованными. Верещагин, конечно, был возмущен всем виденным не менее других. В своих воспоминаниях он негодует на циничное, наглое корыстолюбие греческого духовенства, приводит поразительные факты. «Я рисовал, помню, на сорокадневной горе», рассказывает он, «когда монах-настоятель, бросившийся рассматривать в бинокль пыль, поднявшуюся на дороге, объявил, что „гонят русских“, и стал приготовлять водку, закуску, ставить самовар. Действительно, через час времени, поднялись сначала кавас нашего консульства в Иерусалиме, усатый, расшитый араб, а за нем наши запыленные, запотелые, взмученные богомольцы. „Где здесь записываются?“ спрашивают они впопыхах и направляются по указанию в пещеру, из которой сейчас же спускаются назад, так как им дан всего час времени и на восход на гору, и на поклонение. Но лучше всего то, что визит-то каваса был не спроста: он объявил монаху-настоятелю, что если тот не согласится дать ему половину выручки с богомольцев, то ни один из них не переступит порога пещеры. Конечно, почтенный отец должен был покориться и из 15 руб., полученных за записи „на вечное поминовение“, должен был уделить кавасу 7 руб. Зато же, впрочем, и „записи“ валялись потом по всем углам пещеры»[28 - «Русская Старина», 1889 г., т. 63, стр. 443.].
Через некоторое время благочестивые паломники, видя перед собою всякого рода примеры, доходят, по словам Верещагина, до того, что своим поведением начинают скандализировать даже туземцев. С бутылками водки в руках, пошатываясь и ругаясь, они пристают к прохожим, даже к нищим:
– Пей, пей, такой-сякой…
«Что наши переплачивают грекам за так называемые „очистительные обедни“», – пишет Верещагин, «и сказать трудно».
Результатом этих путешествий была серия картин из индийского быта («Триумфальный въезд индийского вице-короля» и «Индийская казнь»), а также картин палестинских[29 - Подробное описание их см. ниже: «Художественные произведения В. В. Верещагина».]. В 1885 г. все эти картины были выставлены в Вене. Та же коллекция показывалась затем в Париже, в разных городах Германии, в Лондоне и других городах Англии, а затем выставлялась в Нью-Йорке, где пробыла с 1888 по 1890 г., и там продана.
XX. Евангельские картины в Вене
Выставка 1885 г. в Вене, где находились 144 произведения Верещагина: 54 из палестинской коллекции, 28 – из индийской (в том числе «Будущий император Индии»), 2 – на болгарские темы, 4 – на русские и, кроме того, 56 юношеских рисунков, ознаменовалась бурным инцидентом, который сильно разогрел страсти. Дело в том, что среди палестинской коллекции было две картины на евангельские темы: «Святое Семейство» и «Воскресение Христово». Обе картины, написанные с реалистическими приемами, вызвали негодование правоверных католиков, и венский архиепископ Гангльбауэр опубликовал в газетах следующий протест против них:
«Мое внимание было привлечено скандалом, который произвели среди верующих католиков картины Верещагина, представляющие эпизоды из жизни Христа и выставленные в залах Артистического Общества; по этому вопросу я собрал сведения через одно доверенное лицо. На основании его словесных сообщений, равно как на основании знакомства с каталогом выставки, с объяснительным текстом и с фотографическими снимками, я пришел к горестному убеждению, что эти две картины, основанные на библейских текстах, цитированных тенденциозно и истолкованных ложно, в Ренановском смысле, – эти картины поражают христианство в его основных учениях и недостойным образом стараются подорвать веру в искупление человечества Воплотившимся Сыном Божиим.
Одна из этих картин представляет Сына Божия. Спасителя издревле обетованного, зачатого от Духа Святого и рожденного нетленно девою Мариею, – тайна вечной любви, идеальный смысл которой внушил Рафаэлю его бессмертные художественные создания, – представляет Сына Божия, говорю я, как первенца восточной семьи, весьма многочисленной, которую живописец святотатственно называет „Святым Семейством“, употребляя этот термин в традиционном христианском смысле. Другая картина представляет Бога-Человека, нашего Спасителя, Который искупительной смертью на кресте, добровольно принятой из любви к человечеству, победил смерть и грех и победно воскрес из мертвых в третий день, по писаниям, завершив своим воскресением дело искупления, – представляет Богочеловека очнувшимся из летаргии, украдкой выглядывающим из входа в гробницу, – явление недостойное, действительно отталкивающие, и стража в ужасе бежит от него.
Я был горестно опечален подобной профанацией всего, что только есть самого святого для христианина, этой профанацией самого возвышенного идеала в христианском искусстве и я, как епископ, счел своей обязанностью позаботиться о том, чтобы эти картины, которые так глубоко оскорбляют религиозное чувство католика, были удалены со взоров посетителей выставки, и при том, по возможности, тихо и бесшумно. Но мои старания не достигли цели, и даже, к моему крайнему сожалению, каждодневно эксплуатировались в различных газетах, в качестве рекламы этим святотатственным картинам. Мне ничего не остается, в качестве епископа, который обязан в силу обета, не только проповедовать наше святое католическое учение, но и защищать его всеми силами против всяких посягательств, – мне ничего не остается, как только торжественно и во всеуслышание протестовать против противного всем содержания этих двух картин и против недостойного их посягательства на христианство. При этом я обращаюсь к верующим католикам с увещанием, чтобы они своим присутствием не принимали участия в этом кощунстве, и от имени всех верных моей епархии умоляю Богочеловека, Спасителя нашего, не возгневаться на унижение, которому Он подвергается выставкой этих картин в католическом городе Вене, Вена, 8 ноября, 1885 г. Целистин-Иосиф, кардинал Гангльбауэр, князь-архиепископ.»
Протест Гангльбауэра не только не поправил дела, но, наоборот, ухудшил его. Картины убраны не были, а в публике и в прессе заявление архиепископа произвело сенсацию. Некоторые газеты, далеко не сочувствовавшие Верещагину, называли поступок кардинала бестактным: по их словам, картины русского художника на евангельские темы не удались, и публика равнодушно проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но после протеста Гангльбауэра возле тех же самых полотен появилась громадная толпа, и с раннего утра до позднего вечера «верующие католики» жадно созерцали инкриминированные «скандальные» картины. Другие органы, более сочувствовавшие Верещагину, стали за него заступаться и указывали Гангльбауэру, что он напрасно забил тревогу, что русский художник сам свято чтит Евангелие и своими картинами никого не думал оскорблять, ничего не хотел ниспровергать. Наконец, откликнулся и сам Верещагин, живший в то время в Мэзон-Лафитт под Парижем. 14-го ноября он опубликовал следующий ответ Гангльбауэру:
«Его эминенция монсиньор Гангльбауэр, кардинал архиепископ венский, страстной критикой оказал честь некоторым моим картинам, которые я в настоящее время выставил в Вене. В интересах истины позволяю себе представить ему несколько почтительных замечаний, воспользовавшись прессой, точно так же, как и он сделал по отношению ко мне. Но более не в чем не последую я его примеру и отнюдь не стану употреблять сильных выражений, столь противных духу христианина и вредных для дела.» Далее Верещагин указывает, что его картины отнюдь не противоречат Евангелию, и в подтверждение своих слов ссылается на тексты. Если же католическая церковь находит его картины еретическими, то это значит, что она сама удалилась от истинного евангельского учения, стала в противоречие с Откровением. «В виду сомнений и недоумений», продолжает Верещагин, «которые могут возникнуть благодаря этим противоречиям, я могу предложить только одно средство: созвание, и притом немедленное, вселенского собора, который решил бы этот вопрос, а так же другие, столь же чреватые последствиями. Чем дольше будут откладывать эту меру, тем сильнее разовьется сомнение. А в ожидании этого, да будет дозволено желающим по-своему решить затруднение и в то же время считать себя не менее истинными христианами, чем те, кто, настаивая на противоречиях, дают оправдание изречению: „Цель оправдывает средства“».
Спор принял такой оборот, что архиепископу было уже неудобно продолжать газетную полемику. Тем не менее, католики не успокоились. Монахи-лазаристы устроили в своих церквах трехдневное покаяние, «чтобы умилостивить Божие правосудие и отвратить Его гнев за кощунственную профанацию, нанесенную воплотившемуся Спасителю и Сыну Божию публично выставленными картинами художника Верещагина». Три дня патеры возглашали лицемерные моления и собирали с верующих мзду, три вечера проповедники ордена призывали народ к покаянию. В то же время подобные священнодействия происходили еще в трех церквах, а в многочисленных политических клубах составлялись и подписывались петиции об удалении с выставки инкриминированных картин.
Буря продолжалась довольно долго и после закрытая выставки: 1-го февраля 1886 г. депутат доктор Виктор Фукс в палате сделал министерству графа Таафе запрос: «По каким причинам полицейские власти не удалили с выставки в Kunstlerhaus'e кощунственных картин Верещагина, а правительство не возбудило надлежащим порядком судебного преследования?» Замечательно, что в этот самый вечер Верещагин, будучи проездом в Вене, обедал у одного своего приятеля, и вот какое письмо попросил опубликовать в газетах этот человек, которого обвиняли в нигилизме и скандальничаньи: «Мой милый друг! Хотя клерикалы называют меня нечестивцем, язычником и т. п., но да будет мне дозволено обратиться к вам с просьбой: пусть выстроют вторую башню на церкви св. Стефана. Они не вправе рассуждать о достоинствах и недостатках в гениальном проекте гениального человека, который построил эту церковь; если они хотят почтить его память, они должны выполнить его завещание, т. е. проект. Преданный ваш В. Верещагин.»
«Разве сторонник нигилистического разрушения, Бакунинской революции, станет писать такие письма?» спрашивает «Neues Wiener Tageblatt.»
XXI. Распродажа картин В. В. Верещагина в Нью-Йорке
Та же коллекция картин Верещагина, которые выставлялись в Вене в 1885–1886 годах, перевезена была в Америку и открылась в Нью-Йорке, в American Art Galleries. Она продолжалась с ноября 1888 года по ноябрь 1890 года и закончилась распродажей всей коллекции, в состав которой входили превосходные картины из индийской, болгарской и палестинской коллекций. Американская публика была отлично подготовлена к приему Верещагина и с нетерпением ждала увидеть произведения художника, который столько времени гремел по всей Европе. В самый день открытая выставки масса посетителей, преимущественно художники, литераторы и знатоки искусства толпились в залах Art Galleries и поражались многочисленностью картин русского художника. Как и в Европе, публику сильно привлекала та зала, где находились три большие картины, изображающие смертную казнь в разные эпохи и у разных народов (распятие, расстреливание пушкой и повешение). Затем большинство стремилось к религиозным картинам, наделавшим много шума в Вене. Но доказательством того, что на этот раз собралась публика, знающая толк в искусстве, служили те замечания и похвалы, которые слышались вокруг оригинальной картины: «Стена Соломона», привлекавшей зрителей, несмотря на то, что размеры ее малы, и что она помещена была почти в углу. Вообще, публика сразу обнаружила самое теплое отношение к Верещагину. Тем удивительнее было, что на следующий день чуть ли не половина газетных отзывов оказалась почти прямо враждебной Верещагину и его картинам. По большей части газетные статьи отличались краткостью и поверхностностью. Через день-другой в некоторых органах появились новые отзывы о картинах – на этот раз более обстоятельные и более сочувственные, но иные похвалы были обиднее брани, по тому невежеству, о котором они свидетельствовали. Появилось и несколько серьезных прочувствованных статей о выставке. Но, в общем, в первые дни отзывы прессы поражали следующими двумя особенностями: во-первых, в них не появлялось и тени религиозной нетерпимости; во-вторых, имена европейских художников так и пестрели в них, причем произведения разных художников смешивались, судились и вкривь и вкось, и весь этот винегрет преподносился публике в pendant к картинам Верещагина.
Но не прошло и недели, как самые восторженные отзывы со стороны наиболее компетентных и влиятельных органов заставили забыть первые статьи. Причина такого странного явления заключалась вот в чем. В Нью-Йорке существует целая категория газет, не желающих пользоваться трудами компетентных лиц, статьи которых оплачиваются весьма дорого. Подобного рода газеты отряжают первого попавшегося репортера на ту или другую работу – будь то пожар или выставка картин великого художника. Конечно, подобный репортер – в искусстве круглый невежда, но редактор полагается на его сноровку, которая состоит в том, что импровизированный критик начинает свою статью с заявления о независимости своих взглядов и нарочно старается идти наперекор с мнениями лучших критиков Европы, а в подтверждение великой своей компетентности сыплет имена всех известных художников Старого Света. Выходит хлестко, как будто остроумно и для критика вполне безопасно. Те немногие, которые поймут всю дикость статьи, конечно, только улыбнутся, а для заурядной публики такое перечисление имен знаменитостей сойдет за компетентность.
Многие органы американской печати, как «University Herald Home Journal», признали Верещагина великим мастером, у которого должны учиться все американские художники. Вообще, значение верещагинской выставки для американского искусства было сознано всеми, кто интересуется будущностью американской живописи. О неизбежном и благом воздействии Верещагина на эту сторону американской жизни говорили упорно; янки, по-видимому, вполне прониклись мыслью, что наш художник открыл перед ними именно то плодотворное поле деятельности в области искусства, которого сами американцы были не в состоянии для себя наметить. Поговаривали даже о том, чтобы удержать Верещагина навсегда в Америке, чтобы он положил начало национальной школе американской живописи, идея которой заронена была его произведениями. Одним словом, выставка картин Верещагина произвела в Нью-Йорке, действительно, глубокую сенсацию. Успех ее был так велик, что даже дал толчок сбыту разного рода русских продуктов: в лавках стали усиленно спрашивать русские чай, русские книги, русскую музыку; последнему спросу значительно содействовала прекрасная игра ученицы Московского филармонического общества, Л. В. Андреевской (ныне вдовы художника), которая приехала в Нью-Йорк по приглашению American Art Association с тем, чтобы играть отрывки из русских опер и произведения русских композиторов на органе и рояле во все время выставки верещагинских картин. В органах печати появлялась масса портретов Верещагина, его биографии, анекдоты про него, интервью, снимки с его картин и т. п.
Выставка закончилась аукционной распродажей картин 5 и 6 ноября 1890 года. Все 110 картин были проданы за 72,635 долларов, т. е., среднем числом по 600 долларов картина. В частности, наивысшая сумма была дана за картины: «Распятие» (7,500 долл.), «Расстреливание в Индии» (4,500 долл.), «Будущий император Индии» (4,125 долл.), «Соломонова стена» (3,000 долл.). Сенсационная картина «Святое Семейство» пошла за 1,300 долларов; низшая цена-35 долларов была дана за «Купол над Св. Гробом в Иерусалиме».
В общем, цены, по которым пошли картины Верещагина, были совсем невысоки, особенно, если принять во внимание, какие сумасшедшие деньги платят американцы за сравнительно неважные произведены европейских художников. В заграничной печати высказывалось недоумение, каким образом американцы могли так скупиться при покупке картин великого мастера, прославленного всей Европой, и которого сами американцы в течение двух лет признавали гением. Конец этим толкам и разъяснение всем недоумениям дало письмо самого Верещагина.
Письмо это, полученное 4 (16) декабря 1891 г., появилось во многих иностранных газетах. Вот его перевод:
«М. Г.! Я вынужден беспокоить вас личным делом, которое, однако, не лишено общественного интереса, так как оно касается искусства и потому заслуживает внимания. Недавно я по собственному опыту познакомился, что называется продажей картин a Pamericaine. С большим удивлением я узнал, что, напр., знаменитая продажа картины Милле „Augelus“ – совершенно мнимая, что эта картина никогда не покупалась американским спекулянтом Суттоном за 500,000 франков и что этот Суттон никогда не перепродавал ее за 760,000 фр., как сообщалось об этом, что, одним словом, эта продажа была не что иное, как один из тех американских „booms“, которые заранее подготовляются и пускаются в ход, чтоб повергать в удивление простодушных людей и подцепить наивных покупателей. Вы, конечно, понимаете, что после продажи картины Милле за 500,000 франк, все другие произведения этого мастера и даже самые незначительные эскизы поднялись в цене с тысячи, двух тысяч до 20.000, 30,000, 40,000 и выше! Мой личный опыт таков: мистер Суттон, который выставлял и продавал мои картины, ручался перед моим поверенным за огромный и сенсационный успех этой продажи, если бы ему дозволили искусственно раздуть цены при помощи фиктивных покупателей и разглашения ложных цифр. Само собой разумеется, мой поверенный и я отказались содействовать такому мошенничеству на мой счет. Я убедился, что почти все американские цены на картины известных мастеров, которые так изумляют европейцев, мошеннически преувеличиваются и публике сообщаются вдвое и втрое увеличенными, и что вообще почти ни одна продажа не совершается без помощи таких махинаций.»
Отсюда ясно, что нашему художнику, решительно отвергнувшему такое недостойное спекулирование его именем, пришлось поплатиться за свою щепетильность: картины его пошли по ценам ниже их действительной стоимости.
Такого рода продажа картин является поистине систематическим плутовством. «Вы не можете себе представить», как-то при свидании говорил мне В. В. Верещагин, «какой это омут – эта продажа картин. В этом деле художник не может обойтись без агентов. Агенты же – это сутенеры искусства. Они вздувают цены, устанавливают фиктивную стоимость картины, чтоб заманить покупателя с тугим кошельком. Дороговизна должна ручаться за достоинства картины. Я по себе знаю, сколько я должен был потерять материально, избегая вступать в соглашения с этими альфонсами. Каждый раз, когда надо прибегнуть к продаже, я чувствую, как туго приходится художнику без посредников. В Америке прямо организована облава на финансовых тузов. Какой-нибудь торговец виски раскошеливается охотно, как скоро альфонс, промышляющий искусством, убедит его, что такая-то художественная вещь есть у них, и поручится, что другого экземпляра такого добра туз не отыщет нигде. Что касается до американской критики, то она есть эхо парижских газет. Художник, желающий иметь успех в Америке, должен заручиться репутацией в Париже, ибо американцы прямо-таки переводят статьи, парижских рецензентов.»
Сам В. В. Верещагин никогда не преувеличивал стоимость проданных картин против их действительной цены, и последствия этого сказались: «Все лучшие картины мои», писал он нам, «вследствие несогласия моего на такие сделки и твердого стояния на назначенной цене – в Америке. Признаюсь вам, это очень мне горько: то, на чем учился, – дома; а то, на чем творил свободно, – у чужих за морем».
XXII. Картины из кампании Наполеона I в России
Следующей серией произведений В. В. Верещагина были картины из кампании Наполеона I в 1812 г. В предисловии к объяснительному описанию этих картин В. В. писал: «Изучение жизни и деятельности такого вершителя судеб своего времени, каким был Наполеон I, представляет большой интерес, – говорю об изучении разностороннем, исключающем поклонение легенде. Обыкновенно сверхъестественное в такой степени примешивается к памяти о великом полководце, что бывает трудно отличить правду от вымысла, и чем блистательнее карьера героя, чем необыкновеннее его подвиги, тем легендарные рассказы о нем чудеснее».
Жизнь Наполеона I, за 20 лет, представляла ряд фактов, до такой степени поражавших воображение, что люди склонялись придавать им значение свыше предопределенных событий, а в самом великом полководце – видеть исполнителя неотразимых приговоров судьбы.
Позже, в кампанию 12 года, Наполеон увлекся до того, что сразу вступил в борьбу с людьми, климатом и пространствами севера и пал, но облик его через это не потерял своего обаяния, а, напротив, украсившись ореолом страдальчества, стал еще боле интересен для всякого мыслящего человека – художника, философа, политика или военного.
Литература всех родов уже занималась изучением этой крупной личности, но живопись – искусство сравнительно отсталое в умственном отношении, как требующее трудной специальной техники – до сих пор почти не затрагивала Бонапарта-человека, пробавляясь Наполеоном-гением, полубогом, стоящим вне условий места, климата и законов человеческой жизни[30 - Для примера довольно сказать, что все картины представляют Наполеона на снежных равнинах России при 25 градусах мороза в сером пальто или короткой шубке нараспашку, в треугольной шляпе и тонких сапогах, когда в действительности он преисправно кутался длинную соболью шубу, меховую же шапку с наушниками и теплые сапоги (как показывает прилагаемый набросок, сделанный генералом Лежёном).].
«Наполеон I – без сомнения, самая яркая фигура XIX столетия, а кампания 12 года – наиболее выдающееся военное событие этого века: громадность замысла, быстрота событий и важность их последствий невольно приковывают внимание к делам, имевшим влияние на все XIX столетие.
Представляя в картинах несколько черт характера героя и его наружного облика, я хочу в то же время обратить внимание читающего эти строки на некоторые мало выясненные факты его жизни.
К числу таких фактов, способных до некоторой степени осветить причины настойчивого недоброжелательства Наполеона к России, надобно отнести: 1) прошение поручика Бонапарта, поданное в 1789 г. русскому генералу Заборовскому, о принятии его на царскую службу – прошение, на которое последовал отказ, из-за претензии просителя на майорский чин[31 - Интересно, что Заборовский не мог себе простить впоследствии этого отказа. В 1812 году, проживая на покое в Москве, почтенный генерал горько каялся в том, что отказал Бонапарту и тем косвенно быль причиною обрушившихся на Россию бед и опустошений. Император Александр в свой приезд в Москву для коронации много расспрашивал генерала об этом происшествии. Граф Растопчин утверждает, что имел в руках самый документ отвергнутой просьбы.]; 2) намерение императора Наполеона породниться с императором Александром женитьбой на одной из его сестер, неудавшееся из-за нерасположения к жениху матери невесты.
Конечно, несправедливо было бы сказать, что оскорбленное самолюбие поручика-императора было единственною причиною почти постоянной вражды его к России, но, с другой стороны, нельзя смотреть на эти факты, как на второстепенные, при данных темперамента и характера героя.
В кампанию 12 года Наполеон проявил столько стремительности и противореча, составил столько порывистых, непрактичных планов, что одним желанием отомстить за несоблюдение каких-то условий трактата нельзя объяснить всего этого, – очевидно, в деле замешалось смертельно уязвленное самолюбие.
При всех бесспорно высоких качествах ума, Наполеон после второй женитьбы на австрийской принцессе – за отказом русской – как будто теряет свою прозорливость и, несмотря на ясно сознанную пользу союза с великою Северною державой, бьет на разрыв с нею, увлекается, теряет терпение и, по привычке действовать стремительно, решительными ударами, быстро идет к погибели.
Даже оставивши в стороне первую, как весьма отдаленную, попытку вступить в добрые отношения с Россией (поступлением в русскую службу), нельзя не признать, что вторая неудача, – неудача сватовства, при которой, с одной стороны, было пущено в ход, а с другой отвергнуто обаяние мужчины, императора, героя, – прямо и непосредственно повела к известной развязке.
Еще за время Тильзита Наполеон кидал взоры на великую княжну Екатерину Павловну, но, лишь только намерение его стало известно, молодую принцессу поспешили выдать за герцога Ольденбургского. Французский император не признал себя, однако, побежденным и посватался, хотя тоже секретно, но уже с соблюдением всех форм, к великой княжне Анне Павловне. Когда и тут дело стало затягиваться – вместо предложенного срока 48 часов, на многие и многие недели – Наполеон понял смысл проволочки, резко оборвал переговоры и тотчас женился на австрийской эрцгерцогине; а русская императрица-мать, Мария Федоровна, не довольствуясь сделанным афронтом, еще увеличила его, сосватав и эту дочь за одного из мелких немецких князей. Это было уже слишком – и Наполеон разразился: выгнал герцога Ольденбургского из его владений, пообещавши ту же участь всей немецкой родне Александра, стал решительно готовиться к войне.
За подбором и подтасовкою фактов, за эффектными трескучими фразами о необходимости похода цивилизации против варварства, которое должно быть изгнано из Европы в Азию, нечего было много тратить времени, так как приниженное общество Европы, при полном сознании славы Франции и величии ее повелителя, а также и своего бессилия перед его решениями, было вполне готово к принятию всякого нового откровения этого воплощенного Провидения.
Не невозможно, что вначале Наполеон желал только застращать своего противника грандиозностью военных приготовлений и заставить его публично, перед всею Европой, смириться; так, по крайней мере, понимали французские приготовления к войне русский канцлер Румянцев и многие другие лица; то же, очевидно, допускал и император Александр, потому что до последней минуты не терял надежды на возможность сговориться. Но когда он отказался сделать к этому первый шаг, императору французов не оставалось ничего иного, как, по собственному его выражению, „выпить откупоренное вино“.
Тут начинается одна из самых поучительных и драматических страниц современной истории: всесветно признанный ум и военный гений, наперекор указаниям своей опытности и опытности всех своих ближайших помощников, не может, несмотря на многократно выраженное твердое намерение, остановиться, а фатально идет все вперед и вперед, идет в самую глубь вражеской страны, на сознаваемую всеми окружающими его гибель! Постоянно памятуя и поминая пример Карла XII и высказывая решение никак не повторить его ошибки, делает именно эту же ошибку! Видя, что чудная армия его гибнет, тает как лед на знойных, утомительных переходах, чувствуя себя поглощенным громадностью пройденного (но не завоеванного) пространства, обманутым тактикою неприятеля, превзойденным его твердостью, – все-таки идет вперед, буквально устилая путь трупами!
В Витебске Наполеон объявляет кампанию 12 года конченною: „здесь я остановлюсь“, говорит он, „осмотрюсь, соберу армии, дам ей отдохнуть и устрою Польшу. Две большие реки очертят нашу позицию; построим блокгаузы, скрестим линии наших огней, составим карре с артиллериею, построим бараки и провиантские магазины; на 13-м году будем в Москве, в 14-м – в Петербурге. Война с Россиею – трехлетняя война!“
Есть все основания думать, что если бы этот план остановки в Литве был приведен в исполнение, благодушный Самодержец России теми или другими мерами был бы приведен к соглашению и миру. Но Наполеон теряет терпение, покидает Ветебск и идет вперед. Правда, он решается идти только до Смоленска, „ключа двух дорог, – на Петербург и Москву, которыми необходимо завладеть, чтобы быть в состоянии выступить весною сразу на обе столицы“. В Смоленске он собирается отдохнуть, окончательно устроить все и весною 1813 года, если Россия не подпишет мира, прикончить ее! Но, наперекор этому, французская армия покидает Смоленск и идет вперед!
В Москве должна была начаться агония громадного предприятия, участники которого устали, а руководитель потерял голову, – нельзя иначе выразиться о поведении Наполеона относительно Александра, поведении не только унизительном, но как бы рассчитанном на то, чтобы выдать затруднительность и безвыходность своего положения: и стороною и прямо он пишет письма с любезностями, с уверениями в дружбе, преданности и братской любви; посылает генералов с новыми предложениями мира, не получив ответа на старые: „Мне нужен мир“, говорит он Лористону, отправляемому с такою деликатною миссией в русский лагерь, „мир, во что бы то ни стало – спасите только честь!“
Разрешение грабежа и гнев на невозможность остановить его, намерение идти на Петербург, т. е. на север, перед самым началом зимы; приказ о закупке в совершенно разоренном, выжженном крае, громадного количества провианта и фуража, а также 20,000 лошадей, – все это факты, граничащее с насмешкою.
Потом обратное движение, с его рассчитанною медленностью для сохранения награбленного солдатами добра, давшею возможность русским предупредить французские войска и преградить им дорогу; разделение армии на отдельные самостоятельные отряды, один за другим побитые, почти истребленные; приказ систематического выжигания передними войсками всех окрестностей пути – в прямой ущерб остальной армии; наконец, святотатственное отношение к религии страны, поблажка осквернению храмов, убийствам, замариванию голодом всякого люда, попадавшегося под руку под именем „пленных“, – все это поступки, вызвавшие страшные проявления мести со стороны озлобившегося населения, поступки, о которых „свежо предание“, но которым „верится с трудом“.
Там и сям, как под Красным и при Березине, блещут еще искры гениального самосознания великого полководца, но эти отдельный проявления силы духа и военного таланта, эти последние лучи закатывающегося светила не в состоянии уже предупредить „величайшего из представляемых историю погромов“.»
XIX. В Сирии и Палестине
Побывав еще раз в Индии, Верещагин в 1884 г. отправился в Сирию и Палестину. Путешествие в Святую Землю произвело на него такое же впечатление, как и на всех паломников, посещавших эту страну. Идеальные представления, которые связываются с целым рядом местностей, освященных страданиями и смертью Спасителя, представления, созданные на основании Евангелия, разлетаются обыкновенно при первом же посещении этих месте. Грубый цинизм современного греческого духовенства уничтожает всякое возвышенное настроение, лишает названия палестинских городов и местностей их того ореола, который создается чтением Евангелия. Весьма многие паломники возвращались оттуда глубоко разочарованными. Верещагин, конечно, был возмущен всем виденным не менее других. В своих воспоминаниях он негодует на циничное, наглое корыстолюбие греческого духовенства, приводит поразительные факты. «Я рисовал, помню, на сорокадневной горе», рассказывает он, «когда монах-настоятель, бросившийся рассматривать в бинокль пыль, поднявшуюся на дороге, объявил, что „гонят русских“, и стал приготовлять водку, закуску, ставить самовар. Действительно, через час времени, поднялись сначала кавас нашего консульства в Иерусалиме, усатый, расшитый араб, а за нем наши запыленные, запотелые, взмученные богомольцы. „Где здесь записываются?“ спрашивают они впопыхах и направляются по указанию в пещеру, из которой сейчас же спускаются назад, так как им дан всего час времени и на восход на гору, и на поклонение. Но лучше всего то, что визит-то каваса был не спроста: он объявил монаху-настоятелю, что если тот не согласится дать ему половину выручки с богомольцев, то ни один из них не переступит порога пещеры. Конечно, почтенный отец должен был покориться и из 15 руб., полученных за записи „на вечное поминовение“, должен был уделить кавасу 7 руб. Зато же, впрочем, и „записи“ валялись потом по всем углам пещеры»[28 - «Русская Старина», 1889 г., т. 63, стр. 443.].
Через некоторое время благочестивые паломники, видя перед собою всякого рода примеры, доходят, по словам Верещагина, до того, что своим поведением начинают скандализировать даже туземцев. С бутылками водки в руках, пошатываясь и ругаясь, они пристают к прохожим, даже к нищим:
– Пей, пей, такой-сякой…
«Что наши переплачивают грекам за так называемые „очистительные обедни“», – пишет Верещагин, «и сказать трудно».
Результатом этих путешествий была серия картин из индийского быта («Триумфальный въезд индийского вице-короля» и «Индийская казнь»), а также картин палестинских[29 - Подробное описание их см. ниже: «Художественные произведения В. В. Верещагина».]. В 1885 г. все эти картины были выставлены в Вене. Та же коллекция показывалась затем в Париже, в разных городах Германии, в Лондоне и других городах Англии, а затем выставлялась в Нью-Йорке, где пробыла с 1888 по 1890 г., и там продана.
XX. Евангельские картины в Вене
Выставка 1885 г. в Вене, где находились 144 произведения Верещагина: 54 из палестинской коллекции, 28 – из индийской (в том числе «Будущий император Индии»), 2 – на болгарские темы, 4 – на русские и, кроме того, 56 юношеских рисунков, ознаменовалась бурным инцидентом, который сильно разогрел страсти. Дело в том, что среди палестинской коллекции было две картины на евангельские темы: «Святое Семейство» и «Воскресение Христово». Обе картины, написанные с реалистическими приемами, вызвали негодование правоверных католиков, и венский архиепископ Гангльбауэр опубликовал в газетах следующий протест против них:
«Мое внимание было привлечено скандалом, который произвели среди верующих католиков картины Верещагина, представляющие эпизоды из жизни Христа и выставленные в залах Артистического Общества; по этому вопросу я собрал сведения через одно доверенное лицо. На основании его словесных сообщений, равно как на основании знакомства с каталогом выставки, с объяснительным текстом и с фотографическими снимками, я пришел к горестному убеждению, что эти две картины, основанные на библейских текстах, цитированных тенденциозно и истолкованных ложно, в Ренановском смысле, – эти картины поражают христианство в его основных учениях и недостойным образом стараются подорвать веру в искупление человечества Воплотившимся Сыном Божиим.
Одна из этих картин представляет Сына Божия. Спасителя издревле обетованного, зачатого от Духа Святого и рожденного нетленно девою Мариею, – тайна вечной любви, идеальный смысл которой внушил Рафаэлю его бессмертные художественные создания, – представляет Сына Божия, говорю я, как первенца восточной семьи, весьма многочисленной, которую живописец святотатственно называет „Святым Семейством“, употребляя этот термин в традиционном христианском смысле. Другая картина представляет Бога-Человека, нашего Спасителя, Который искупительной смертью на кресте, добровольно принятой из любви к человечеству, победил смерть и грех и победно воскрес из мертвых в третий день, по писаниям, завершив своим воскресением дело искупления, – представляет Богочеловека очнувшимся из летаргии, украдкой выглядывающим из входа в гробницу, – явление недостойное, действительно отталкивающие, и стража в ужасе бежит от него.
Я был горестно опечален подобной профанацией всего, что только есть самого святого для христианина, этой профанацией самого возвышенного идеала в христианском искусстве и я, как епископ, счел своей обязанностью позаботиться о том, чтобы эти картины, которые так глубоко оскорбляют религиозное чувство католика, были удалены со взоров посетителей выставки, и при том, по возможности, тихо и бесшумно. Но мои старания не достигли цели, и даже, к моему крайнему сожалению, каждодневно эксплуатировались в различных газетах, в качестве рекламы этим святотатственным картинам. Мне ничего не остается, в качестве епископа, который обязан в силу обета, не только проповедовать наше святое католическое учение, но и защищать его всеми силами против всяких посягательств, – мне ничего не остается, как только торжественно и во всеуслышание протестовать против противного всем содержания этих двух картин и против недостойного их посягательства на христианство. При этом я обращаюсь к верующим католикам с увещанием, чтобы они своим присутствием не принимали участия в этом кощунстве, и от имени всех верных моей епархии умоляю Богочеловека, Спасителя нашего, не возгневаться на унижение, которому Он подвергается выставкой этих картин в католическом городе Вене, Вена, 8 ноября, 1885 г. Целистин-Иосиф, кардинал Гангльбауэр, князь-архиепископ.»
Протест Гангльбауэра не только не поправил дела, но, наоборот, ухудшил его. Картины убраны не были, а в публике и в прессе заявление архиепископа произвело сенсацию. Некоторые газеты, далеко не сочувствовавшие Верещагину, называли поступок кардинала бестактным: по их словам, картины русского художника на евангельские темы не удались, и публика равнодушно проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но после протеста Гангльбауэра возле тех же самых полотен появилась громадная толпа, и с раннего утра до позднего вечера «верующие католики» жадно созерцали инкриминированные «скандальные» картины. Другие органы, более сочувствовавшие Верещагину, стали за него заступаться и указывали Гангльбауэру, что он напрасно забил тревогу, что русский художник сам свято чтит Евангелие и своими картинами никого не думал оскорблять, ничего не хотел ниспровергать. Наконец, откликнулся и сам Верещагин, живший в то время в Мэзон-Лафитт под Парижем. 14-го ноября он опубликовал следующий ответ Гангльбауэру:
«Его эминенция монсиньор Гангльбауэр, кардинал архиепископ венский, страстной критикой оказал честь некоторым моим картинам, которые я в настоящее время выставил в Вене. В интересах истины позволяю себе представить ему несколько почтительных замечаний, воспользовавшись прессой, точно так же, как и он сделал по отношению ко мне. Но более не в чем не последую я его примеру и отнюдь не стану употреблять сильных выражений, столь противных духу христианина и вредных для дела.» Далее Верещагин указывает, что его картины отнюдь не противоречат Евангелию, и в подтверждение своих слов ссылается на тексты. Если же католическая церковь находит его картины еретическими, то это значит, что она сама удалилась от истинного евангельского учения, стала в противоречие с Откровением. «В виду сомнений и недоумений», продолжает Верещагин, «которые могут возникнуть благодаря этим противоречиям, я могу предложить только одно средство: созвание, и притом немедленное, вселенского собора, который решил бы этот вопрос, а так же другие, столь же чреватые последствиями. Чем дольше будут откладывать эту меру, тем сильнее разовьется сомнение. А в ожидании этого, да будет дозволено желающим по-своему решить затруднение и в то же время считать себя не менее истинными христианами, чем те, кто, настаивая на противоречиях, дают оправдание изречению: „Цель оправдывает средства“».
Спор принял такой оборот, что архиепископу было уже неудобно продолжать газетную полемику. Тем не менее, католики не успокоились. Монахи-лазаристы устроили в своих церквах трехдневное покаяние, «чтобы умилостивить Божие правосудие и отвратить Его гнев за кощунственную профанацию, нанесенную воплотившемуся Спасителю и Сыну Божию публично выставленными картинами художника Верещагина». Три дня патеры возглашали лицемерные моления и собирали с верующих мзду, три вечера проповедники ордена призывали народ к покаянию. В то же время подобные священнодействия происходили еще в трех церквах, а в многочисленных политических клубах составлялись и подписывались петиции об удалении с выставки инкриминированных картин.
Буря продолжалась довольно долго и после закрытая выставки: 1-го февраля 1886 г. депутат доктор Виктор Фукс в палате сделал министерству графа Таафе запрос: «По каким причинам полицейские власти не удалили с выставки в Kunstlerhaus'e кощунственных картин Верещагина, а правительство не возбудило надлежащим порядком судебного преследования?» Замечательно, что в этот самый вечер Верещагин, будучи проездом в Вене, обедал у одного своего приятеля, и вот какое письмо попросил опубликовать в газетах этот человек, которого обвиняли в нигилизме и скандальничаньи: «Мой милый друг! Хотя клерикалы называют меня нечестивцем, язычником и т. п., но да будет мне дозволено обратиться к вам с просьбой: пусть выстроют вторую башню на церкви св. Стефана. Они не вправе рассуждать о достоинствах и недостатках в гениальном проекте гениального человека, который построил эту церковь; если они хотят почтить его память, они должны выполнить его завещание, т. е. проект. Преданный ваш В. Верещагин.»
«Разве сторонник нигилистического разрушения, Бакунинской революции, станет писать такие письма?» спрашивает «Neues Wiener Tageblatt.»
XXI. Распродажа картин В. В. Верещагина в Нью-Йорке
Та же коллекция картин Верещагина, которые выставлялись в Вене в 1885–1886 годах, перевезена была в Америку и открылась в Нью-Йорке, в American Art Galleries. Она продолжалась с ноября 1888 года по ноябрь 1890 года и закончилась распродажей всей коллекции, в состав которой входили превосходные картины из индийской, болгарской и палестинской коллекций. Американская публика была отлично подготовлена к приему Верещагина и с нетерпением ждала увидеть произведения художника, который столько времени гремел по всей Европе. В самый день открытая выставки масса посетителей, преимущественно художники, литераторы и знатоки искусства толпились в залах Art Galleries и поражались многочисленностью картин русского художника. Как и в Европе, публику сильно привлекала та зала, где находились три большие картины, изображающие смертную казнь в разные эпохи и у разных народов (распятие, расстреливание пушкой и повешение). Затем большинство стремилось к религиозным картинам, наделавшим много шума в Вене. Но доказательством того, что на этот раз собралась публика, знающая толк в искусстве, служили те замечания и похвалы, которые слышались вокруг оригинальной картины: «Стена Соломона», привлекавшей зрителей, несмотря на то, что размеры ее малы, и что она помещена была почти в углу. Вообще, публика сразу обнаружила самое теплое отношение к Верещагину. Тем удивительнее было, что на следующий день чуть ли не половина газетных отзывов оказалась почти прямо враждебной Верещагину и его картинам. По большей части газетные статьи отличались краткостью и поверхностностью. Через день-другой в некоторых органах появились новые отзывы о картинах – на этот раз более обстоятельные и более сочувственные, но иные похвалы были обиднее брани, по тому невежеству, о котором они свидетельствовали. Появилось и несколько серьезных прочувствованных статей о выставке. Но, в общем, в первые дни отзывы прессы поражали следующими двумя особенностями: во-первых, в них не появлялось и тени религиозной нетерпимости; во-вторых, имена европейских художников так и пестрели в них, причем произведения разных художников смешивались, судились и вкривь и вкось, и весь этот винегрет преподносился публике в pendant к картинам Верещагина.
Но не прошло и недели, как самые восторженные отзывы со стороны наиболее компетентных и влиятельных органов заставили забыть первые статьи. Причина такого странного явления заключалась вот в чем. В Нью-Йорке существует целая категория газет, не желающих пользоваться трудами компетентных лиц, статьи которых оплачиваются весьма дорого. Подобного рода газеты отряжают первого попавшегося репортера на ту или другую работу – будь то пожар или выставка картин великого художника. Конечно, подобный репортер – в искусстве круглый невежда, но редактор полагается на его сноровку, которая состоит в том, что импровизированный критик начинает свою статью с заявления о независимости своих взглядов и нарочно старается идти наперекор с мнениями лучших критиков Европы, а в подтверждение великой своей компетентности сыплет имена всех известных художников Старого Света. Выходит хлестко, как будто остроумно и для критика вполне безопасно. Те немногие, которые поймут всю дикость статьи, конечно, только улыбнутся, а для заурядной публики такое перечисление имен знаменитостей сойдет за компетентность.
Многие органы американской печати, как «University Herald Home Journal», признали Верещагина великим мастером, у которого должны учиться все американские художники. Вообще, значение верещагинской выставки для американского искусства было сознано всеми, кто интересуется будущностью американской живописи. О неизбежном и благом воздействии Верещагина на эту сторону американской жизни говорили упорно; янки, по-видимому, вполне прониклись мыслью, что наш художник открыл перед ними именно то плодотворное поле деятельности в области искусства, которого сами американцы были не в состоянии для себя наметить. Поговаривали даже о том, чтобы удержать Верещагина навсегда в Америке, чтобы он положил начало национальной школе американской живописи, идея которой заронена была его произведениями. Одним словом, выставка картин Верещагина произвела в Нью-Йорке, действительно, глубокую сенсацию. Успех ее был так велик, что даже дал толчок сбыту разного рода русских продуктов: в лавках стали усиленно спрашивать русские чай, русские книги, русскую музыку; последнему спросу значительно содействовала прекрасная игра ученицы Московского филармонического общества, Л. В. Андреевской (ныне вдовы художника), которая приехала в Нью-Йорк по приглашению American Art Association с тем, чтобы играть отрывки из русских опер и произведения русских композиторов на органе и рояле во все время выставки верещагинских картин. В органах печати появлялась масса портретов Верещагина, его биографии, анекдоты про него, интервью, снимки с его картин и т. п.
Выставка закончилась аукционной распродажей картин 5 и 6 ноября 1890 года. Все 110 картин были проданы за 72,635 долларов, т. е., среднем числом по 600 долларов картина. В частности, наивысшая сумма была дана за картины: «Распятие» (7,500 долл.), «Расстреливание в Индии» (4,500 долл.), «Будущий император Индии» (4,125 долл.), «Соломонова стена» (3,000 долл.). Сенсационная картина «Святое Семейство» пошла за 1,300 долларов; низшая цена-35 долларов была дана за «Купол над Св. Гробом в Иерусалиме».
В общем, цены, по которым пошли картины Верещагина, были совсем невысоки, особенно, если принять во внимание, какие сумасшедшие деньги платят американцы за сравнительно неважные произведены европейских художников. В заграничной печати высказывалось недоумение, каким образом американцы могли так скупиться при покупке картин великого мастера, прославленного всей Европой, и которого сами американцы в течение двух лет признавали гением. Конец этим толкам и разъяснение всем недоумениям дало письмо самого Верещагина.
Письмо это, полученное 4 (16) декабря 1891 г., появилось во многих иностранных газетах. Вот его перевод:
«М. Г.! Я вынужден беспокоить вас личным делом, которое, однако, не лишено общественного интереса, так как оно касается искусства и потому заслуживает внимания. Недавно я по собственному опыту познакомился, что называется продажей картин a Pamericaine. С большим удивлением я узнал, что, напр., знаменитая продажа картины Милле „Augelus“ – совершенно мнимая, что эта картина никогда не покупалась американским спекулянтом Суттоном за 500,000 франков и что этот Суттон никогда не перепродавал ее за 760,000 фр., как сообщалось об этом, что, одним словом, эта продажа была не что иное, как один из тех американских „booms“, которые заранее подготовляются и пускаются в ход, чтоб повергать в удивление простодушных людей и подцепить наивных покупателей. Вы, конечно, понимаете, что после продажи картины Милле за 500,000 франк, все другие произведения этого мастера и даже самые незначительные эскизы поднялись в цене с тысячи, двух тысяч до 20.000, 30,000, 40,000 и выше! Мой личный опыт таков: мистер Суттон, который выставлял и продавал мои картины, ручался перед моим поверенным за огромный и сенсационный успех этой продажи, если бы ему дозволили искусственно раздуть цены при помощи фиктивных покупателей и разглашения ложных цифр. Само собой разумеется, мой поверенный и я отказались содействовать такому мошенничеству на мой счет. Я убедился, что почти все американские цены на картины известных мастеров, которые так изумляют европейцев, мошеннически преувеличиваются и публике сообщаются вдвое и втрое увеличенными, и что вообще почти ни одна продажа не совершается без помощи таких махинаций.»
Отсюда ясно, что нашему художнику, решительно отвергнувшему такое недостойное спекулирование его именем, пришлось поплатиться за свою щепетильность: картины его пошли по ценам ниже их действительной стоимости.
Такого рода продажа картин является поистине систематическим плутовством. «Вы не можете себе представить», как-то при свидании говорил мне В. В. Верещагин, «какой это омут – эта продажа картин. В этом деле художник не может обойтись без агентов. Агенты же – это сутенеры искусства. Они вздувают цены, устанавливают фиктивную стоимость картины, чтоб заманить покупателя с тугим кошельком. Дороговизна должна ручаться за достоинства картины. Я по себе знаю, сколько я должен был потерять материально, избегая вступать в соглашения с этими альфонсами. Каждый раз, когда надо прибегнуть к продаже, я чувствую, как туго приходится художнику без посредников. В Америке прямо организована облава на финансовых тузов. Какой-нибудь торговец виски раскошеливается охотно, как скоро альфонс, промышляющий искусством, убедит его, что такая-то художественная вещь есть у них, и поручится, что другого экземпляра такого добра туз не отыщет нигде. Что касается до американской критики, то она есть эхо парижских газет. Художник, желающий иметь успех в Америке, должен заручиться репутацией в Париже, ибо американцы прямо-таки переводят статьи, парижских рецензентов.»
Сам В. В. Верещагин никогда не преувеличивал стоимость проданных картин против их действительной цены, и последствия этого сказались: «Все лучшие картины мои», писал он нам, «вследствие несогласия моего на такие сделки и твердого стояния на назначенной цене – в Америке. Признаюсь вам, это очень мне горько: то, на чем учился, – дома; а то, на чем творил свободно, – у чужих за морем».
XXII. Картины из кампании Наполеона I в России
Следующей серией произведений В. В. Верещагина были картины из кампании Наполеона I в 1812 г. В предисловии к объяснительному описанию этих картин В. В. писал: «Изучение жизни и деятельности такого вершителя судеб своего времени, каким был Наполеон I, представляет большой интерес, – говорю об изучении разностороннем, исключающем поклонение легенде. Обыкновенно сверхъестественное в такой степени примешивается к памяти о великом полководце, что бывает трудно отличить правду от вымысла, и чем блистательнее карьера героя, чем необыкновеннее его подвиги, тем легендарные рассказы о нем чудеснее».
Жизнь Наполеона I, за 20 лет, представляла ряд фактов, до такой степени поражавших воображение, что люди склонялись придавать им значение свыше предопределенных событий, а в самом великом полководце – видеть исполнителя неотразимых приговоров судьбы.
Позже, в кампанию 12 года, Наполеон увлекся до того, что сразу вступил в борьбу с людьми, климатом и пространствами севера и пал, но облик его через это не потерял своего обаяния, а, напротив, украсившись ореолом страдальчества, стал еще боле интересен для всякого мыслящего человека – художника, философа, политика или военного.
Литература всех родов уже занималась изучением этой крупной личности, но живопись – искусство сравнительно отсталое в умственном отношении, как требующее трудной специальной техники – до сих пор почти не затрагивала Бонапарта-человека, пробавляясь Наполеоном-гением, полубогом, стоящим вне условий места, климата и законов человеческой жизни[30 - Для примера довольно сказать, что все картины представляют Наполеона на снежных равнинах России при 25 градусах мороза в сером пальто или короткой шубке нараспашку, в треугольной шляпе и тонких сапогах, когда в действительности он преисправно кутался длинную соболью шубу, меховую же шапку с наушниками и теплые сапоги (как показывает прилагаемый набросок, сделанный генералом Лежёном).].
«Наполеон I – без сомнения, самая яркая фигура XIX столетия, а кампания 12 года – наиболее выдающееся военное событие этого века: громадность замысла, быстрота событий и важность их последствий невольно приковывают внимание к делам, имевшим влияние на все XIX столетие.
Представляя в картинах несколько черт характера героя и его наружного облика, я хочу в то же время обратить внимание читающего эти строки на некоторые мало выясненные факты его жизни.
К числу таких фактов, способных до некоторой степени осветить причины настойчивого недоброжелательства Наполеона к России, надобно отнести: 1) прошение поручика Бонапарта, поданное в 1789 г. русскому генералу Заборовскому, о принятии его на царскую службу – прошение, на которое последовал отказ, из-за претензии просителя на майорский чин[31 - Интересно, что Заборовский не мог себе простить впоследствии этого отказа. В 1812 году, проживая на покое в Москве, почтенный генерал горько каялся в том, что отказал Бонапарту и тем косвенно быль причиною обрушившихся на Россию бед и опустошений. Император Александр в свой приезд в Москву для коронации много расспрашивал генерала об этом происшествии. Граф Растопчин утверждает, что имел в руках самый документ отвергнутой просьбы.]; 2) намерение императора Наполеона породниться с императором Александром женитьбой на одной из его сестер, неудавшееся из-за нерасположения к жениху матери невесты.
Конечно, несправедливо было бы сказать, что оскорбленное самолюбие поручика-императора было единственною причиною почти постоянной вражды его к России, но, с другой стороны, нельзя смотреть на эти факты, как на второстепенные, при данных темперамента и характера героя.
В кампанию 12 года Наполеон проявил столько стремительности и противореча, составил столько порывистых, непрактичных планов, что одним желанием отомстить за несоблюдение каких-то условий трактата нельзя объяснить всего этого, – очевидно, в деле замешалось смертельно уязвленное самолюбие.
При всех бесспорно высоких качествах ума, Наполеон после второй женитьбы на австрийской принцессе – за отказом русской – как будто теряет свою прозорливость и, несмотря на ясно сознанную пользу союза с великою Северною державой, бьет на разрыв с нею, увлекается, теряет терпение и, по привычке действовать стремительно, решительными ударами, быстро идет к погибели.
Даже оставивши в стороне первую, как весьма отдаленную, попытку вступить в добрые отношения с Россией (поступлением в русскую службу), нельзя не признать, что вторая неудача, – неудача сватовства, при которой, с одной стороны, было пущено в ход, а с другой отвергнуто обаяние мужчины, императора, героя, – прямо и непосредственно повела к известной развязке.
Еще за время Тильзита Наполеон кидал взоры на великую княжну Екатерину Павловну, но, лишь только намерение его стало известно, молодую принцессу поспешили выдать за герцога Ольденбургского. Французский император не признал себя, однако, побежденным и посватался, хотя тоже секретно, но уже с соблюдением всех форм, к великой княжне Анне Павловне. Когда и тут дело стало затягиваться – вместо предложенного срока 48 часов, на многие и многие недели – Наполеон понял смысл проволочки, резко оборвал переговоры и тотчас женился на австрийской эрцгерцогине; а русская императрица-мать, Мария Федоровна, не довольствуясь сделанным афронтом, еще увеличила его, сосватав и эту дочь за одного из мелких немецких князей. Это было уже слишком – и Наполеон разразился: выгнал герцога Ольденбургского из его владений, пообещавши ту же участь всей немецкой родне Александра, стал решительно готовиться к войне.
За подбором и подтасовкою фактов, за эффектными трескучими фразами о необходимости похода цивилизации против варварства, которое должно быть изгнано из Европы в Азию, нечего было много тратить времени, так как приниженное общество Европы, при полном сознании славы Франции и величии ее повелителя, а также и своего бессилия перед его решениями, было вполне готово к принятию всякого нового откровения этого воплощенного Провидения.
Не невозможно, что вначале Наполеон желал только застращать своего противника грандиозностью военных приготовлений и заставить его публично, перед всею Европой, смириться; так, по крайней мере, понимали французские приготовления к войне русский канцлер Румянцев и многие другие лица; то же, очевидно, допускал и император Александр, потому что до последней минуты не терял надежды на возможность сговориться. Но когда он отказался сделать к этому первый шаг, императору французов не оставалось ничего иного, как, по собственному его выражению, „выпить откупоренное вино“.
Тут начинается одна из самых поучительных и драматических страниц современной истории: всесветно признанный ум и военный гений, наперекор указаниям своей опытности и опытности всех своих ближайших помощников, не может, несмотря на многократно выраженное твердое намерение, остановиться, а фатально идет все вперед и вперед, идет в самую глубь вражеской страны, на сознаваемую всеми окружающими его гибель! Постоянно памятуя и поминая пример Карла XII и высказывая решение никак не повторить его ошибки, делает именно эту же ошибку! Видя, что чудная армия его гибнет, тает как лед на знойных, утомительных переходах, чувствуя себя поглощенным громадностью пройденного (но не завоеванного) пространства, обманутым тактикою неприятеля, превзойденным его твердостью, – все-таки идет вперед, буквально устилая путь трупами!
В Витебске Наполеон объявляет кампанию 12 года конченною: „здесь я остановлюсь“, говорит он, „осмотрюсь, соберу армии, дам ей отдохнуть и устрою Польшу. Две большие реки очертят нашу позицию; построим блокгаузы, скрестим линии наших огней, составим карре с артиллериею, построим бараки и провиантские магазины; на 13-м году будем в Москве, в 14-м – в Петербурге. Война с Россиею – трехлетняя война!“
Есть все основания думать, что если бы этот план остановки в Литве был приведен в исполнение, благодушный Самодержец России теми или другими мерами был бы приведен к соглашению и миру. Но Наполеон теряет терпение, покидает Ветебск и идет вперед. Правда, он решается идти только до Смоленска, „ключа двух дорог, – на Петербург и Москву, которыми необходимо завладеть, чтобы быть в состоянии выступить весною сразу на обе столицы“. В Смоленске он собирается отдохнуть, окончательно устроить все и весною 1813 года, если Россия не подпишет мира, прикончить ее! Но, наперекор этому, французская армия покидает Смоленск и идет вперед!
В Москве должна была начаться агония громадного предприятия, участники которого устали, а руководитель потерял голову, – нельзя иначе выразиться о поведении Наполеона относительно Александра, поведении не только унизительном, но как бы рассчитанном на то, чтобы выдать затруднительность и безвыходность своего положения: и стороною и прямо он пишет письма с любезностями, с уверениями в дружбе, преданности и братской любви; посылает генералов с новыми предложениями мира, не получив ответа на старые: „Мне нужен мир“, говорит он Лористону, отправляемому с такою деликатною миссией в русский лагерь, „мир, во что бы то ни стало – спасите только честь!“
Разрешение грабежа и гнев на невозможность остановить его, намерение идти на Петербург, т. е. на север, перед самым началом зимы; приказ о закупке в совершенно разоренном, выжженном крае, громадного количества провианта и фуража, а также 20,000 лошадей, – все это факты, граничащее с насмешкою.
Потом обратное движение, с его рассчитанною медленностью для сохранения награбленного солдатами добра, давшею возможность русским предупредить французские войска и преградить им дорогу; разделение армии на отдельные самостоятельные отряды, один за другим побитые, почти истребленные; приказ систематического выжигания передними войсками всех окрестностей пути – в прямой ущерб остальной армии; наконец, святотатственное отношение к религии страны, поблажка осквернению храмов, убийствам, замариванию голодом всякого люда, попадавшегося под руку под именем „пленных“, – все это поступки, вызвавшие страшные проявления мести со стороны озлобившегося населения, поступки, о которых „свежо предание“, но которым „верится с трудом“.
Там и сям, как под Красным и при Березине, блещут еще искры гениального самосознания великого полководца, но эти отдельный проявления силы духа и военного таланта, эти последние лучи закатывающегося светила не в состоянии уже предупредить „величайшего из представляемых историю погромов“.»