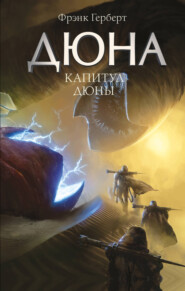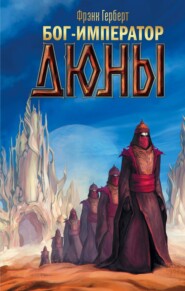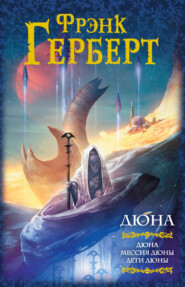По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мессия Дюны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чани, любимая, – прошептал он, – если бы ты знала, чего бы только я не дал за то, чтобы покончить с джихадом и помешать Квизарату сделать из меня бога.
– Но ты мог бы прекратить все это одним только словом, – затрепетав, сказала она.
– О нет. Даже если я умру, одно мое имя поведет их вперед. Стоит только подумать, что имя Атрейдесов связано со всей этой религиозной бойней…
– Но ты же – Император! Ты же…
– Я просто украшение – фигура на носу корабля. Если тебе навязали роль божества, отказаться от нее ты не властен. – Он с горечью усмехнулся. Из будущего на него глядели еще не родившиеся династии. Он ощущал, как гибнет в оковах судьбы его человеческая сущность и остается только одно имя. – Я был избран, – прошептал он. – Может быть, еще при рождении… но уж меня-то во всяком случае не спросили… Я был избран.
– А ты отвергни это избрание, – ответила она.
Он крепче обнял ее за плечи.
– В свое время, любимая. Дай мне еще хоть чуточку времени.
Слезы щипали его глаза.
– Вернемся в сиетч Табр, – сказала Чани, – в этом каменном шатре столько лишних хлопот.
Он кивнул, прижавшись подбородком к гладкой косынке, прикрывавшей ее волосы. Как всегда, от нее пахло Пряностью.
Сиетч. Слово древнего языка чакобса поглотило его внимание: укрытие, надежное и спокойное место во времена бед. Слова Чани заставили его затосковать по просторам Пустыни, где любой враг виден издалека.
– Племена ждут возвращения Муад’Диба, – сказала она и подняла голову, чтобы видеть его лицо. – Ты наш.
– Я принадлежу своей миссии, – прошептал он.
Он подумал о джихаде, о дрейфе генов через парсеки и парсеки, разделяющие звезды, о видении, сулившем окончание бойни. Сумеет ли он заплатить за это все, что должен? Тогда угаснет ненависть, подернется пеплом словно костер… уголек за угольком. Но… о! Цена будет страшной!
Я не хотел быть богом, никогда не хотел, думал он. Я просто хотел исчезнуть, как блистающая росинка с наступлением утра. Я хотел быть не с ангелами и не с проклятыми… просто быть – хотя бы и по чьему-то недосмотру.
– Так мы возвращаемся в сиетч? – настаивала Чани.
– Да, – прошептал он, подумав: Пора платить.
Глубоко вздохнув, Чани вновь прижалась к нему.
Я просто увиливаю, подумал он. Любовь и джихад правят мною. Что такое одна жизнь, пусть беспредельно любимая, рядом с бесчисленными жизнями, которые унесет джихад? Как можно сравнивать одно-единственное горе со страданиями миллионов?
– Любимый?.. – вопросительно начала Чани.
Он прикрыл ладонью ее губы.
Что, если отступить, думал он, сбежать, пока я еще способен на это, забиться в дальний уголок пространства? Бесполезно, джихад возглавит и призрак его.
Что ответить? – думал он. Как объяснить ей прискорбную и жестокую глупость рода людского? Разве поймет даже она?
Как бы мне хотелось сказать им: «Эй, вы! Глядите, реальность не может больше меня удержать. Вот! Я исчезаю! Ни замысел человеческий, ни козни людские не заманят меня более в эту ловушку. Я сам ниспровергаю основанную мною религию! Вот миг истинной славы! Я свободен!»
Пустые слова!
– Вчера у подножия Барьерной Стены видели большого червя, говорят, длиннее ста метров. Такие гиганты теперь не часто заходят сюда. Вода отпугивает их. Я так считаю. Уже принялись говорить, что он приходил звать Муад’Диба обратно в Пустыню, – она ущипнула его. – Чего смеешься?
– И не думаю.
Застигнутый врасплох упрямым фрименским суеверием, Пауль почувствовал, как вдруг сжалось сердце: его захлестнул адаб – воспоминание, что приходит само собой. Он вспомнил детскую на Каладане, темную ночь среди каменных стен… Видение! Это было одно из первых. Ум его словно нырнул теперь в это видение, и словно сквозь туманную дымку он увидел цепочку фрименов в одеждах, пропыленных Пустыней. Проходя мимо расщелины в высоких скалах, они уносили с собой длинный, обернутый в ткань сверток.
Тогда Пауль услышал собственные слова:
– Все это было так невозможно прекрасно… и ты была прекраснее всего…
Адаб отпустил его.
– Ты вдруг замолк и замер, – шепнула Чани. – Что с тобой?
Пауль поежился, сел и отвернулся.
– Ты сердишься, потому что я ходила на край Пустыни? – спросила Чани.
Не говоря ни слова, он покачал головой.
– Я пошла туда только потому, что хочу ребенка, – произнесла Чани.
Пауль не мог говорить. Грубая власть забытого видения не отпускала его. Ужасное предназначение! В этот миг вся жизнь его была дрогнувшей ветвью, с которой слетела птица… птица по имени Случай. Свободная воля.
Я сдался искушению, подчинился пророческому дару, подумал он.
Он видел, что подобное искушение в конце концов оставит перед ним только один путь. Может быть, видение не предсказывает будущее? Может быть, оно само его создает? Или же вся жизнь его мотыльком запуталась в паутине, а паук-грядущее подступает все ближе и ближе, шевеля хищными жвалами?
Припомнилась аксиома Бене Гессерит: прибегнув к помощи грубой силы, становишься бесконечно уязвимым для еще больших сил.
– Я знаю, ты сердишься, – произнесла Чани, тронув его за руку. – Я знаю, что племена возвращаются к старым обрядам, к кровавым жертвоприношениям, но я не принимала в них участия.
Пауль глубоко, с дрожью, вздохнул. Поток видения разлился, оставив ровную обширную гладь, под которой струились неподвластные ему титанические силы.
– Ну, пожалуйста, – умоляла его Чани, – я хочу ребенка, нашего ребенка. Разве это ужасно?
Пауль погладил ее руку, которой она прикоснулась к нему, отодвинулся. Выбравшись из постели, он погасил плавающие лампы, подошел к окну над балконом, отодвинул шторы. Глубокой Пустыне не было пути сюда, только запахом могла она дотянуться до покоев Императора. Прямо перед его глазами уходила в небо высокая стена. Косые полосы лунного света легли на обнесенный стенами сад, неусыпные деревья шелестели широкими влажными листьями. Сквозь листву поблескивала гладь пруда. В тени угадывались яркие цветы. На миг он увидел этот сад глазами фримена: чуждое и страшное место, опасное безумным расточительством влаги.
Он вспомнил продавцов воды, чью торговлю он подорвал своими щедрыми раздачами. Они ненавидели его. Он убил прошлое. А были и другие, копившие жалкие гроши, чтобы купить потом на них драгоценную воду, – они тоже его ненавидели: за то, что он изменил древний путь. По велениям Муад’Диба менялась экология планеты, и люди сопротивлялись переменам. Не самонадеянно ли думать, гадал он, что я и впрямь распоряжаюсь всей планетой – решаю, где, как и чему расти на ней? Но даже если бы это и было возможным, как быть со Вселенной? Не опасается ли и она чего-то подобного с его стороны?
Резким движением он задернул занавеси. В темноте он обернулся к Чани, почувствовал: она ждет его. Водные кольца ее позвякивали, словно колокольчики на кружках для подаяния у пилигримов. Устремившись на звук, он нашел ее протянутые к нему руки.
– Любимый, – шепнула она, – это я тебя расстроила?
И обхватила его руками, защищая от будущего.
– Нет, не ты, – отвечал он. – Ох… не ты.