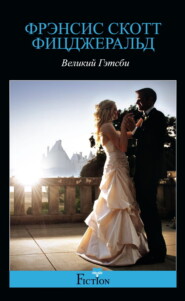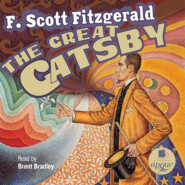По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ночь нежна
Жанр
Год написания книги
1934
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я ждал вас со дня на день, – сказал Брейди с чуть излишней театральностью; в его произношении был заметен легкий акцент лондонского кокни. – Хорошо попутешествовали?
– Да, но уже хочется домой.
– Нет-нет! – запротестовал он. – Послушайте, я хочу с вами поговорить. Знаете, как только я в Париже увидел вашу картину – «Папина дочка», да? – я тут же телеграфировал на побережье, чтобы узнать, ангажированы ли вы в настоящей момент.
– Простите, но я только что…
– Ах какая картина! – перебил ее Брейди.
Чтобы не поставить себя в глупое положение нескромностью, Розмари не улыбнулась, а напротив, приняла серьезный вид.
– Кому хочется остаться в памяти зрителя актрисой одной роли? – сказала она.
– Разумеется, вы совершенно правы. И каковы же ваши планы?
– Мама сочла, что мне нужно было отдохнуть. Но по возвращении мы, вероятно, либо подпишем контракт с «Ферст нэшнл», либо продлим с «Феймос».
– Кто это – мы?
– Моя мама и я. Все деловые вопросы решает она. Без нее я бы ничего не смогла.
Он снова окинул ее взглядом, и что-то внутри Розмари откликнулось на его взгляд. Это было даже не симпатией и уж, конечно, не тем спонтанным восхищением, какое она утром почувствовала по отношению к мужчине на пляже. Как будто повернули выключатель. Стоявший сейчас перед ней человек желал ее, и насколько позволяли ее девичьи эмоции, она без смущения подумала, что могла бы ему уступить. Но в то же время она точно знала, что забудет о нем через полчаса после того, как они расстанутся, – как актер забывает об экранном поцелуе.
– Где вы остановились? – спросил Брейди. – Ах да, у Госса. Что ж, мои планы на нынешний год тоже уже сверстаны, но все, что я написал вам в письме, остается в силе. После Конни Тэлмадж в пору ее юности я ни одну девушку еще не хотел снимать так, как вас.
– Я тоже хотела бы у вас сняться. Почему бы вам не вернуться в Голливуд?
– Не выношу это отвратительное место. А здесь мне хорошо. Подождите немного, я сейчас закончу эпизод и покажу вам студию.
Вернувшись на площадку, он спокойным тихим голосом начал что-то объяснять французскому актеру.
Прошло минут пять, Брейди продолжал говорить, актер время от времени переминался с ноги на ногу и кивал. Внезапно прервавшись, Брейди крикнул что-то осветителям, и софиты, зажужжав, вмиг вспыхнули снова. Розмари словно услышала знакомый голос Лос-Анджелеса и, испытав прилив желания вернуться туда, бесстрашно двинулась сквозь темный фанерный город декораций к выходу. Ей не хотелось видеть Брейди в том настроении, в каком, она знала, тот будет после съемки, поэтому, пребывая в плену нахлынувших чувств, она покинула студию. Теперь, после посещения киностудии, мир Средиземноморья уже не казался ей таким уж сонным уголком. Ей нравились прохожие на улицах, и по дороге на вокзал она с удовольствием купила себе пару сандалий на веревочной подошве.
Мать осталась довольна тем, как Розмари выполнила ее наставления, однако она по-прежнему была полна решимости отправить дочь в свободное плавание по жизни. Выглядела миссис Спирс свежо, но душевно она устала; люди устают от бдения у смертного одра, а ей уже дважды выпало пройти через это испытание.
VI
Пребывая в приятном расположении духа после выпитого за обедом розового вина, Николь Дайвер высоко сложила руки на груди, так что искусственная камелия на ее плече касалась щеки, и вышла в свой чудный сад, раскинувшийся на каменистом склоне. С одной стороны сад ограничивался домом, из которого словно бы вытекал, с двух других – старинной деревней, а с четвертой – обрывом, скалистыми уступами уходившим к морю.
Всё вдоль ограды, отделявшей сад от деревни, – вьющиеся виноградные лозы, лимонные деревья и эвкалипты, тачка, казалось, только что оставленная здесь, но уже вросшая в землю и начавшая подгнивать, – было покрыто пылью. Николь неизменно вновь и вновь испытывала удивление, когда, повернув в другую сторону, за купой пионов попадала в зеленый прохладный уголок, где листья и цветочные лепестки кудрявились от нежной влаги.
Обернутый вокруг шеи сиреневый шарф даже в обесцвечивавшем все вокруг ярком солнечном свете придавал бледный оттенок ее лицу и струил сиреневую тень вниз, к ступням. Лицо могло показаться строгим, почти суровым, если бы не едва заметное выражение жалобной неуверенности, затаившееся во взгляде зеленых глаз. Ее некогда светлые волосы потемнели, но в свои двадцать четыре года она стала даже красивей, чем в восемнадцать, когда эти волосы были самой яркой особенностью ее облика, затмевавшей все остальное.
По дорожке, стелющейся вдоль белого каменного бордюра и окаймленной неосязаемой дымкой цветения, она дошла до нависавшей над морем площадки, где среди фиговых деревьев дремали фонари, а под гигантской сосной – самым большим деревом в саду – были расставлены стол и плетеные стулья, затененные обширным рыночным зонтом, привезенным из Сиены. Здесь она задержалась, отсутствующим взглядом скользя по настурциям и ирисам, беспорядочно разросшимся у подножия сосны, словно кто-то небрежно бросил когда-то в землю пригоршню семян, и прислушалась к неразборчивым пререканиям то жалобных, то сердитых голосов, доносившихся из дома, – это ссорились дети. Когда звуки смолкли, растаяв в летнем воздухе, она двинулась дальше сквозь калейдоскоп пионов, сбившихся в розовые облака, черных и коричневых тюльпанов и покоящихся на лиловых стеблях хрупких роз, прозрачных, словно сахарные цветы в витрине кондитерской, – пока это скерцо красок, достигнув предельного напряжения, внезапно не оборвалось перед воздушным простором, нависшим над влажными ступеньками, сбегавшими к расположенному на пять футов ниже уступу.
Здесь бил родник, обнесенный каменной оградой, которая даже в самые жаркие дни оставалась сырой и скользкой. По ступеням, вырубленным на другой стороне площадки, Николь поднялась в огород; она шла довольно быстро, поскольку вообще любила движение, хотя иногда являла собой воплощение покоя, одновременно умиротворенного и загадочного. Причина, видимо, состояла в том, что, не веря ни в какие слова, она была немногословна, чтобы не сказать молчалива, и в светские беседы вносила лишь свою долю тонкого юмора, до скупости строго отмеренную. Однако если видела, что собеседникам становится неуютно от такой экономности, подхватывала тему разговора и, к собственному лихорадочному удивлению, бросалась в него очертя голову, а потом так же внезапно, едва ли не робко замолкала, как послушный ретривер, более чем хорошо выполнивший команду.
Стоя посреди пронизанной солнцем пушистой зелени огорода, она увидела, как Дик пересекает дорожку, направляясь в свой рабочий флигелек. Николь подождала, затаившись, пока он удалится, потом двинулась вдоль грядок будущего салата к маленькому зверинцу, где голуби, кролики и попугай встретили ее какофонией дерзких звуков. Оттуда она спустилась на один уступ и, оказавшись перед огибавшим его по краю невысоким парапетом, посмотрела вниз, на расстилавшееся футах в семистах Средиземное море.
Место, где она сейчас стояла, когда-то тоже было частью старинного горного селения Тарм. Участок земли под нынешнюю виллу выкроили из примыкавших друг к другу крестьянских дворов, облепивших утес; из пяти маленьких домиков соорудили один большой, а четыре снесли, чтобы разбить сад. Внешнюю стену оставили нетронутой, поэтому с дороги, пролегавшей далеко внизу, вилла была неразличима в общем фиолетово-сером массиве сельских строений.
Несколько минут Николь смотрела на средиземноморский простор, но в нем даже ее неутомимые руки ничего изменить не могли. Вскоре из своей однокомнатной хибарки вышел Дик с оптической трубой и, наведя ее на восток, стал рассматривать Канн. Минуту спустя в поле его зрения вплыла Николь. Он на миг скрылся в домике и появился снова уже с мегафоном в руке – у него была масса технических приспособлений.
– Николь! – крикнул он. – Я забыл тебе сказать, что в качестве последнего апостольского жеста пригласил к нам миссис Эбрамс, ту женщину с седыми волосами.
– Я это подозревала. Ужас! – Легкость, с какой ее слова достигли его ушей, можно было истолковать как посрамление достоинств мегафона, поэтому, повысив голос, она спросила: – Ты меня слышишь?
– Да. – Он опустил было мегафон, но потом снова упрямо поднес его к губам. – Я еще кое-кого собираюсь пригласить. Тех двух молодых людей.
– Ладно, давай, – безмятежно согласилась она.
– Хочу устроить по-настоящему безобразную вечеринку. Я не шучу. Вечеринку с каким-нибудь шумным скандалом, с соблазнениями, с дамскими обмороками в туалетной комнате и чтобы гости уходили домой в оскорбленных чувствах. Вот подожди, сама увидишь.
Он удалился в свой домик, а Николь отметила про себя, что на мужа снизошло одно из наиболее характерных для него настроений: бурное возбуждение, которое втягивало в свою орбиту все вокруг и за которым неизбежно следовала особая, свойственная только ему разновидность уныния, которого он никогда никому не показывал, но которое она угадывала безошибочно. Его возбуждение достигало накала, несоразмерного поводу, и невольно вызывало такой же чрезмерный отклик у окружающих. Разве что немногие особо толстокожие и недоверчивые по натуре люди были способны противостоять его неотразимому обаянию и не влюблялись в него сразу же и безоглядно. Реакция наступала, как только он осознавал тщету и сумасбродность своей эскапады. Порой, оглядываясь назад, на устроенный им буйный карнавал, он сам испытывал ужас – подобно генералу, озирающему последствия резни, приказ о которой сам же и отдал в безотчетном стремлении удовлетворить жажду крови.
Однако быть на время включенным в мир Дика Дайвера казалось незабываемым событием: каждый мнил, что к нему Дик относится по-особому, прозрев в нем исключительную личность, столько лет таившуюся за уступками обыденности. Он мгновенно завоевывал сердца тонким пониманием и обходительностью, которые действовали так быстро и так мягко, что заметить это можно было только по результату. Затем, не давая увянуть бурно расцветшим отношениям, он без предупреждения распахивал ворота в свой удивительный мир. И пока окружающие безоговорочно принимали предложенные им правила, его главной задачей оставалось доставлять им удовольствие, но при первом же намеке на сомнение в выстроенной им системе отношений он испарялся прямо у них на глазах, не оставляя почти никаких приятных воспоминаний о том, что говорил и делал прежде.
В тот вечер ровно в восемь тридцать он вышел встречать своих первых гостей, весьма церемонно и многообещающе, словно плащ тореадора, неся на руке пиджак. С подобающей куртуазностью поприветствовав Розмари и ее мать, он предоставил им возможность первыми начать разговор, как будто хотел, чтобы в незнакомом окружении звук собственных голосов придал им уверенности.
Под впечатлением от восхождения к Тарму и свежего воздуха Розмари и миссис Спирс одобрительно отзывались обо всем, что видели вокруг. Как свойства натуры незаурядных людей проявляются порой в непривычных оборотах речи, так тщательно продуманное совершенство виллы «Диана» проявлялось даже в таких мелких недоразумениях, как непредвиденное появление горничной где-то в глубине сцены или никак не желающая открываться пробка. В то время как прибывающие гости приносили с собой волнующее предвкушение вечернего веселья, домашняя дневная жизнь потихоньку сходила на нет и дети Дайверов под присмотром гувернантки заканчивали ужин на террасе.
– Какой красивый сад! – воскликнула миссис Спирс.
– Это детище Николь, – сказал Дик. – Она не жалеет усилий – все время терзает его заботами о здоровье растений. Боюсь, как бы она сама однажды не подхватила какую-нибудь мучнистую росу, паршу или фитофтору. – И решительно направив указательный палец на Розмари, шутливо, по-отечески покровительственно добавил: – Я намерен позаботиться о сохранности вашего рассудка и с этой целью подарить вам пляжную шляпу.
Из сада он повел их на террасу и налил каждой по коктейлю. Прибывший вскоре Эрл Брейди удивился, увидев Розмари. Здесь он держался мягче и спокойней, чем на студии, словно свою тамошнюю манеру поведения оставил за воротами, но, сравнив его с Диком Дайвером, Розмари безоговорочно сделала выбор в пользу последнего. Рядом с Диком Эрл Брейди казался немного вульгарным, чуть хуже воспитанным, тем не менее она ощутила тот же электрический разряд, что и при первой их встрече. Эрл фамильярно заговорил с детьми, которые как раз вставали из-за стола:
– Привет, Ланье! Как насчет песенки? Не споете мне с Топси что-нибудь?
– А что нам спеть? – не упрямясь, спросил мальчик с характерным для всех воспитывавшихся во Франции американских детей певучим акцентом.
– Ну, например, ту песенку – «Мой друг Пьеро».
Ничуть не смущаясь, брат и сестра встали рядом, и в вечерний воздух взмыли милые звонкие детские голоса.
Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Pr?te-moi ta plume
Pour еcrire un mot.
Ma chandelle est morte,
Je n’ai plus de feu,
Ouvre-moi ta porte
Pour l’amour de Dieu[5 - В этом лунном сиянии, О, друг мой Пьеро,Свое перышко дай мнеНаписать письмецо.Уж свеча догорает.Нет больше огня.Отвори ж, Бога ради,Приюти ты меня.(фр.)].
Закончив петь, дети, улыбаясь, спокойно, без жеманства, принимали похвалы; лучи закатного солнца нежно румянили их лица. Розмари казалось, что вилла «Диана» – центр мироздания. На такой сцене не могло не произойти нечто, что запомнится на всю жизнь, поэтому она еще больше разволновалась, когда скрипнула калитка. Это все вместе явились остальные гости – чета Маккиско, миссис Эбрамс, мистер Дамфри и мистер Кэмпьон поднялись на террасу.
Розмари испытала острое чувство разочарования – она бросила взгляд на Дика, словно желала получить объяснение столь несообразного сборища. Но тот оставался невозмутим. Он приветствовал новых гостей с горделивым достоинством и нескрываемым почтением к их безграничным, хотя и неведомым пока возможностям. И Розмари так верила ему, что вскоре уже воспринимала присутствие компании Маккиско как должное – будто бы с самого начала ожидала их всех здесь увидеть.