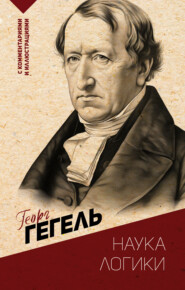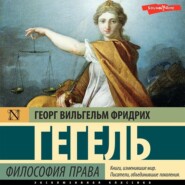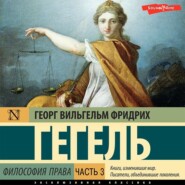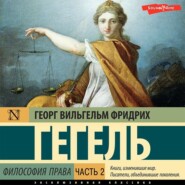По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лекции по истории философии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Спрашивается только, как народ может разобраться в таких делах, в какой мере такие дела могут быть предметом законодательства и служить поводом к судебному обвинению? Что касается первого пункта обвинения, то согласно нашим законам такие прорицания, как, например, предсказания Калиостро, недозволительны и в былые времена были бы запрещены, например инквизицией. А что касается второго пункта, то такое моральное вмешательство у нас, правда, носит более организованный характер, и эту обязанность выполняет особое сословие; однако даже это вмешательство должно оставаться общим и никогда не должно доходить до того, чтобы вызывать непослушание родителям, являющееся первейшим безнравственным принципом. Но подлежат ли подобного рода поступки ведению суда? Это раньше всего вопрос о праве государства, и в этом отношении мы теперь признанием широкий простор. Если бы, однако, профессор, например, или проповедник нападал на определенную религию, то правительство наверное обратило бы на это внимание, и оно имело бы на это полное право, хотя и поднимается всегда крик, когда оно это делает. Здесь, правда, при свободе мысли и слова трудно определить границу, и определение этой границы основывается на безмолвном соглашении; но существует пункт, за пределами которого начинается недозволенное, например прямой призыв к восстанию. «Дурные принципы», говорят, правда, «разрушаются сами собой и не находят доступа». Но это лишь отчасти верно, отчасти же нет, ибо красноречие софистов возбуждает у черни как раз их страсти. Говорят также: «Это лишь теория, ведь здесь не совершают никаких действий». Но государство существенно зиждется на мысли, и его существование зависит от умонастроения людей, ибо оно есть духовное, а не физическое царство. Существуют поэтому максимы и принципы, составляющие его опору, и если нападают на них, правительство должно вмешаться. К этому присоединяется вдобавок и то, что в Афинах еще существовало совсем другое состояние, чем у нас. Но для того, чтобы правильно судить о случае с Сократом, мы ведь должны класть в основание своего суждения афинское государство и его нравы. Согласно афинским законам, т. е. согласно духу абсолютного государства, и то и другое, чт? делал Сократ, было разрушительно для этого духа, тогда как в нашем государственном строе всеобщее государства есть более строгое всеобщее, которое вместе с тем позволяет индивидуумам свободнее резвиться вокруг себя, так как они не могут стать столь опасными для него. Таким образом, нужно сказать, во-первых, что несомненно получится ниспровержение афинского государства, если погибнет та государственная религия, на которой все построено и без которой это государство не может существовать, между тем как у нас государство является более самостоятельной абсолютной силой. А демон Сократа на самом деле является иным божеством, чем те божества, которые признавались афинским народом, и так как он находился в противоречии с государственной религией, то он делал ее подверженной субъективному произволу. Но так как определенная религия находилась в столь тесной связи с государственной жизнью, что она даже составляла одну из сторон государственного законодательства, то в глазах народа необходимо должно быть преступлением введение нового бога, делающего принципом самосознание и побуждающего к непослушанию. Мы можем об этом спорить с афинянами, но должны согласиться, что они были последовательны. Во-вторых, нравственная связь между родителями и детьми была у афинян еще незыблемее и еще в большей мере нравственной основой жизни, чем у нас, у которых господствует субъективная свобода, ибо пиетет к семье представлял собою субстанциальный основной тон афинского государства. Сократ, следовательно, совершил нападение на афинскую жизнь в двух основных пунктах. Афиняне чувствовали это, а затем и осознали это. Следует ли поэтому удивляться, что Сократа нашли виновным? Мы могли бы сказать, что это непременно должно было произойти. Теннеман (т. II, стр. 41) говорит: «Несмотря на то что эти обвинительные пункты содержали в себе самую явную неправду, Сократ был все же осужден на смерть, потому что он мыслил слишком возвышенно, чтобы снизойти до употребления тех общепринятых низких средств, которыми обыкновенно подкупали приговор судей». Но все это неверно. Он был найден виновным в этих делах, но не за них он был присужден к смерти.
b. Здесь начинается вторая сторона его судьбы. Согласно афинским законам обвиняемый после того, как гелиасты – своего рода английский суд присяжных – вынесли ему обвинительный приговор, имел право противопоставить наказанию, предложенному обвинителем, противооценку (????????????), которая, не будучи формально апелляцией, заключала в себе смягчение наказания; это – превосходный институт афинского судопроизводства, свидетельствующий о его гуманности. Речь шла, следовательно, при этой оценке не о наказании вообще, а лишь о роде наказания; что Сократ заслуживает наказания, это уже постановили судьи. Но хотя обвиняемому было предоставлено самому определить для себя наказание, последнее все же не должно было быть произвольным, а должно было находиться в соответствии с преступлением, – быть денежным штрафом или телесным наказанием (? ?? ??? ?????? ? ????????)[139 - Meiner und Sch?mann, Der Attische Process, S. 173–179.]. Но именно в том, что признанный виновным делается своим собственным судьей, подразумевалось, что он подчиняется приговору суда и признает себя виновным; Сократ же отказался определить для себя наказание, которое могло быть денежным штрафом или изгнанием. Он, таким образом, имел выбор между этими наказаниями и смертью, которую предлагали обвинители, но он отказался от выбора наказания, потому что, как сообщает Ксенофонт (Apol. Socr., § 23), формальностью противооценки (?? ???????????) он признал бы, как он говорил, свою вину. Но речь шла уже не о вине, а лишь о характере наказания.
Можно несомненно видеть в этом отказе моральное величие, но, с другой стороны, это несколько противоречит тому, что Сократ говорил позднее в темнице, а именно, что он не хочет бежать, а останется сидеть здесь потому, что это кажется лучше афинянам, и ему лучше подчиняться законам. Но основное подчинение заключалось бы именно в том, что если афиняне его признали виновным, то он отнесется с уважением к их приговору и тоже признает себя виновным; он поэтому, будучи последовательным, должен был бы также признать за лучшее подвергнуться наказанию, так как он этим тоже подчинялся законам, и не только законам, но и приговору. Так, мы видим, как небесная Антигона, великолепнейший образ из всех тех, которые когда-либо появлялись на земле, идет к смерти со следующими последними словами:
Когда богам угодны наши муки,
Признаться мы должны, что согрешили.
Перикл тоже подчинялся приговору народа, как суверена; так мы видели, что он просит у граждан за Аспасию и за Анаксагора, точно так же мы видим, что благороднейшие люди в Римской республике просят граждан. В этом нет никакого бесчестия для отдельного лица, ибо оно должно склониться перед всеобщей силой, а этой реальной благороднейшей силой является народ. Как раз со стороны тех, которые занимают высокое положение в народе, он должен видеть это признание. Здесь же, напротив, Сократ отказался от этого подчинения и покорности власти народа и не пожелал просить о смягчении наказания. Мы восхищаемся в нем этой моральной самостоятельностью, которая, сознавая свое право, настаивает на нем и не склоняется ни к тому, чтобы действовать иначе, ни к тому, чтобы признать несправедливостью то, что она сама считает справедливым. Сократ поэтому навлекает на себя смерть, на которую не надо смотреть как на наказание за проступки, в которых он был найден виновным. Ибо лишь то, что он не хотел определить себе наказания и, следовательно, отказался признать судебную власть народа, вызвало присуждение к смерти. В общем он признавал суверенитет народа, но не признал его в данном единичном случае. Но этот суверенитет должен быть признан не только в общем, но и в каждом единичном случае. У нас компетенция судов предполагается заранее, и преступник присуждается без всяких обиняков. Таким образом, в наше время субъект оставляется свободным, и лишь деяния принимаются во внимание. У афинян же мы видим своеобразное требование, чтобы осужденный актом оценки своей вины вместе с тем сам явно санкционировал судебный приговор, признающий его виновным. В Англии это не имеет места, но нечто подобное мы еще там находим в другой форме: обвиняемого спрашивают, по каким законам он хочет быть судим, и он отвечает: по законам моей страны и пред судом моего народа. Здесь, таким образом, судебному разбирательству предшествует признание.
Сократ, следовательно, противопоставил судебному приговору свою совесть и объявил себя оправданным перед судом своей совести. Но никакой народ и меньше всего свободный, и притом еще такой свободный, как афинский народ, не может признать суда совести, который не знает никакого другого сознания исполнения своей обязанности, кроме как сознания этой совести. На это могут ответить правительство, суд, всеобщий дух народа: «Если ты сознаешь, что исполнил свой долг, то у нас также должно быть это сознание, что ты его исполнил». Ибо первым принципом государства является вообще то, что не существует никакого высшего разума или совести или добропорядочности – назовите это, как угодно – помимо того, чт? государство признает таковым. Квакеры, анабаптисты и т. д., противящиеся определенным правам государства, например, в отношении защиты отечества, не могут быть терпимы в истинном государстве. Эта жалкая свобода мыслить и мнить, чт? кому угодно, не находит в нем места, не находит также в нем места это отступление в твердыню сознания своего долга. Если это сознание не является лицемерием, то все должны признавать, что данные дела отдельного лица, как таковые, представляют собою его долг. Если народ может заблуждаться, то еще гораздо больше может заблуждаться отдельное лицо, и оно должно сознавать, что оно может заблуждаться и еще в гораздо большей мере, чем народ. Вообще, суд тоже обладает совестью и должен постановлять решения согласно с нею; суд, больше того, есть привилегированная совесть. Если противоречие права в процессе состоит в том, что каждая совесть желает чего-то другого, то лишь совесть судебного учреждения считается всеобщей законной совестью, не обязанной признавать особую совесть обвиняемого. Слишком часто люди убеждены, что они исполнили свой долг, но дело судьи исследовать, на самом ли деле исполнен долг, хотя бы те люди, которые подлежат его суду, и определенно сознавали это.
Что Сократ встретил свою смерть необычайно спокойно, мужественно, это само собой ясно: иного от него и нельзя было ожидать. Рассказ Платона о прекрасных сценах последних часов его жизни хотя и не содержит в себе ничего чрезвычайного, все же представляет собою возвышающую душу картину и останется навсегда изображением благородного деяния. Последняя беседа Сократа представляет собою популярную философию, и мысль о бессмертии души действительно только здесь и встречается; однако эта мысль вовсе не является утешением; заставляет же Гомер Ахилла в подземном мире сказать, что он лучше хотел бы быть рабом на земле.
Но если афинский народ исполнением этого приговора отстаивает право своего закона против нападения Сократа и наказал в лице Сократа оскорбление своей нравственной жизни, то Сократ также является героем, который имеет на своей стороне абсолютное право уверенного в самом себе духа, сознания, принимающего внутреннее решение, является, следовательно, героем, сознательно высказавшим новый принцип духа. Как мы указали выше, своим выступлением в греческом мире Сократ пришел в столкновение с субстанциальным духом и существующим умонастроением афинского народа, и поэтому должна была иметь место получившаяся реакция, ибо принцип греческого мира еще не мог перенести принципа субъективной рефлексии. Афинский народ, следовательно, не только имел право, но был даже обязан реагировать на него согласно законам, ибо он рассматривал этот принцип как преступление. Таково вообще во всемирной истории положение героев, зачинающих новый мир, принцип которого находится в противоречии с прежним принципом и разрушает его: они представляются насильственными нарушителями законов. Индивидуально они поэтому находят свою гибель, но лишь индивидуум, а не принцип уничтожается в наказании; и дух афинского народа не восстановился посредством уничтожения индивидуальности Сократа. Неправильная форма индивидуальности сбрасывается и сбрасывается насильственно, как наказание, но сам принцип позднее проложит себе путь, хотя и в другой форме, чтобы возвести себя до образа мирового духа. Эта всеобщая форма, в которой выступает принцип и подрывает существующее, является истинной формой; несправедливость, имевшая место, состояла в том, что принцип выступил лишь как достояние индивидуума. Так понимать Сократа может не современный ему мир, а потомство, поскольку оно стоит выше обоих. Можно себе представить, что жизнь Сократа не необходимо должна была кончиться таким образом; Сократ мог жить и умереть частным философом, его ученики могли спокойно воспринять его учение и распространять его дальше, не обратив на себя внимания государства и народа, и обвинение кажется, таким образом, случайным. Нужно, однако, сказать, что этому принципу воздана достойная его честь лишь этим исходом. Этот принцип представляет собою не только нечто новое и своеобразное, а абсолютно существенный момент в развивающемся самосознании, момент, которому, как целостности, предназначено породить новую высшую действительность. Афиняне правильно понимали, что этот принцип выступил не просто как мнение и учение, а имеет прямое и притом враждебное, разрушительное отношение к действительности греческого духа, и они поступили согласно этому пониманию. Таким образом, судьба Сократа не случайна, а необходимо обусловлена его принципом, или, скажем иначе, афинянам принадлежит честь познать это отношение и даже почувствовать, что они сами уже заражены этим принципом.
c. Афиняне после этого раскаялись в том, что осудили Сократа, и наказали его обвинителей отчасти даже смертью, отчасти изгнанием, ибо, согласно афинским законам, в случае, если обвинение оказывалось ложным, выступавший с обвинением подвергал себя тому же наказанию, которое постигало преступника в противном случае. Таков последний акт этой драмы. С одной стороны, афиняне своим раскаянием признают индивидуальное величие Сократа, но они признают также (и это есть ближайший смысл их раскаяния), что этот принцип, пребывавший в Сократе, принцип гибельный для них и враждебный – введение новых богов и непочитание родителей – уже вошел в их собственный дух, что они уже сами находятся в этом разладе, что они в лице Сократа осудили лишь свой собственный принцип. То обстоятельство, что они раскаялись в справедливом осуждении Сократа, подразумевает, по-видимому, что они сами желали бы, чтобы это осуждение не имело места. Но из раскаяния не следует, что это осуждение само по себе не должно было произойти, а следует лишь, что оно для их сознания не должно было произойти. Обе стороны представляют собою виновную невинность, искупающую свою вину, и здесь имело бы место лишь нечто бездуховное и жалкое, если бы она не была виной. Невинный, которому плохо живется, является простофилей; поэтому когда в трагедиях выступают тираны и невинные, то это плоско и в высшей степени бессодержательно, так как это простая случайность. Великий человек хочет быть виновным и принимает на себя великую коллизию. Так Христос пожертвовал своей индивидуальностью, но созданное им дело осталось.
Судьба Сократа, таким образом, подлинно трагична, трагична не в поверхностном смысле слова, не в том смысле, в котором каждое несчастье называют трагичным. Так, в частности, называют трагичной смерть, постигающую достойного индивидуума. Так, например, говорят о Сократе, что его судьба трагична потому, что он был невинно осужден на смерть. Такое страдание без вины было бы лишь печально, а не трагично, ибо это – не разумное несчастье. Несчастье лишь тогда разумно, когда оно порождено волей субъекта, которая должна быть бесконечно правомерной и нравственной, точно так же как бесконечно правомерной и нравственной должна быть сила, против которой она выступает. Такой силой не должна быть поэтому ни простая сила природы, ни сила тиранической воли, ибо лишь в вышеуказанном случае человек сам виновен в своем несчастье, между тем как естественная смерть есть лишь абсолютное право природы, выполняемое ею по отношению к человеку. В подлинно трагическом должны поэтому прийти в столкновение с обеих сторон правомерные нравственные силы. Такова судьба Сократа. Его судьба не является также лишь его личной, индивидуально романтической судьбой, а в ней представляется нам общая нравственная, трагическая судьба, трагедия Афин, трагедия Греции. Два противоположных права выступают друг против друга, и одно разбивается о другое: таким образом, оба терпят урон, оба также правы друг против друга, и дело не обстоит так, что будто бы лишь одно есть право, а другое есть не-право. Одной силой является божественное право, наивные нравы, законы которых тожественны с волей, живущей в них, как в своей собственной сущности; мы можем абстрактно называть это объективной свободой. Другим, противоположным принципом является столь же божественное право сознания, право знания или субъективной свободы; это – всеобщий принцип философии всех последующих времен. Вот эти два принципа мы видим выступающими друг против друга в жизни и философии Сократа.
Сам афинский народ вступил в тот период образования, когда единичное сознание отделяется, как самостоятельное, от всеобщего духа и становится для себя. Это явление он созерцал также в Сократе, но вместе с тем чувствовал, что это – гибель; он, значит, наказал этот свой собственный момент. Принцип Сократа, таким образом, не был проступком индивидуума, все афиняне были соучастниками этого же проступка; это было как раз преступление, совершавшееся народным духом против самого себя. Благодаря такому пониманию осуждение Сократа было снято; казалось, что Сократ не совершил преступления, ибо дух народа является для себя теперь вообще сознанием, возвратившимся в себя из всеобщего. Это – разложение народа, дух которого, следовательно, вскоре исчезнет из мира, но исчезнет так, что из его пепла взовьется более возвышенный дух, – ибо мировой дух поднялся на более возвышенную ступень сознания. Афинское государство, правда, еще долго существовало, но цветок его своеобразия вскоре увял. Своеобразие Сократа состоит в том, что он воплотил принцип верховенства внутреннего сознания не только в области практики, подобно Критию и Алкивиаду, но и в мысли, и добился признания этого принципа, а это – высшая форма. Познание привело к грехопадению, но оно также содержит в себе принцип спасения. То, что, таким образом, у других было лишь гибелью, у Сократа (так как это – принцип познания) было также принципом, носившим в себе лекарство. Развитие этого принципа, составляющее содержание всей последующей истории, является само по себе причиной того, что позднейшие философы отошли от государственных дел, ограничивались выработкой внутреннего мира, отмели от себя всеобщую цель нравственного развития народа и заняли враждебную позицию по отношению к духу Афин, по отношению к Афине. С этим находится в связи то, что теперь приобрели большую силу частные цели, частные интересы. В этом есть то общее с сократовским принципом, что то, что кажется субъекту правым, долгом, хорошим или полезным, как в отношении себя, так и в отношении государства, зависит от его внутреннего определения и выбора, а не от государственного устройства и всеобщего. Но этот принцип определения из себя, которым руководится индивидуум, сделался гибелью афинского народа, потому что этот принцип еще не был объединен с народным строем, и точно так же высший принцип должен представляться гибелью повсюду, где он еще не составляет нечто единое с субстанциальной стороной народа. Афинская жизнь расслабла, и государство стало бессильным вовне, потому что дух был расколот в себе. Таким образом оно попало в зависимость от Лакедемона, а затем мы видим, как все подобные государства попадают во внешнее подчинение македонцам.
Итак, мы покончили с Сократом. Я был здесь более пространным, потому что все черты при таком изложении выступают во взаимной гармонии, и Сократ вообще является великим поворотным пунктом истории. Он умер в первом году 95-й олимпиады (399–400 г. до Р.Х.), 69 лет от роду, олимпиадой позже окончания Пелопоннесской войны, через 29 лет после смерти Перикла и за 44 года до рождения Александра. Он видел величие Афин и начало упадка, он переживал высший расцвет и начало бедствия.
C. Сократики
После смерти Сократа горсточка его друзей бежала из Афин в Мегару, куда отправился также и Платон. Евклид был постоянным жителем Мегары, и он принял их, помогая им, насколько было в его силах[140 - Diog. Laёrt., II, 106.]. После того как приговор над Сократом был отменен и обвинители подверглись наказанию, часть сократиков возвратилась обратно, и прежнее равновесие было восстановлено. Сократ оказал широкое и глубоко идущее образовательное влияние в царстве мысли, а главная заслуга учителя всегда и заключается в том, что он дает большой толчок самостоятельной работе мысли. Субъективно влияние Сократа было формально, состояло лишь в том, что он вызвал разлад в индивидууме; содержание же было предоставлено капризу и произволу каждого, потому что его принципом было субъективное сознание, а не объективная мысль. Сам Сократ дошел лишь до того, что провозгласил добром для сознания вообще простую сущность мышления о самом себе; но в самом ли деле определенные понятия о доброте определяют надлежащим образом то, сущность чего они должны выражать, – этого он не исследовал, а сделав добро целью для действующих людей, он оставил в стороне весь мир представлений и вообще предметную сущность, не стремился найти переход от добра, от сущности сознаваемого, как такового, к вещими и познать сущность как сущность вещей. Ибо если вся современная спекулятивная философия провозглашает всеобщее сущностью, то кажется на первый взгляд, что это только единичное определение, наряду с которым существует еще множество других. Лишь полное движение познания устраняет эту видимость, и система вселенной являет тогда свою сущность как понятие, как расчлененное целое.
Самые разнообразные школы и основоположения вышли из этого учения Сократа, и это обстоятельство ему ставилось в упрек; но оно вызывалось неопределенностью или абстрактностью самого его принципа. И все же мы ближайшим образом узнаем в тех философских воззрениях, которые мы обозначаем как сократические, лишь определенные формы этого принципа. Под названием же сократиков я понимаю тех учеников и те формы учения, которые остались ближе учению Сократа, тех, у которых мы ничего другого не находим, кроме одностороннего понимания сократовского образования. Часть этих учеников придерживалась совершенно строго непосредственной манеры Сократа и не пошла ни на шаг дальше. Много его друзей такого рода упоминается древними авторами. Поскольку эти друзья были авторами, они довольствовались тем, что исторически верно записывали его беседы, отчасти действительно веденные с ними, отчасти же слышанные ими от других, или же сами писали в его манере диалоги, но воздерживались от спекулятивных исследований и, направляя свое внимание на практическую жизнь, неизменно и верно исполняли обязанности, налагаемые на них их сословием и положением, и сохраняли, таким образом, душевное спокойствие. Самым знаменитым и выдающимся среди них был Ксенофонт. Кроме него писали диалоги еще много других сократиков. Древние авторы упоминают Эсхина, из диалогов которого некоторые дошли до нас, Федона, Антисфена и др. Среди них также упоминается сапожник Симон, «в мастерской которого Сократ часто беседовал с ним и который после этого тщательно записал то, что Сократ говорил ему». Название его диалогов, ровно как диалогов других, мы находим у Диогена Лаэрция (II, 60–61, 105, 122–123; VI, 15–18), но они имеют лишь литературный интерес, и я поэтому обхожу их молчанием.
Но другая часть с сократиков пошла дальше Сократа и, беря его своим исходным пунктом, удержала и развила одну из отдельных сторон философии и точку зрения, к которой он привел философское сознание. Именно эта точка зрения заключает в себе абсолютность самосознания внутри себя и отношение его в себе и для себя сущей всеобщности к единичному. Мы видим, таким образом, как с Сократом и начиная с его времени появляется знание, мир поднимается в царство сознательной мысли и последняя становится предметом познания. Мы больше уже не видим, чтобы спрашивали и отвечали на вопрос, что такое природа, а спрашивают и отвечают на вопрос, что такое истина, или, иными словами, определилось, что сущность не есть некое «в себе», а такова, какова она есть в познании. Мы видим поэтому, что теперь появляется вопрос об отношении между самосознательным мышлением и сущностью; этот вопрос становится самым важным. Истинное и сущность не одно и то же: истинное есть мыслимая сущность, сущность же есть простое «в себе». Само это простое есть, правда, мысль и находится в мысли, но если говорили, что сущность представляет собою чистое бытие или становление, или для-себя-бытие у атомистов, или понятие как мышление вообще (???? Анаксагора), или, наконец, мера, то это разумелось непосредственно и имело предметную форму. Или, иными словами, это – простое единство предметного и мышления: оно не чисто предметно, ибо бытия нельзя ни видеть, ни слышать и т. д.; оно также не есть противоположное сущему чистое мышление, ибо последнее есть для себя сущее самосознание, отличающее себя от сущности. Оно не есть, наконец, единство, возвращающееся в себя из различия этих двух сторон, не есть познание и знание. В последних самосознание становится на одной стороне как для-себя-бытие и ставит бытие на другую сторону, сознает это различие и возвращается из этого различения в единство этих двух сторон. Это единство, результат есть знаемое, истинное. Одним моментом истинного является достоверность самого себя; этот момент прибавился к сущности, – прибавился в сознании и для сознания. Это движение и исследование его составляет отличительную черту непосредственно следующего за Сократом философского периода, так как он рассматривает не отпущенную на волю чисто предметную сущность, а рассматривает ее в единстве с достоверностью самого себя. Этого не надо понимать так, как будто они делали само это познание сущностью и оно признавалось ими содержанием и определением абсолютной сущности. Или, иначе говоря, не надо это понимать так, как будто сущность определялась, как единство бытия и мышления, для сознания этих философов, т. е. не надо полагать, что они ее так мыслили, а надо это понимать лишь так, что они больше уже не могли говорить о сущем и существенном, не прибавляя этого момента достоверности самого себя. И этот период является поэтому как бы средним периодом, который сам представляет собою движение познания и рассматривает познание как науку о сущности, которая теперь впервые создает это единство.
Из этого определения вытекает, какие философские системы нам могут здесь встретиться. А именно, так как в этот период положено отношение мышления к бытию или всеобщего к единичному, то мы видим, с одной стороны, в качестве предмета философии осознание противоречия сознания, – противоречия, которого обычное представление не сознает, а являет собою смесь противоречивых точек зрения и бессмысленно вертится в них, а, с другой стороны, предметом философии является сама философия как познающая наука, которая, однако, не выходит за предел своего понятия и, будучи расширенной и разработанной наукой о некоем содержании, не может дать себе этого содержания, а может лишь мыслить его, т. е. определять его простым способом. Мы должны согласно этому рассмотреть три обладающих самостоятельным значением школы сократиков. Во-первых, мегарскую школу, главой которой является Евклид Мегарский, затем киренскую и еще циническую школы, и из того, что эти три школы очень различаются друг от друга, уже явствует, что сам Сократ не имел положительной системы. У этих сократиков выступает на первый план определение субъекта, которому абсолютный принцип истины и добра представляется вместе с тем целью, и для достижения этой цели требуется размышление, вообще умственная культура и умение объяснить, что такое истина и добро. Но если эти сократовские школы в общем и целом останавливаются на том, что субъект есть сам для себя цель и достигает своей субъективной цели посредством развития своего сознания, то все же формой определения в них является всеобщее, и именно так, что это всеобщее не остается абстрактным, а развитие определений всеобщего дает науку.
Мегарцы являются наиболее абстрактными, так как они держались определения добра, которое в качестве простого определения было для них принципом; неподвижная, соотносящая себя лишь с самою собою простота мышления вообще становится сущностью сознания, как единичного, равно как и сущностью его познания. С утверждением, что добро просто, мегарская школа соединяла диалектику, согласно которой все определенное, ограниченное не имеет в себе ничего истинного; но у мегариков целью являлось познание всеобщего и это всеобщее признавалось ими абсолютным, которое должно быть фиксировано в этой форме всеобщего; поэтому это мышление, как понятие, относящееся отрицательно ко всякой определенности вообще, следовательно, также и к определенности понятия, обратилось в такой же мере против самого знания и познания.
Киренаики берут познание в субъективном смысле и в смысле единичности как достоверности самого себя или, иными словами, как чувства; этим, как наиболее существенным, они ограничивают старания сознания и вообще видят в чувстве сущность для сознания. Так как они при этом старались точнее определить добро, то они его называли просто удовольствием или наслаждением, но под этим можно понимать все что угодно. На первый взгляд кажется, будто этот принцип киренской школы очень далек от принципа, выдвинутого Сократом, так как мы себе представляем преходящее состояние ощущения даже прямой противоположностью добра. Это, однако, неверно. Киренаики тоже признавали всеобщее, ибо, так как они ставят вопрос, что такое добро, то хотя они делают содержанием приятное ощущение, которое как будто есть некое определенное, они делают это, однако, таким образом, что для достижения такого ощущения требуется развитой ум и, следовательно, разумеют удовольствие, как оно определяется мыслью.
Циники тоже дают более точное определение принципа добра, но принцип циников противоположен принципу киренаиков: он гласит, что человек должен придерживаться того, что соответствует природе простых естественных потребностей. Они вместе с тем признавали все особенное, ограниченное, достижение чего является предметом заботы людей, чем-то таким, чего не должно желать. И у циников также принципом является умственная культура, посредством знания всеобщего, но посредством этого знания всеобщего должно быть достигнуто назначение индивидуума, заключающееся в том, чтобы держаться в рамках абстрактной всеобщности, в свободе и независимости и оставаться равнодушным ко всему тому, что ценится и признается другими людьми. Таким образом, мы видим, как эти школы познают чистое мышление в его движении с единичным и осознают многообразные превращения всеобщего. Нет нужды подробно рассматривать эти три школы. Принцип киренаиков нашел позднее более научное развитие в эпикуреизме, а принцип циников – у стоиков.
1. Мегарская школа
Так как Евклид (которого считают основателем мегарского способа мышления) и его школа твердо держались форм всеобщности и преимущественно старались и искусно умели обнаруживать противоречия, содержащиеся во всех единичных представлениях, то их упрекали в любви к спорам, и их поэтому приверженцы других школ прозвали эристиками. Орудием запутывания сознания всего особенного и превращения этого особенного в ничто служила им диалектика, которую они очень тщательно разработали, но вместе с тем, как их упрекали, пользовались ею с каким-то бешенством, так что говорили, что их следует называть не школой (?????), а желчью (????)[141 - Diog. Laёrt., VI, 24.]. В этой разработке диалектики они занимают место элеатской школы и софистов; по-видимому, они лишь возобновили элеатскую школу[142 - Cicer., Acad. Quaest., II, 42.] и совершенно совпадают с ней, но с тем отчасти различием, что элеаты были диалектиками, защищавшими бытие как единую сущность, в сравнении с которой ничто особенное не имеет в себе никакой истины, а мегарики пользовались диалектикой для защиты бытия как добра. Софисты же, напротив, не возвращали ее движения к простой всеобщности, как представляющей собою незыблемое и пребывающее, и точно так же мы позднее увидим в лице скептиков таких диалектиков, которые пользуются диалектикой для защиты спокойного пребывания субъективного духа внутри себя. Кроме Евклида упоминаются еще в качестве знаменитых эристиков Диодор и Менедем, но в особенности Евбулид и позднее Стильпон, диалектика которых простиралась также и на противоречия, встречающиеся во внешнем представлении и в речи, так что она отчасти даже переходила в простую игру слов.
a. Евклид
Евклид, которого не нужно смешивать с носившим то же имя математиком, и есть тот, о котором сообщают, что при существовавших между Афинами и его отечеством Мегарой натянутых отношениях, в период сильнейшей вражды между ними, он часто прокрадывался в Афины в женском платье, не страшась даже смертной казни, лишь бы иметь возможность слышать Сократа и находиться в его обществе[143 - Menag. ad Diog. Laёrt., II, 106; Aul. Gellus, Noct. Atticae, VI, 10.]. Несмотря на то что он был упорным спорщиком, Евклид, как сообщают, оставался даже во время споров спокойнейшим человеком в мире. Рассказывают, что однажды во время спора его противник так рассердился, что воскликнул: «Я готов принять смерть, если не отомщу тебе». Евклид на это спокойно ответил: «А я готов принять смерть, если я своими мягкими речами не успокою так твой гнев, что ты будешь любить меня, как прежде»[144 - Plutarch., de fraterno amore, p. 489, D (ed. Xyl.); Stobaei Sermones, LXXXIV, 15 (t. III, p. 160, ed. Gaisford); Brucker, Hist. crit. philos., t. I, p. 611.]. Евклид высказал положение: «Добро – едино» и лишь существует (ist nur); «оно, однако, называется многими именами: то его называют умом, то богом, иногда также и мышлением (????) и т. д. Но то, что противоположно добру, вовсе не существует»[145 - Diog. Laёrt., II, 106.]. Это учение Цицерон называет (в цитир. месте назв. соч.) благородным и говорит, что оно мало чем отличается от учения Платона. Так как мегарики делали принципом добро как простое тожество истинного, то из этого уже явствует, что они понимали добро как абсолютную сущность, в более общем смысле, чем Сократ; из этого вытекает, что они больше уже не признают, подобно Сократу, значимыми рядом с единым добром также и множество представлений и что они также и не боролись с такого рода представлениями, как с чем-то безразличным для человека, а утверждали определенно, что последние представляют собою ничто. Таким образом, мегарики стоят на позиции элеатов, так как они, подобно последним, доказывают, что лишь бытие есть а все другое как отрицательное вовсе не есть. В то время, следовательно, как диалектика Сократа была случайной, так как он расшатывал лишь отдельные, особенно ходячие моральные представления или первые приходившие на ум представления о знании, мегарики, напротив, возвели свою философскую диалектику в нечто более всеобщее и более существенное, так как они больше уже не обращали внимания на формальную сторону представления и речи. Однако они еще не имели в виду, подобно позднейшим скептикам, определенностей чистых понятий, ибо знания, мышления в абстрактных понятиях еще не существовало. Собственно об их диалектике нам сообщают мало, а больше сообщают о смущении, в которое они приводили обыденное сознание, так как они всячески изощрялись в запутывании своих собеседников в противоречиях. Таким образом, они пользовались диалектикой в манере простой беседы; Сократ точно так же поворачивал во все стороны размышление об обыкновенных вещах, и в наших разговорах отдельное лицо также старается сделать свое утверждение интересным, подкрепляя последнее сильными доводами. Рассказывают множество анекдотов об их ухищрениях в споре; из этих анекдотов мы усматриваем, что то, что мы называем шутками, было для них серьезным занятием. Но другие их загадки несомненно касаются одной определенной категории мышления; они берут эту категорию и показывают, что если мы оставим ее в силе, мы запутаемся в противоречиях.
b. Евбулид
Из бесчисленного множества оборотов, которыми они пользовались, чтобы запутывать сознание в категориях, некоторые сохранились для нас с определенными названиями; это – преимущественно софизмы, изобретение которых приписывается ученику Евклида – Евбулиду Милетскому[146 - Diog. Laёrt., II, 108.]. Первое, чт? приходит нам на ум, когда мы их слышим, это то, что мы имеем перед собою обыкновенные софизмы, которые не стоит опровергать, и, пожалуй, не стоит даже выслушивать и которые уж меньше всего обладают настоящей научной ценностью. Мы тотчас же объявляем этого рода вещи благоглупостями и видим в них невозмутимые шутки; однако на самом деле легче их отбросить в сторону, чем настоящим образом опровергнуть. В то время как мы пользуемся обычной формой разговора и довольствуемся тем, что каждый понимает то, чт? разумеет другой, или если этого нет, мы утешаемся тем, что (нас понимает бог), – эти софизмы отчасти ставят себе целью завести в тупик обычный разговор, обнаруживая его противоречивость и неудовлетворительность, если его понимать буквально. Привести в смущение человека, ведущего обычный разговор, так чтобы он не знал, чт? ответить, кажется нам глупым и сводится к отыскиванию формальных противоречий. Если же это все-таки делают, то навлекают на себя упрек, что думают только о словах и занимаются пустой игрой слов. Наша немецкая серьезность отвергает поэтому также и игру слов, видя в них бессодержательное остроумие; но греки ставили чистое слово и чистое рассмотрение предложения столь же высоко, как и самую суть, и если часто противополагают друг другу слово и суть, то нужно сказать, что слово выше сути, ибо невысказанная суть есть, собственно говоря, нечто неразумное, потому что разумное существует лишь как язык.
Прежде всего мы находим у Аристотеля в его опровержениях софизмов много таких примеров, которые имеют своими авторами как древних софистов, так и эристиков; там же мы находим и решения этих софизмов. Евбулид поэтому писал также и против Аристотеля[147 - Diog. Laёrt., II, 109.]; однако из этих его произведений ни одно не дошло до нас. У Платона, как мы видели выше, мы также находим такие шутки и двусмысленности, которые должны выставить в смешном виде софистов и показать, какими пустяками они занимались. Эристики, однако, пошли еще дальше, сделавшись придворными шутами, как, например, Диодор при дворе Потолемеев[148 - Diog. Laёrt., II, 111–112.]. История показывает нам, что диалектическое занятие, состоявшее в том, чтобы привести в смущение собеседников вопросами и уметь отвечать на них, было распространенной игрой, которой греческие философы занимались как в общественных местах, так даже и за столом царей. Подобно тому, как царица Савская пришла с Востока к царю Соломону, чтобы задать ему загадки и посмотреть, сумеет ли он их разгадать, так мы видим за столом у царей греческих философов, собирающихся вместе, чтобы вести остроумные беседы, стараясь приводить друг друга в затруднение и подшучивая друг над другом. Греки прямо безумно увлекались выискиванием противоречий, в которые впадают в разговоре, в обычном представлении. Противоположность выступает не как чистая противоположность понятия, а как противоположность понятия, переплетенного с конкретными представлениями. Такие суждения не обращаются, следовательно, ни к конкретному содержанию, ни к чистому понятию. Субъект и предикат, из которых состоит каждое суждение, отличны друг от друга, но в представлении мы разумеем их единство, и это простое, не противоречащее себе, именно и является для обычного сознания истинным. На самом же деле простое, тожественное с самим собою суждение есть ничего не означающая тавтология, ибо, где нечто высказывается, субъекты и предикаты различны и противоречат друг другу, когда их различие осознается. Но обыденное сознание на этом кончает, ибо там, где оно находит противоречие, оно видит лишь разложение, самоупразднение. Оно не подозревает, что лишь единство противоположностей есть истина, не подозревает, что в каждом суждении имеется истина и ложь, если понимать истину в смысле простого, а ложное в смысле противоположного, противоречащего. Для этого сознания положительное, т. е. это единство, и отрицательное, т. е. эта противоположность, остаются раздельными.
Главным тезисом выдвигавшихся Евбулидом суждений был тот, что так как истина проста, то следует требовать, чтобы на вопрос давался простой ответ, чтобы, следовательно, не давали ответа, имеющего силу лишь в отношении к некоторым обстоятельствам, как это делает Аристотель (De sophist. elench., с. 24); это требование действительно является в общем требованием рассудка. Запутывание состояло, следовательно, в том, что требовали простого «да» или «нет», а так как собеседник не решается сказать ни «да» ни «нет», то он чувствует себя смущенным, ибо ведь неуменье отвечать на вопрос показывает недостаток ума. Евбулид, следовательно, принимает как принцип, что истинное просто. У нас этот принцип выступает в следующей форме: из двух противоречивых суждений одно – истинно, другое – ложно; суждение либо истинно, либо неистинно; предмет не может обладать двумя противоположными предикатами. Это – основоположение рассудка, principium exclusi tertii, играющий большую роль во всех науках. Этот принцип находится в связи с сократовским и платоновским принципом, гласившим: «истинное есть всеобщее»; взятый абстрактно этот принцип и представляет собою рассудочное тожество, согласно которому истинное не должно противоречить себе. У Стильпона это выступает еще более явно. Мегарики, следовательно, твердо придерживаться этого основоположения нашей рассудочной логики, требуя формы тожества для истины. Они при этом не держась всеобщего, а выискивали в обычном представлении примеров, которыми они ставили в затруднение своих собеседников, и приводили эти примеры в некоторого рода системы. Мы приведем здесь некоторые сохранившиеся для нас примеры; одни из них важны, а другие малозначительны.
?. Одно опровержение носит название лжеца (??????????); этом опровержении ставится вопрос: «если какой-нибудь человек говорит, что он лжет, то лжет ли он, или говорит правду?»[149 - Diog. Laёrt., II, 108; Cicer., Acad. Quaest., IV, 29; De divinat., II, 4.] Требуется простой ответ, ибо простое, которым исключается другое, считается истинным. Если ответят: он говорит правду, то это противоречит содержанию его речи, ибо он ведь сознается, что он лжет. Если же будут утверждать, что он лжет, то на это утверждение нужно возразить, что его признание является, наоборот, правдой. Он, следовательно, лжет и вместе с тем и не лжет, простого же ответа на заданный вопрос никак нельзя дать, ибо здесь положено соединение двух противоположностей – истины и лжи, – и их непосредственное противоречие; это и выступало снова и снова в различных формах и занимало умы людей во все эпохи. Хризипп, знаменитый стоик, написал об этом вопросе шесть книг[150 - Diog. Laёrt., VII, 196.]. Другой – Филет Косский – умер от чахотки, которую от нажил благодаря чрезмерным трудам, положенным им на разрешение этой двусмысленности[151 - Athenaeus, IX, p. 401 (ed. Casaubon. 1597); Suidas, s. v. ??????? t. III, p. 600; Menag. ad Diog. Laёrt., II, 108.]. Нечто совершенно похожее мы видим в наши дни у людей, истощающихся в усилиях найти квадратуру круга, вопрос, который почти стал бессмертным. Они ищут простого отношения между тем, что несоизмеримо друг с другом, т. е. они также впадают в ошибку требовать простого ответа, тогда как содержание, с которым они имеют дело, противоречиво. Историйка Евбулида также переходила от поколения к поколению и воспроизводилась многократно. Так, например, в Дон-Кихоте встречается такой же рассказ. Санчо-Пансе, правителю острова Бартарии, преподносятся во время отправления им правосудия много хитроумных казусов. Среди других казусов встречаем также и следующий. На островке, которым он правит, находится мост, который построил на свои средства богатый человек для пользы путешественников, но возле моста он поставил виселицу. Каждому дозволялось переходить через мост с тем условием, что он правдиво ответит на вопрос, куда он идет; если же он солжет, он будет качаться на виселице. И вот подошел один к мосту и на вопрос, куда он идет, заявил, что он пришел сюда, чтобы быть повешенным на этой виселице. Мостовые стражи были очень затруднены этим ответом. Ибо если они его повесят, тогда выйдет, что он сказал правду и ему нужно было дать перейти через мост; если же они ему дадут пройти через мост, то окажется, что он сказал неправду. Для разрешения этого затруднения они обращаются к мудрости правителя, который мудро постановляет, что в сомнительных случаях надо избирать более мягкую меру и поэтому ему следует дать пройти через мост. Санчо-Пансо не ломал себе голову над этим вопросом. То, что должно быть следствием высказывания, делается здесь его содержанием для того, чтобы следствием явилось нечто противоположное содержанию: повешение, как истинное высказывание, должно иметь своим следствием неповешение; неповешение, как совершившийся факт, должно, наоборот, иметь своим следствием повешение. Так, например, высшим наказанием, как следствием преступления, является смерть; при самоубийстве смерть преступника оказывается содержанием преступления и здесь, следовательно, смерть не может быть наказанием.
Я сейчас приведу еще такой пример вместе с ответом. Менедему задали вопрос, перестал ли он бить своего отца. Его хотели этим вопросом поставить в затруднительное положение, потому что простой ответ «да» или «нет» одинаково для него неудобен, ибо если он ответит: да, то, значит, он раньше его бил; а если он ответит: нет, то, значит, он еще продолжает его бить; Менедем поэтому ответил: я не перестал его бить и никогда к тому же его не бил; противник остался неудовлетворенным таким ответом[152 - Diog. Laёrt., II, 135.]. Этим ответом, являющимся двусторонним, упраздняющим как одну альтернативу, так и другую, вопрос на самом деле разрешен, точно так же, как и вышеуказанный вопрос (говорит ли правду тот, кто сознается, что лжет?) решается следующим ответом: «он одновременно и говорит правду и лжет, и истиной является это противоречие». Но противоречие не является истинным и не может иметь места в представлении; поэтому его устраняет своим приговором также и Санчо-Панса. Когда появляется сознание противоположностей, представление не дает их противоречию соединиться; но на самом деле это противоречие встречается в чувственных вещах, как, например, в пространстве, времени и т. д., и тогда остается показать его наличие в них. Эти софизмы, следовательно, не представляют собою видимости противоречия, а здесь имеется действительное противоречие: этот выбор между двумя противоположностями, который нам предлагают сделать в данном примере, сам является противоречием.
?. «Скрытый» (???????????) и «Электра»[153 - Diog. Laёrt., II, 108; Brucker, Hist. crit. phil., t. I, p. 613.] сводятся к противоречию, состоявшему в том, что мы одновременно знаем и не знаем данное лицо. Я спрашиваю у собеседника: «ты знаешь своего отца?»; он отвечает: «да». Я спрашиваю дальше: «вот я тебе покажу кого-то, скрытого за занавесом, ты знаешь его?» – «Нет». – «Но это твой отец, значит, ты не знаешь также своего отца». Таково же содержание и «Электры». Задают относительно нее вопрос, «знала ли она стоявшего перед нею брата Ореста, или нет?» Эти обороты кажутся плоскими; однако интересно рассмотреть их ближе. ??) Знать означает, с одной стороны, обладать кем-нибудь, как этим, а не обладать им неопределенно, вообще. Сын знает, следовательно, отца, когда он его видит, т. е. если он для него есть «этот»; когда же отец скрыт, он не «этот» для сына, а упраздненный «этот». Скрытый, как некий «этот» в представлении, становится всеобщим и теряет свое чувственное бытие, но именно поэтому он на самом деле уж не подлинный «этот». Противоречие, заключающееся в том, что сын в одно и то же время знает и не знает своего отца, разрешается, следовательно, посредством следующего более строгого определения: сын знает отца как чувственного «этого», но не «этого» вообще в представлении. ??) Электра, наоборот, не знает Ореста как чувственного «этого», но в своем представлении она его знает. «Этот» представления и «этот», находящийся здесь, для нее не одно и то же. Таким образом, в этих анекдотах сразу выступает более высокая противоположность между всеобщим и «этим», поскольку обладать в представлении вообще означает обладать в элементе всеобщего; упраздненный «этот» не есть только представление, а имеет свою истину во всеобщем. Но всеобщее именно и является единством противоположностей; таким образом, в этой форме философии чувственное бытие «этого» отрицается именно в истинной сущности. Как мы вскоре увидим, в особенности Стильпон сознавал и указал это различие.
?. Другие такого рода остроты имеют больше значения, например, аргументации, носящие названия: «накопляющий» (????????) и «плешивый» (????????)[154 - Diog. Laёrt., II, 108; Cicer., Acad. Quaest., IV, 29; Bruсker, Hist. crit. philos., t. I, p. 614, not. S.]. Обе имеют своим предметом дурные бесконечное и количественное движение, которое не может прийти к качественной противоположности и все же оказывается в конце концов у качественно-абсолютной противоположности. «Плешивый» представляет собою проблему, обратную «накопляющему». Задается вопрос: «составляет ли одно зернышко кучу, или делает ли человека плешивым исчезновение одного волоса?» – «Нет». – «А еще одно зерно?» – «Также нет». Этот вопрос все снова и снова повторяется, снова и снова прибавляется одно зернышко или вырывается один волос. Когда, наконец, говорят, что теперь имеется куча или плешь, то выходит что последнее прибавленное зернышко или последний вырванный волос составляет кучу или плешь, т. е. именно то, что сначала отрицалось. Но как может одно зерно образовать кучу, состоящую ведь из столь многих зерен? Суждение гласит, что одно зерно не составляет кучи, противоречие состоит в том, что полагание одного или отнимание одного переходит также в противоположное, во многие. Ибо повторять одно и есть именно полагать множественное; повторение приводит к тому, что много зерен соединяются вместе. Одно, следовательно, превращается в свою противоположность, в кучу, отнятое одно превращается в плешивость. Одно и куча противоположны друг другу, но они также едины, или, иными словами, количественное движение вперед как будто ничего не изменяет, а лишь увеличивает и уменьшает; однако оно переходит, наконец, в противоположное. Мы всегда отделяем друг от друга качество и количество и принимаем, что во множественном имеется лишь количественное различие; но это равнодушное различие по количеству или величине здесь, наконец, превращается в качественное различие, точно так же как бесконечно-малая и бесконечно-большая величина больше уже не является величиной. Это определение перехода имеет громаднейшее значение, хотя оно не предлежит непосредственно нашему сознанию. Говорят, например: истратить один грош, один талер не имеет никакого значения; но это «не имеет никакого значения» делает кошелек пустым, и это составляет очень важное качественное различие. Или если мы будем все больше и больше нагревать воду, то она при 80° Реомюра переходит внезапно в пар. Этого диалектического перехода друг в друга количества и качества не признает наш рассудок. Он стоит на том, что качественное не есть количественное, а количественное не есть качественное. Но в вышеприведенных примерах, выглядящих как шутки, заключается, таким образом, основательное рассмотрение важных определений мысли.
Все обороты, приводимые Аристотелем в его «Опровержениях», вскрывают весьма формальное противоречие, встречающееся в речи именно потому, что в ней единичное включено в всеобщее. «Кто это?» «Это Кориск». «Разве Кориск не мужского рода?» – «Да». – «Это – среднего рода. Следовательно, ты делаешь Кориска средним родом»[155 - Aristoteles, De sophist. elench., с. 14; Buhle ad h. l. argumentum, p. 512.]. Или Аристотель («De sophist. elench.», с. 24) приводит также следующий аргумент: «у тебя собака – отец (??? ? ???? ?????); ты, следовательно, сам собака». Этот аргумент Платон влагает в уста софиста; это острота подмастерья, такого рода острота, какую мы находим в «Эйленшпигеле». Аристотель при этом честно старается устранить путаницу; он говорит – «твой» и «отец» связаны друг с другом лишь акциденциально (???? ?? ??????????), а не субстанциально (???? ??? ??????). В изобретении такого рода острот греки тогдашнего и позднейшего времени были прямо неистощимы. Скептики, как мы позднее увидим, развивали дальше диалектическую сторону и подняли ее на более высокую ступень.
c. Стильпон
Одним из знаменитейших эристиков был Стильпон, мегарец родом. Диоген рассказывает, что «он был страшным спорщиком и в такой мере превосходил всех остроумием своего слова, что вся Греция, взирая на него, находилась в опасности (?????? ??????); казалось, что она тоже начнет мегаризировать». Он жил в царствование Александра Великого и после его смерти (первый год 114-й олимпиады, 324 г. до Р.Х.), когда генералы Александра начали воевать друг с другом. Птолемей Сотер и Деметрий Полиоркет, сын Антигона, покорив Мегару, оказали ему большие почести. В Афинах, как рассказывают, все выбежали из мастерских, чтобы посмотреть на него, и, когда ему кто-то сказал, что все смотрят на него с удивлением, как на невиданного зверя, он ответил: «нет, как на настоящего человека»[156 - Diog. Laёrt., II, 113, 115, 119.]. У Стильпона бросается в глаза то, что он понимает всеобщее в смысле формального, абстрактного рассудочного тожества. Главной же целью, которую он преследует в своих примерах, является всегда отстаивание формы всеобщности против особенного.
?. Диоген (II, 119) приводит относительно противоположности между «этим» и всеобщим прежде всего следующий его пример: «Кто говорит: «существует человек» (???????? ?????), тот говорит: «никого нет», потому что он не говорит о том или об этом человеке, ибо почему он будет говорить скорее об этом, а не о том. Следовательно, он не говорит также и об этом». Что «человек» есть всеобщее и что когда говорят «человек», не разумеют определенно: «этот человек», это легко признает каждый; но в нашем представлении «этот», определенный человек, все же остается еще наряду со всеобщим. Стильпон же говорит, что «этого», определенного человека, совершенно не существует, и не может быть предметом высказывания, что существует лишь всеобщее. Диоген Лаэрций понимает это, правда, так, как будто «Стильпон упраздняет роды (?????? ??? ?? ????)», и Теннеман (т. II, стр. 158) согласен с ним. На самом же деле, из того, что о нем сообщается, можно вывести как раз обратное, а именно, что он утверждает бытие всеобщего и упраздняет единичное. Это сохранение формы всеобщности выражается дальше в многочисленных анекдотах из частной жизни Стильпона; так, например, он говорит: «капуста не есть то, что здесь показывают (?? ??????? ??? ???? ?? ???????????), ибо капуста была уже много тысяч лет тому назад; следовательно, это (то, что показывают) не есть капуста», т. е. лишь всеобщее существует, а этой капусты не существует. Когда я говорю: «эта капуста», то я говорю нечто совершенно другое, чем то, что я думаю, ибо я говорю: «все другие капусты». О нем сообщают также следующий анекдот. «Он вел беседу с циником Кратесом и прервал разговор, чтобы купить рыбу. Кратес сказал: как! ты оставляешь разговор?» (Он хотел этим вопросом осмеять его, как часто осмеивают в повседневной жизни или считают неумелым человеком того, кто не знает, чт? отвечать: ведь разговор считался таким важным делом, что признавали лучшим хоть что-нибудь отвечать, чем ничего не отвечать, признавали, стало быть, лучшим ничего не оставлять без ответа). «Стильпон ответил: отнюдь нет, речью я владею, а оставляю тебя, ибо речь остается, а рыбу распродадут». То, о чем говорится в этих простых примерах, кажется тривиальным, потому что дело идет о тривиальных вещах, но, высказанное в других формах, оно представляется достаточно важным для того, чтобы сделать о нем несколько дальнейших замечаний.
Что при философствовании именно всеобщее получает значимость и даже настолько, что лишь всеобщее может быть высказано, а разумеемое «это» даже совсем и не может быть высказано, – это такое сознание, мысль, до которых еще не дошло философское образование нашего времени. Со здравым человеческим смыслом или со скептицизмом новейшего времени, или вообще с философией, утверждающими, что чувственная достоверность (то, что каждый видит, слышит и т. д.) имеет в себе истину или что существование вне нас чувственных вещей представляет собою истину, – с утверждающими это и не стоит, собственно, заводить споры, не стоит опровергать их доводами. Ибо достаточно только понимать их непосредственное утверждение, будто непосредственное является истинным, соответственно тому, что они высказывают; они именно всегда высказывают нечто другое, чем то, что они разумеют. Поразительнее всего то, что они и не могут высказать то, чт? они разумеют, ибо если они говорят: чувственное, то это – всеобщее, всякое чувственное, отрицание «этого», или, иными словами, «этот» есть все «эти». Мышление содержит в себе лишь всеобщее, «этот» есть лишь разумеемое. Если я говорю «этот», то я высказываю наиболее всеобщее. Я говорю например: «здесь есть то, чт? я показываю», «теперь я говорю», но «здесь» и «теперь» является «все здесь» и все «теперь». Точно так же, когда я говорю: «я», то я разумею себя, это единичное, отличающееся от всех других лицо; но именно в таком смысле я представляю собою некое разумеемое, я совсем не могу высказывать разумеемого мною себя. «Я» есть абсолютное выражение, исключающее все другие «я», но все говорят о себе «я», ибо каждый есть «я». Если мы спрашиваем: кто здесь? то ответ: «я» означает все «я». Единичное, таким образом, есть лишь всеобщее, так как в слове, представляющем собою нечто рожденное из духа, единичное, хотя бы оно и имелось в виду, совсем не может найти себе места, но по существу в слове выражается лишь всеобщее. Если я хочу себя отличить от других возрастом, местом своего рождения, тем, что я сделал, местом, где я в это время был или нахожусь теперь, и этим хочу определить себя как данное единичное лицо, то выходит все, то же самое. «Мне теперь столько-то лет», но именно это «теперь», которое я высказываю, есть все «теперь». Если я определяю это «теперь», начиная с известного периода, например со времени рождения Христа, то эта эпоха, в свою очередь, определяется только этим «теперь», которое все снова и снова передвигается. Теперь мне тридцать пять лет и теперь 1805 лет после рождения Христова. Эти два пункта времени определяются лишь друг через друга, но целое остается неопределенным. То, что теперь прошло 1805 лет после рождества Христова, есть истина, которая скоро потеряет свое содержание, и определенность этого «теперь» имеет и бесконечное, не имеющее начала определение «до» и не имеющее конца определение «после». Точно так же относительно «здесь»: каждый «этот» является тем, который находится здесь, ибо каждый находится в некоем «здесь»; в языке в этом случае проявляется природа всеобщности. Мы выходим из затруднения посредством собственного имени, которым мы вполне определяем нечто единичное, но мы соглашаемся с тем, что именами мы не высказываем самой сути. Имя, как имя, не есть выражение, содержащее в себе то, чт? я представляю собою; оно есть некий знак, а именно случайный знак деятельной памяти.
?. Так как Стильпон провозгласил всеобщее чем-то самостоятельным, то он стал все разлагать. Симплиций говорит (in Phys. Aristot., p. 26): «Так как так называемые мегарики принимали в качестве бесспорных предпосылок, что то, определения чего различны, само также различно (?? ?? ????? ??????, ????? ????? ?????) и что различные отделены друг от друга (?? ????? ?????????? ???????), то они, по-видимому, доказывали, что каждая вещь отделена от самой себя (???? ????? ???????????? ???????). Следовательно, так как занимающийся мусическим искусством Сократ представляет собою другое определение (?????), чем белый Сократ, то Сократ отделен от самого себя», т. е. так как свойства вещей являются определениями, то каждое из них фиксировано как нечто самостоятельное, и вещь, таким образом, является агрегатом многих самостоятельных всеобщностей. Именно это утверждал Стильпон. Так как согласно ему всеобщие определения в их раздельности одни только и являются истинно реальными, а индивидуум представляет собою нераздельное единство различных идей, то ничто индивидуальное согласно ему не истинно.
?. Весьма замечательно, что Стильпон дошел до осознания этой формы тожества, и он, таким образом, находил, что можно высказывать лишь тожественные положения. Плутарх сообщает следующее его утверждение: «Нельзя приписывать предмету отличный от него предикат (?????? ?????? ?? ?????????????). Нельзя, следовательно, сказать «человек добр», или «человек есть полководец», а только: человек есть человек, добрый есть добрый, полководец есть полководец. Нельзя также сказать «десять тысяч всадников», а можно только сказать: «всадники суть всадники», «десять тысяч суть десять тысяч» и т. д. Если мы высказываем о лошади предикат «бег», то, говорит он, предикат не тожествен с предметом, которому он приписывается; определение понятия (??? ?? ?? ????? ??? ?????) «человек» есть нечто одно, а определение «хороший» есть нечто другое. Ибо если у нас спрашивают о понятии каждого из них, то мы не указываем одно и то же понятие для обоих, поэтому заблуждаются те, которые высказывают различное о различном, ибо если бы «человек» и «хороший» были бы одним и тем же или «лошадь» и «бегание» были одним и тем же, то как могли бы мы сказать о хлебе и о лекарстве, что они хорошие, о льве и о собаке – что они бегают»[157 - Plutarch., advers. Coloten, с. 22–23, p. 1119–1120, ed Xyl. (p. 174–176, vol. XIV, ed. Hutten).]. Плутарх замечает при этом, что Колот напыщенно нападал (????????? ??????) за это на Стильпона, упрекая его, что он этим уничтожает практическую жизнь (??? ???? ???????????). «Но какой человек, – говорит Плутарх, – из-за этого хуже жил? Какой человек, слышащий эту речь, не понимает, что она является остроумной шуткой? (????????? ????? ????????)».
2. Киренская школа
Киренаики получили свое название по родоначальнику и главе школы Аристиппу, который был родом из африканского города Кирены. Как Сократ стремился усовершенствоваться в качестве индивидуума, так и у его учеников, а именно у киренаиков и циников, главной целью были индивидуальная и практическая философия. Если киренаики не остановились на общем определении добра, а полагали, что оно скорее состоит в удовольствии отдельного лица, то циники, видимо, держались совершенно противоположного взгляда, так как определенное удовлетворение желаний они выражают как естественную потребность, причем это соединялось у них с отрицательным отношением к тому, что другие делают. Но как киренаики, так и циники этим удовлетворяли свою особенную субъективность, и обе школы ставят себе поэтому в общем одну и ту же цель – свободу и самостоятельность индивидуума. Так как удовольствие, которое киренаики провозгласили высшим назначением человека, мы привыкли рассматривать как бессодержательное, потому что мы можем получать удовольствие тысячью способами и оно может быть результатом самых различных вещей, то нам сначала этот принцип кажется тривиальным, и он в общем действительно таков; мы потому и в самом деле привыкли говорить, что есть нечто высшее, чем удовольствие. Философское развитие этого принципа, которое, впрочем, не далеко пошло, приписывается больше преемнику Аристиппа, Аристиппу младшему; из позднейших же киренаиков определенно упоминаются имена Феодора, Гегезия и Анникериса, как тех киренаиков, которые развили дальше выдвинутый Аристиппом принцип; после них он вырождается и переходит в эпикуреизм. Но рассмотрение дальнейшего развития принципа киренаиков интересно в особенности потому, что это развитие, благодаря необходимой внутренней последовательности, заставило выйти за пределы этого принципа и, в сущности говоря, совершенно упразднило его. Ощущение есть неопределенное единичное. Но если в этом принципе выдвигается мышление, рассудительность, умственная культура, то благодаря принципу всеобщности мышления исчезает этот принцип случайности, единичности, голой субъективности, и поэтому то обстоятельство, что эта б?льшая последовательность всеобщего является непоследовательностью в отношении этого принципа, и представляет собою единственное достопримечательное в этой школе.
a. Аристипп
Аристипп в продолжение долгого времени общался с Сократом и учился у него, или вернее, он был уже сложившимся, в высшей степени образованным человеком до того, как он стал посещать Сократа. Он услышал о Сократе либо в Кирене, либо на олимпийских играх, которые посещались и киренцами, так как они тоже были греки. Его отец был купцом, и он во время одного путешествия с торговой целью приехал в Афины. Из всех сократиков он был первым, требовавшим платы от тех, которых он обучал. Он сам также послал Сократу деньги, но последний отослал их ему обратно[158 - Diog. Laёrt., II, 65; Tennemann, Bd. II, S. 103; Brucker, Hist. cr. phil., t. I, p. 584 sqq.]. Общими словами о добром и прекрасном на которых остановился Сократ, он не удовлетворился, а принимал рефлектированную в сознание сущность в ее высшей определенности, брал ее как единичность. Так как всеобщей сущностью, как мышлением, было для него со стороны реальности единичное сознание, то он признал наслаждение единственной вещью, о которой разумный человек должен заботиться. У Аристиппа главным образом имеет значение его личность, и то, что до нас дошло о нем, касается больше его образа жизни, чем его философских учений. Он искал удовольствий, как культурный ум, который именно благодаря этому возвысился до полного безразличия ко всему особенному, к страстям, ко всякого рода узам. Когда мы слышим, что такие-то философы делают принципом удовольствие, то у нас сразу возникает представление, что наслаждение удовольствиями делает человека зависимым, и удовольствие, следовательно, антагонистично принципу свободы. Но мы должны знать, что таковым не было ни киренское, ни эпикурейское учение, которое, в общем, выдвигало тот же самый принцип. Ибо, можно сказать, что само по себе определение удовольствия есть противный философии принцип; но так как у киренаиков получается такой оборот, что культура мысли делается единственным условием, при котором можно получать удовольствие, то сохраняется полнейшая свобода духа, ибо она неотделима от культуры мысли. Довольно сказать, что Аристипп в высшей степени ценил умственную культуру и исходил из предпосылки, что удовольствие является принципом лишь для философски образованного человека; главный его принцип состоял, следовательно, в том, что то, что мы чувствуем как приятное, знаемо нами не непосредственно, а лишь посредством размышления.
Аристипп жил согласно этим принципам, и самое интересное представляют собой многочисленные анекдоты, сообщаемые о нем, ибо они показывают черты остроумного и свободного образа мысли. Так как он в своей жизни стремился к тому, чтобы искать удовольствия не без помощи рассудка (и вследствие этого он на свой манер являлся философом), то он искал этого удовольствия отчасти с той рассудительностью, которая не пользуется мгновенным удовольствием, имея в виду, что из него возникает большое зло, отчасти же пользуется им без той тревоги (как будто философия нужна только для того, чтобы не быть тревожным), которой всюду предносятся страхи пред возможными бедами и дурными последствиями, – и вообще пользовался удовольствиями, не впадая в зависимость от вещей и не прилепляясь к тому, природа чего в себе изменчива. Он наслаждался, говорит Диоген, удовольствиями настоящего момента, не заботясь о тех удовольствиях, которых не было в данный момент. Он был на месте в каждом положении, мог ориентироваться во всех обстоятельствах, оставался одним и тем же как при дворах царей, так и в самом бедственном состоянии. Платон, как сообщают, сказал ему однажды: тебе одному дано уметь носить как пурпурные одежды, так и отрепья. Чаще всего он жил при дворе Дионисия, был очень любим, паразитировал там, но делал это всегда с большой независимостью. Циник Диоген называл его поэтому царской собакой. Когда он потребовал пятьдесят драхм у человека, который ему хотел отдать сына в обучение, а тот нашел сумму слишком высокой и сказал: ведь за такие деньги можно приобрести раба, – Аристипп ему ответил: сделай так, и у тебя будут два раба. Когда Сократ спросил у него: откуда ты имеешь столько денег? – он ответил: откуда ты имеешь так мало денег? Когда одна гетера ему сказала, что она родила от него ребенка, – он сказал: ты так же мало знаешь, мой ли это ребенок, как мало ты можешь сказать, гуляя по поляне, покрытой колючим терновником, какой из них тебя уколол. Доказательством его полнейшего равнодушия служит следующий анекдот. Дионисий однажды плюнул на него, и он это перенес терпеливо; когда же его стали за это порицать, он сказал: рыбаки допускают, чтобы море их омочило, лишь бы изловить крупную рыбу, почему же я не должен этого перенести, чтобы изловить такого огромного кита? Когда однажды Дионисий предложил ему выбрать себе одну из трех гетер, он взял с собою всех трех, говоря, что и Парис пострадал за то, что отдал предпочтение одной, но, доведя их до двора своего дома, он отпустил всех трех. Обладанию деньгами он также не придавал значения; если ему казалось, что трата их может доставить какое-нибудь удовольствие, он был способен истратить их на лакомства. Он купил однажды куропатку за пятьдесят драхм (приблизительно двадцать флоринов); когда его кто-то стал порицать за это, он задал последнему вопрос: купил ли бы ты ее за обол? И когда тот ответил утвердительно, Аристипп сказал: а я придаю пятидесяти драхмам не больше значения, чем оболу. Однажды, во время его путешествия по Африке, его рабу стало трудно таскать на себе большую сумму денег; увидев это, Аристипп сказал: выбрось лишнее и неси сколько можешь. На вопрос, какова ценность образования и чем отличается образованный человек от необразованного, он ответил: они отличаются так, что «один камень не укладывается на другой», т. е. различие между ними так велико, как между человеком и камнем. Это не совсем неправильно, ибо лишь посредством образования человек таков, каковым он должен быть в качестве человека; оно является его второй природой, единственно лишь посредством которой он овладевает тем, чем он обладает от природы, и лишь таким образом он есть дух. Мы, однако, не должны при этом иметь в виду необразованных людей нашего времени, ибо у нас последние, благодаря всем условиям жизни, нравам, религии, причастны к источнику образования, и эта причастность ставит их выше тех, которые не живут в таких условиях. Тех, которые занимаются другими науками, но пренебрегают философией, Аристипп сравнивал с женихами Пенелопы в «Одиссее», которые получили возможность обладать Меланто и другими прислужницами, но не получили царицы[159 - Diog. Laёrt., II, 66–67, 72, 77 (Horat., Serm., II, 3, v. 101), 79–81.].
Учение Аристиппа и его преемников в высшей степени просто, так как он понимал отношение сознания к сущности в его самой поверхностной, первой форме и провозгласил сущностью бытие, каким оно непосредственно является сознанию, т. е. провозгласил сущностью именно ощущение. Мы теперь различаем между истинным, значимым, в себе сущим и практическим, добром, тем, чт? должно быть целью. Но в отношении обеих истин, как теоретической, так и практической, киренаики делают ощущение определяющим. Тем самым их принцип представляет собою, точнее говоря, не само объективное, а отношение сознания к предметному: истинным является не то, чт? имеется в ощущении как его содержание, но само оно как ощущение; оно не объективно, а предметное состоит лишь в нем. «Киренаики, следовательно, говорят: ощущения представляют собою критерий, единственно лишь они могут быть познаны и они не обманчивы, а то, чт? вызывает ощущение, не является ни доступным ощущению, ни необманчивым. Стало быть, когда мы ощущаем некое белое и сладкое, то мы можем это наше состояние утверждать с полной достоверностью. Но мы не можем утверждать с достоверностью, что сами причины этих ощущений являются белым и сладким предметом. С этим согласуется также и то, что киренаики говорили о целях, ибо также на цель простираются ощущения. Ощущения либо приятны, либо неприятны. Неприятные ощущения они называют злом, цель которых – страдания; приятные ощущения они называют благом, несомненная цель которых удовольствие. Таким образом, ощущения суть критерии в области познания, а цели – критерии в области поступков. Следуя им, мы живем, считаясь со свидетельством (????????) и удовлетворением (?????????). С первым мы считаемся со стороны теоретических воззрений (???? ?? ???? ????), а с последними – со стороны приятного»[160 - Sext. Empir., adv. Math., VII, 191, 199–200.]. Рассматриваемое как цель, ощущение уже больше не есть безразличное многообразие разных чувственных воздействий (?? ???? ????), а противополагание в области понятия, как положительное или отрицательное отношение к предмету нашей деятельности, а это отношение именно и есть приятное или неприятное.
Этим мы вступаем в сферу, в которой интересуются главным образом двумя определениями, о которых всегда только и идет речь во всех образующихся сократических школах, за исключением Платона и Аристотеля. Больше всего занимаются ими циники, новоакадемики и т. д. Одним пунктом именно является само определение вообще – критерий; вторым пунктом служит вопрос о том, что является этим определением для субъекта. И таким образом, пред нами выступает представление о мудреце: чт? делает мудрец? кто является мудрецом? и т. д. Почему теперь так часто выступают эти два выражения, это объясняется предыдущим. С одной стороны, теперь стремятся отыскать содержание блага, ибо если не знать этого содержания, можно наполнять болтовней о нем целые годы. Этим более точным определением блага является критерий. С другой стороны, теперь выступает интерес к субъекту, и это является следствием вызванного Сократом переворота в греческом духе. Когда пользуются признанием религия, государственное устройство, законы народа, когда индивидуумы, являющиеся членами народа, находятся в единстве с последними, тогда не задают вопроса, чт? должен индивидуум делать для себя. При состоянии народа, в котором руководятся нравами, религией, индивидуум находит назначение человека предначертанным в наличном, и эти нравы, религия и законы наличны также в нем. Напротив, если индивидуум больше уже не пребывает в нравах своего народа, больше уже не находит своего субстанциального в религии, в законах и т. д. своей страны, то он уже больше не находит того, чт? он хочет, и перестает удовлетворяться своим настоящим. Но раз эта раздвоенность возникла, индивидуум должен углубиться в себя и там искать своего назначения. Это и есть причина возникновения вопроса: чт? существенно для индивидуума, к чему он должен готовиться, к чему стремиться? Таким образом, устанавливается идеал для индивидуума, и этим идеалом служит здесь мудрец; то, что обыкновенно называют идеалом мудреца, есть единичность самосознания, понимаемая как всеобщая сущность. Это – та же точка зрения, которая выступает у нас теперь в вопросах: что могу я знать? Во что я должен верить? На что я могу надеяться? Что является высшим интересом субъекта? Здесь не задаются вопросом: что такое истина, право, всеобщая цель мира? Вместо того, чтобы спрашивать о науке, имеющей своим предметом само в себе объективное, спрашивают, что есть истина и справедливость, поскольку они являются усмотрением и убеждением индивидуума, его целью и формой его существования? Это краснобайство о мудреце есть общее явление у стоиков, эпикурейцев и т. д., но оно в самом деле лишено смысла, ибо должна идти речь не о мудром человеке, а о вселенской мудрости, о реальном разуме. Третьим определением в этих школах является следующее утверждение. Всеобщим является благо; реальной стороной является удовольствие, счастье, как единичное существование и непосредственная действительность. Как же согласуются друг с другом эти два утверждения? Выступающие теперь и являющиеся их преемниками философские школы устанавливают связь между этими двумя определениями, которые, взятые в высшем смысле, суть бытие и мышление.
b. Феодор
Из позднейших киренаиков мы должны еще сказать о Феодоре, приобретшем себе известность тем, что отрицал существование богов и за это был изгнан из Афин. Но такой факт нисколько для нас не интересен и не может иметь никакого спекулятивного значения, ибо те положительные боги, существование которых Феодор отрицал, сами не представляют собою предмета спекулятивного разума. Он отличался также еще и тем, что он в большей мере, чем Аристипп, вносил всеобщее в представление о том, чт? являлось для сознания этой школы сущностью, так как «он учил, что радость и печаль являются конечной целью, признавая, однако, что первая порождается рассудком, а вторая – неразумием. Благо он определял как рассудительность и справедливость, а зло – как-то, что противоположно им; удовольствие же и страдание он признавал безразличным»[161 - Diog. Laёrt., II, 97–98 (101–102).]. Когда доходят до сознания, что отдельное чувственное ощущение, как оно дано непосредственно, не должно рассматриваться как сущность, тогда говорят, что им нужно наслаждаться рассудительно, т. е. признают, что ощущение, каково оно есть, не представляет собою сущности. Вообще чувственное как ощущение, возьмем ли мы его с теоретической или практической стороны, представляет собою именно нечто совершенно неопределенное, то или другое единичное. Поэтому делается необходимой критическая оценка этого единичного, т. е. оно должно рассматриваться в форме всеобщности, и тем самым последняя появляется снова. Но этот выход за пределы единичности есть образование, которое именно стремится посредством ограничения отдельных ощущений и удовольствий привести их в гармонию, хотя ближайшим образом оно лишь делает выкладки, чт? доставит большее удовольствие. На вопрос же, какое из многочисленных удовольствий, которыми я в качестве многостороннего существа могу наслаждаться, является тем удовольствием, которое находится в величайшей гармонии со мною, в котором я, следовательно, нахожу величайшее удовлетворение, нужно ответить следующим образом: моя величайшая гармония с собою заключается лишь в согласии моего особенного существования и сознания с моим существенным субстанциальным бытием. Феодор это понимал как рассудительность и справедливость, посредством которых мы познаем, в чем нам следует искать удовольствия. Но если говорят, что счастье следует искать обдуманно, то мы должны сказать, что это – пустые слова, бессмысленная речь, ибо ощущение, в котором заключается счастье, есть, согласно своему понятию, единичное, изменяющееся, лишенное всеобщности и прочности. Всеобщее, рассудительность привешивается, следовательно, как пустая форма к совершенно несоответственному ему содержанию, и, таким образом, Феодор различал между тем, чт? является благом по своей форме, и целью, представляющей собою благо по своей природе и по своему содержанию.
c. Гегезий