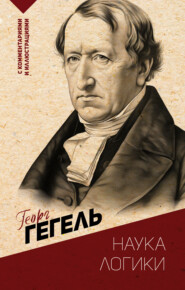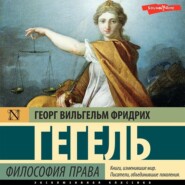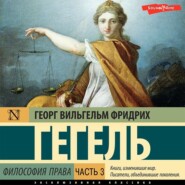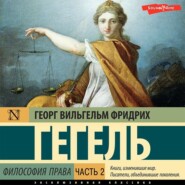По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лекции по истории философии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
До этого пункта дошло сознание в Греции к тому времени, когда выступила в Афинах великая фигура Сократа, в лице которого субъективность мышления была осознана более определенным, более глубоко проникающим образом. Но Сократ не вырос, как гриб из земли, а находился в определенной преемственности со своей эпохой, и он, таким образом, представляет собою не только в высшей степени важную фигуру в истории философии и, может быть, самую интересную в древней философии, а также и всемирно-историческую личность. Ибо главный поворотный пункт духа, обращение его к самому себе, воплотился в нем в форме философской мысли. Вспомним вкратце пройденный до сих пор путь. Древние ионийцы, правда, мыслили, но не размышляли о мышлении или, иными словами, не определяли своего продукта как мышление. Атомисты превратили предметную сущность в мысли, но последние оставались у них лишь абстракциями, чистыми сущностями. Анаксагор же возвел первоначально мысль как таковую, которая, таким образом, выступила у него как всемогущее понятие, как отрицательная власть над всем определенным и существующим. Наконец Протагор выражает мысль как сущность, но выражает мысль именно ее движении, которое представляет собою всеразлагающее сознание, беспокойство понятия. Это беспокойство есть, однако, в самом себе в такой же мере и некое покоящееся и незыблемое. Незыблемое же движения, как такового, есть «я», так как оно обладает вне себя моментами движения; как самосохраняющееся, лишь упраздняющее другое, «я» есть отрицательное единство, но именно вследствие этого «я» есть единичное и еще не есть рефлектированное в себя всеобщее. Двусмысленность диалектики и софистики состоит в том, что когда объективное исчезает, то прочное субъективное может быть понято либо в смысле единичного, противоположного объективному и, следовательно, в смысле случайного, беззаконного произвола, либо в смысле объективного и всеобщего в нем самом. И вот Сократ выражает сущность как всеобщее «я», как в самом себе покоящееся сознание, а это есть добро, как таковое, добро, свободное от существующей реальности, свободное от единичного чувственного сознания, чувствований и склонностей, свободное, наконец, от теоретизирующей мысли, от мысли, занимающейся спекуляциями о природе, которая, хотя она и есть мысль, все же имеет еще форму бытия, в котором «я», следовательно, недостоверно для себя как «я».
Сократ, таким образом, воспринял, во-первых, учение Анаксагора, согласно которому мышление, рассудок, есть правящее, само себя определяющее всеобщее; но это начало не получает у него, как это было у софистов, больше характера формального образования или абстрактного философствования. Поэтому если у Сократа, как и у Протагора, самосознательная, снимающая все определенное мысль есть сущность, то все же у Сократа это имеет место таким образом, что он теперь вместе с тем видит в мышлении покоящееся и прочное. Эту в себе и для себя существующую субстанцию, безусловно сохраняющую себя, он определил как цель и более точно – как истинное, как добро.
К этому определению всеобщего присоединяется, во-вторых, учение, что это добро, которое я должен признать субстанциальной целью, непременно должно быть познано мною; тем самым впервые появляется в лице Сократа бесконечная субъективность, свобода самосознания. Эта свобода, состоящая в том, что сознание непременно должно быть налично и находиться у самого себя во всем, что оно мыслит, выставляется в наше время бесконечное число раз в качестве обязательного требования: субстанциальное, хотя оно вечно и самостоятельно, должно быть все же произведено мною; но это мое участие представляет собою лишь формальную деятельность. Принцип Сократа состоит, следовательно, в том, что человек должен находить как цель своих поступков, так и конечную цель мира, исходя только из себя, и достигнуть истины своими собственными силами. Истинное мышление мыслит так, что его содержание вместе с тем не субъективно, а объективно. Но объективность понимается здесь в смысле в себе и для себя сущей всеобщности, а не в смысле определенной внешней объективности. Таким образом, истина теперь положена как продукт, опосредованный мышлением, между тем как наивная нравственность, как Софокл заставляет сказать Антигону (ст. 454–457), есть «вечный закон богов»:
Никто бы не сказал, откуда он пришел.
Если же нам приходится в новейшее время часто слышать разговоры о непосредственном знании и вере, то в этих разговорах кроется недоразумение, будто содержание этой непосредственной веры – бог, добро, право и т. д. – является только содержанием чувства и представления, а не положено в качестве духовного содержания также и мышлением. Животное не обладает религией, потому что оно только чувствует; духовное же основано на опосредствовании мышления и присуще человеку.
Так как для учения Сократа, таким образом, характерен бесконечно важный момент, заключающийся в том, что он сводит истину объективного к мышлению субъекта, сходясь в этом отношении с высказанным Протагором положением, что объективное существует лишь благодаря отношению к нам, то борьба Сократа и Платона с софистами не могла состоять в том, что первые, как староверы, защищали против последних греческую религию и старые нравы, за оскорбление которых уже Анаксагор был осужден. Напротив. Рефлексия и сведение долженствующего быть принятым нами решения к сознанию общи Сократу с софистами; антагонизм же по отношению к софистам, как к представителям философского образования своего времени, в который Сократ и Платон в своем философствовании должны были вступить, состоял в том, что для Сократа и Платона продуцированное мышлением объективное существует вместе с тем в себе и для себя, стоит, следовательно, выше всяких частных интересов и склонностей и является властвующей над ними силой. Поэтому у Сократа и Платона момент субъективной свободы состоит, с одной стороны, в том, чтобы ввести сознание в себя само, но, с другой – это возвращение точно так же определяется как выхождение из особенной субъективности; а это именно означает, что случайно пришедшие на ум, ничем не обоснованные мысли изгоняются, и человеку это выхождение во вне внутри себя присуще как духовное всеобщее. Это есть истинное, единство субъективного и объективного, выражаясь по новейшей терминологии, между тем как кантовский идеал есть лишь явление, которое не объективно в себе.
В-третьих, Сократ берет добро лишь в частном смысле, в смысле практического, а между тем это – лишь одна форма субстанциальной идеи; всеобщее есть не только для меня, а есть также и принцип натурфилософии, как в себе и для себя сущая цель, и в этом высшем смысле понимали его Платон и Аристотель. В старых историях философии выдвигается поэтому в качестве характерной черты Сократа прибавление им к философии, как нового понятия, этики, тогда как раньше философия рассматривала лишь природу. Диоген Лаэрций так и говорит (III, 56), что ионийцы изобрели философию природы, Сократ прибавил этику, а Платон диалектику. Так как этическое есть отчасти нравственность, отчасти мораль, то надо прибавить, что учение Сократа есть, собственно говоря, мораль, потому что преобладающим моментом в нем является субъективная сторона, мое убеждение и намерение, хотя оно, это определение полагания из себя, также снимается этим учением, и добро есть согласно ему вечное, в себе и для себя сущее. Нравственность, напротив того, наивна, так как она больше состоит в том, что мы знаем и делаем то, чт? само по себе есть добро. Афиняне до Сократа были нравственными, а не моральными людьми, ибо они делали то, что требовалось разумом при данных обстоятельствах, в которых они жили, не зная, что они превосходные люди. Мораль соединяет с этой нравственностью также рефлексию, что это – добро, а не другое. Это различие снова вызвано в умах кантовской философией, являющейся моральной.
Так как Сократ, таким образом, дал начало моральной философии, то все последующие эпохи моральной болтовни и популярной философии объявляли его своим патроном и святым и делали из него прикрытие, оправдывающее всякую афилософичность. Верно во всяком случае то, что способ его трактования философии делает ее популярной. К этому еще прибавилось то обстоятельство, что его смерть придала ему трогательный и всем доступный интересный лик невинного страдальца. Цицерон (Tusc. Quaest., V, 4), который, с одной стороны, направлял свое мышление на вопросы настоящего момента, с другой – придерживался мнения, что философия должна быть скромной, так что он даже не находил для нее никакого особого содержания, хвалил в Сократе (это часто повторяли потом вслед за ним), как характерную и наиболее возвышенную его черту, что он низвел философию с небес на землю, ввел ее в хижины и в повседневную жизнь человека или, как выражается Диоген Лаэрций (II, 21), вывел ее на рынок. Это есть именно то, что мы сказали. Выходит так, как будто наилучшая и наиистиннейшая философия представляет собою лишь домашнее средство или кухонную философию, которая приспосабливается ко всем обычным представлениям человека и в которой мы видим друзей и беседующих между собою на тему о честности и т. д. и обо всем том, что можно познать на земле, не побывав в глубине неба – или, вернее, в глубине сознания, а это как раз и есть именно то, на что Сократ, как думают сами популярные философы, осмелился первым. Ему также не было дано продумать сначала все умозрения философии того времени, чтобы затем иметь возможность в области практической философии ниспуститься в глубинные недра мысли. Это то, что мы имеем сказать о сократовском принципе вообще.
Мы должны ближе осветить это замечательное явление и раньше всего мы должны осветить жизненные судьбы Сократа; вернее, эти жизненные судьбы сами тесно переплетены с той ролью, которую он играет в философии, и его судьба находится в единстве с его принципом. Однако пока мы рассмотрим лишь начало его биографии. Сократ, родившийся в 4-м году 77-й олимпиады (469 г. до Р.Х.), был сыном скульптора Софрониска и повивальной бабки Фенареты. Его отец обучал его скульптуре, и рассказывают, что Сократ сделал большие успехи в этом искусстве; еще в позднейшую эпоху ему приписывали статуи одетых граций, находившиеся в афинском Акрополе. Но это искусство его не удовлетворяло, им овладела великая жажда философии и страсть к научным исследованиям; он занимался своим искусством лишь для того, чтобы приобрести средства к скудному существованию и получить возможность заниматься изучением наук. Какой-то афинянин, по имени Критон, как рассказывают, помогал ему покрывать расходы, необходимые для того, чтобы обучаться у мастеров всем искусствам. Наряду с занятием своим искусством, в особенности после того, как он совершенно бросил его, он читал все те произведения старых философов, которые он мог только достать. Вместе с тем он слушал лекции Анаксагора, а после того, как тот был изгнан из Афин, – в это время Сократу было 37 лет – лекции Архелая, в котором видели преемника Анаксагора. Он, кроме того, слушал также лекции знаменитых софистов, специалистов в других науках и, между прочим, Продика, знаменитого учителя красноречия, о котором он упоминает с любовью в беседе, воспроизведенной у Ксенофонта (Memorab., II, с. 1, § 21, 34), а также и лекции других учителей – музыки, поэзии и т. д.; он слыл вообще всесторонне образованным человеком, осведомленным во всем том, что было тогда необходимо для этого[115 - Diog. Laёrt., II, 44 (cf. Menag. ad h. l.); 18–20, 22.]. Из дальнейших обстоятельств его жизни укажем на то, что он, выполняя долг афинского гражданина, защищал свое отечество; он поэтому участвовал в трех кампаниях Пелопоннесской войны, в эпоху которой он жил (431–404 гг.). Пелопоннесская война сыграла решающую роль в разложении греческой жизни, подготовив последнее, и то, что здесь совершалось в политической области, совершилось у Сократа в области мыслящего сознания. В этих кампаниях он приобрел себе не только славу храброго война, но, что считалось самым прекрасным подвигом, также и заслугу спасения жизни других граждан. В первой кампании он участвовал в длительной осаде Фракийского города Потидеи; уже здесь Алкивиад сделался его учеником, и Алкивиад рассказывает в похвальной речи Сократу, приведенной в «Пире» Платона (р. 219–222 ed. Steph.; p. 461–466 ed. Bekk.), что Сократ выносил все тяготы войны – голод и жажду, жар и холод, сохраняя душевное спокойствие и телесное здоровье. В одном из сражений этой кампании он, увидев Алкивиада, раненного врагами, вывел его с поля битвы, прокладывая себе путь сквозь их ряды, и спас ему жизнь и оружие. Военачальники хотели увенчать его венком, служившим тогда наградой храбрейшим воинам, но Сократ отклонил его и настоял, чтобы этот венок был присужден Алкивиаду. Рассказывают, что однажды во время этой кампании, погрузившись в глубокое размышление, он простоял, не двигаясь с места, весь день и ночь, и лишь восход солнца пробудил его из его экстаза. Это было состояние, в котором он, по рассказам, часто находился. Это – нечто вроде каталепсии, состояние, вероятно, родственное магнетическому сомнамбулизму; в этом состоянии Сократ совершенно умирал для чувственного сознания. Это физическое освобождение внутреннего абстрактного «я» от конкретного, телесного бытия индивидуума представляет собою внешнее доказательство того, как глубока была совершавшаяся в нем внутренняя работа духа. В его лице мы видим вообще обращение сознания вовнутрь, которое в нем, как в первом явившем пример такого обращения, существовало антропологически, между тем как позднее оно сделалось привычкой. Другой поход он проделал в Беотии, где у Делиона, находившегося недалеко от моря и принадлежавшего афинянам маленького укрепления, афиняне дали неудачное, но не имевшее большого значения сражение. Здесь спас Сократ другого своего любимца – Ксенофонта; он увидел во время бегства, что Ксенофонт, потерявший коня, лежал раненый на земле. Сократ взвалил его к себе на плечи и понес его, отбиваясь вместе с тем с величайшим спокойствием и присутствием духа от преследовавших его врагов. Наконец, у Амфиполиса, находившегося в Эдониде у Стримонского залива, он проделал свой последний поход[116 - Diog. Laёrt., II, 22–23; Plat., Apol. Socr., p. 28 (p. 113).].
Он занимал также различные гражданские должности. Когда существовавшее до того времени в Афинах демократическое государственное устройство было уничтожено лакедемонянами, и вместо него был ими введен повсюду аристократический и даже тиранический образ правления, причем они отчасти сами становились во главе правительства, он был выбран членом совета, заменившего в качестве представительной корпорации народное собрание. Здесь он также отличился неизменной твердостью в своем сопротивлении воле тридцати тиранов, точно так же как он раньше выступал против воли народа там, где он считал это справедливым. Он именно был одним из присяжных в том судебном заседании, которое присудило к смертной казни десять военачальников за то, что, выиграв в качестве адмиралов сражение у Аргинуз, они, вследствие поднявшейся бури, не убрали мертвых и не предали их погребению у берега, а также не воздвигли там трофеев, т. е., собственно говоря, за то, что они не удержали за собою поля битвы и, таким образом, создали видимость поражения. Один только Сократ не согласился с этим приговором и высказался в этом случае против народа, при господстве демократии, еще более определенно, чем против правителей[117 - Diog. Laёrt., II, 24; Xenoph., Memorab., I, c. 1, § 18; Plat., Apol. Socrat., p. 32 (p. 120–122); Epist., VII, p. 324–325 (p. 429).]. В наше время плохо приходится тому, который выступает против народа. «Народ превосходен по своему уму, все понимает и имеет только добрые намерения». А монархи, правительства, министры, само собою разумеется, «ничего не понимают и желают и делают лишь дурное».
Это были скорее случайные отношения к государству, в которые он вступал лишь ради исполнения обязательного для всех гражданского долга, не делая по своей собственной инициативе государственных дел своим главным занятием и не стремясь стать во главе государственных учреждений; настоящим делом его жизни было философствование на этические темы с каждым человеком, встречавшимся ему на пути. Его философия, признававшая сущностью сознание как некое всеобщее, не представляла собою умозрительной философии в собственном смысле, а оставалась индивидуальным деянием; она, однако, ставила себе цель свершить это индивидуальное деяние как общезначимое, Поэтому приходится говорить о его собственной индивидуальной жизни, о его безукоризненно благородном характере. Сократ, по изображению писавших о нем, отличался бесконечным рядом добродетелей, служащих украшением жизни частного человека, и в этих его добродетелях мы должны видеть добродетели в собственном смысле слова, которые он силой своей воли превратил в привычки. Нужно при этом заметить, что у древних эти качества носили вообще характер добродетели в большей мере, чем у нас, потому что у древних в их нравах вообще индивидуальность, как форма всеобщего, была предоставлена самой себе, так что в добродетели видели нечто большее, чем деяние индивидуальной воли, следовательно, своеобразие, между тем как у нас они в меньшей мере кажутся чем-то таким, что должно быть вменено индивидууму в заслугу, или, иными словами, что представляет собою его своеобразное свершение, как именно дело отдельного лица. Мы привыкли рассматривать их скорее как нечто противоположное, как обязанность, так как мы в большей мере обладаем сознанием всеобщего и признаем сущностью и обязанностью даже чисто индивидуальное, даже собственное внутреннее сознание. У нас поэтому добродетели на самом деле являются больше либо предрасположением, прирожденной чертой, либо носят характер всеобщего и необходимого вообще; у Сократа же они носят характер не нравов или прирожденной черты, или необходимости, а самостоятельно выработанного качества. Известно, что его наружность указывала, что от природы он был человеком с отвратительными низкими страстями, но что, как сказал сам Сократ, он их обуздал.
Он жил среди своих сограждан и стоит перед нами, как один из тех великих пластических характеров, вылитых из одного куска, какие мы привыкли видеть в ту эпоху как завершенное классическое произведение искусства, само себя поднявшее на эту высоту. Такие личности не созданы природой, а самостоятельно сделали себя тем, чем они были; они стали тем, чем они хотели быть, и остались верными этому своему стремлению до конца жизни. Отличительной чертой произведения искусства в собственном смысле является то, что в нем выводится какая-то идея, воплощается характер, так что каждая черточка определяется этой идеей, этим характером. Будучи таковым, произведение искусства, с одной стороны, жизненно, и с другой – прекрасно, так как высшая красота именно и состоит в совершеннейшем развитии всех сторон индивидуальности согласно одному внутреннему принципу. Такими произведениями искусства являются великие люди той эпохи. Величайшей пластической личностью, как государственный человек, был Перикл, и его окружали, словно звезды, Софокл, Фукидид, Сократ и т. д. Все они развили свою индивидуальность, придав ей своеобразный характер, являвшийся господствующей чертой их существа и проходящим красной нитью через всю их жизнь единым началом. Перикл жил всецело для одной только цели, для того, чтобы быть государственным человеком; Плутарх (Pericles, с. 5, 7) сообщает о нем, что с того времени, как он посвятил себя государственным делам, он ни разу больше не смеялся и не посетил ни одного пира. Так и Сократ развил самого себя в определенный характер силой своего искусства и самосознательной воли и приобрел качества, необходимые для его жизненного дела. Благодаря своему принципу он достиг того длительного влияния, которое сказывается еще и теперь в области религии, науки и права, так как после него дух внутреннего убеждения является основой, которую человек должен признавать первейшей. И так как этот принцип вытекал из пластичности его характера, то очень неуместно выраженное Теннеманом (Bd. II, S. 26) сожаление о том «что мы, правда, знаем, чем он был, но не знаем, как он стал таким».
Сократ был невозмутимым благочестивым образцом моральной добродетели: мудрости, скромности, воздержания, умеренности, справедливости, храбрости, непреклонности, твердой законности перед лицом тиранов и народа; он был равно далек как от корыстолюбия, так и от властолюбия. Его равнодушие к деньгам было делом собственного решения, ибо согласно нравам того времени он мог зарабатывать деньги подобно другим учителям, преподавая свою науку молодежи. С другой стороны, этот заработок был делом свободного выбора, а не, как у нас, государственным установлением, так что тот, который в наше время ничего не брал за обучение, нарушил бы обычай и вызвал бы, таким образом, подозрение, что он хочет обращать на себя внимание, и поэтому был бы больше предметом порицания, чем похвалы, – ибо плата за учение не была еще тогда государственным делом и лишь при римских императорах впервые были основаны школы, в которых учителя получали жалованье. Умеренность его образа жизни также была порождением силы сознания, но эта умеренность была не установленным принципом, а вытекала лишь из того, что он сообразовался со своими средствами; в обществе же он был кутила. Лучшее изображение его умеренности в отношении вина дает Платон в «Пире», в очень характерной сцене, из которой мы видим, чт? именно называл Сократ добродетелью. Алкивиад уже нетрезвым появляется на пир, данный Агатоном по случаю победы, одержанной накануне на празднествах написанной им трагедий. Так как общество пило много уже в первый день пира, то собравшиеся гости, среди которых был и Сократ, приняли решение, противно обычаям греческих пиров, пить мало в этот вечер. Алкивиад находя, что он пришел к трезвым и что поэтому нет одинакового настроения, назначает себя царем пира и подает другим кубок, что бы поднять их до своей высоты; о Сократе же он говорит, что с ним он ничего не может поделать, потому что он не меняется сколько бы он ни пил. Платон заставляет затем того, кто передает произнесенные на пиршестве речи, рассказать также, как и сам рассказчик вместе с другими, наконец, заснули на своих ложах. Когда он проснулся назавтра утром, он увидел, что Сократ с кубком в руках все еще рассуждает с Аристофаном и Агатоном о комедии и трагедии, именно о том, может ли один и тот же человек писать и трагедии, и комедии, а затем в обычный час он отправился в общественные места, в гимназии, как будто ничего не произошло, и бродил взад и вперед, как всегда, весь день[118 - Plat., Convivium, p. 176, 212, 213–214, 223 (p. 376–378, 447, 449–450, 468–469).]. Это – не та умеренность, которая состоит в том, чтобы возможно меньше получать удовольствий, не намеренная трезвость и самоистязание, а сила сознания, сохраняющаяся даже при неумеренном пользовании телесными удовольствиями. Как видим из этого, мы отнюдь не должны представлять себе Сократа как растекающегося в скучных сетованиях добродетельного моралиста.
Его поведение в отношении других было не только справедливо, правдиво, откровенно, лишено суровости, честно, но мы видим также в нем пример тщательнейшим образом выработанной аттической светскости, т. е. свободы в отношениях с людьми, открытой разговорчивости, которая никогда не забывается и, обладая внутренней всеобщностью, вместе с тем всегда находит правильное, живое отношение, соответствующее лицам, с которыми происходит общение, и положению, в котором оно происходит; это – общение в высшей степени образованного человека, который при всем остроумии не вносит в свои отношения с другими людьми ничего личного и избегает всего неприятного. Сократические диалоги Ксенофонта и в особенности Платона представляют собою поэтому высшие образцы этой тонкой общежительной культуры.
Так как философия Сократа не является уходом из интересов данного дня в свободные, чистые области мысли, а представляет собою неразрывное, единое целое с его жизнью, то она не развивается в систему; даже в той манере его философствования, которая, как она изображена у Платона, кажется уходом от действительности, все же сказывается эта внутренняя связь с повседневной жизнью. Главным его занятием было его философское преподавание или, вернее, его философская жизнь в общении (ибо это не было настоящим преподаванием) со всеми и каждым, которая внешне ничем не отличалась от жизни афинян вообще, обыкновенно проводивших б?льшую часть дня на рынке без настоящего дела, в праздности, или бродивших в публичных гимназиях, где занимались телесными упражнениями, или, как это и было преимущественно, болтали здесь друг с другом. Этот способ бесед был возможен лишь в условиях афинской жизни, где большинство работ, которые теперь выполняются свободным гражданином – даже гражданином свободной республики и свободной империи, – выполнялось рабами, так как они считались недостойными свободных людей. И в Афинах свободный гражданин также мог быть ремесленником, но он все же обладал рабами, которые исполняли работы, заказы, подобно тому как в наше время мастер имеет подмастерьев. В наше время такая жизнь в движении не соответствовала бы нашим нравам. Так шатался и жил Сократ, ведя постоянные беседы об этических воззрениях[119 - Xenoph., Memorab., I, с. 1, § 10.]. Своеобразным его деянием было, следовательно, то, что можно назвать вообще морализированием, но это морализирование не было похоже на проповедь, увещевание, поучение, не представляло собою мрачного морализирования и т. д. Ибо среди афинян и при аттической светскости подобного рода проповеди и т. д. не могли иметь места, так как они не представляют собою взаимного, свободного и разумного отношения. Он лишь пускался в беседы со всеми людьми, как бы ни различно было их общественное положение, со всей аттической светскостью, без высокомерия, без стремления поучать других или заставлять их признать свое превосходство, вполне сохраняя и уважая свободу собеседников и отбрасывая все грубое.
1. В этих беседах мы находим философствование Сократа и всем известный по названию сократовский метод вообще, который по своей природе должен был быть диалектическим и который мы должны рассмотреть раньше, чем перейти к содержанию сократовской философии. В манере Сократа нет ничего искусственного; напротив, диалоги авторов нового времени, именно потому, что нет внутреннего основания, оправдывающего эту форму, неизбежно должны были сделаться очень скучными и растянутыми. У Сократа же принцип его философии скорее совпадает с самим методом, как таковым, – он постольку и не может быть даже назван методом, – а представляет собою манеру, совершенно тожественную с своеобразным морализированием Сократа. Ибо главным содержанием его учения является познание добра как абсолютного, притом главным образом по отношению к поступкам. Эту сторону Сократ ставит так высоко, что науки, содержанием которых является рассмотрение всеобщего в природе, в духе и т. д., отчасти он сам отодвигает в сторону, отчасти же побуждает к этому других[120 - Xenoph., Memorab., I, c. 1, § 11–16; Arist., Metaph., I, 6.]. Можно, таким образом, сказать, что по своему содержанию его философия имела совершенно практическую цель; точно так же сократовский метод, составлявший главную сторону его философии, отличался той своеобразной чертой, что он по какому-либо поводу, случайно подвернувшемуся или созданному самим Сократом, заставлял каждого размышлять о своих обязанностях. Посещая мастерские портных и сапожников и вступая в беседу как с ними, так и с юношами и стариками, софистами, государственными людьми и всякого рода гражданами, он, таким образом, брал сначала в качестве цели то, что интересовало их, были ли то домашние дела, воспитание детей или интересы науки, истины и т. д. Затем он уводил их от данного определенного случая к тому, чтобы они мыслили всеобщее, сами по себе значимые истину и красоту, вызывая в каждом посредством самостоятельного размышления убежденное понимание того, в чем именно состоит определенная справедливость. В этом методе имеются преимущественно две стороны, – он, во-первых, развивает всеобщее из конкретного случая и выявляет понятие, которое в себе существует в каждом сознании[121 - Artist., Metaph., XIII, 4.], и, во-вторых, разлагает застывшие, непосредственно воспринятые в сознание общие определения представления или мысли и приводит в замешательство собеседника посредством сопоставления этих общих определений с конкретными иллюстрациями.
a. Переходя от этих общих определений метода Сократа к более подробной его характеристике, мы должны сказать, что он состоял, во-первых, в том, чтобы внушать людям недоверие к их собственным предпосылкам, после того как их вера уже расшаталась, и заставлять людей искать в самих себе то, чт? есть. Хотел ли он скомпрометировать манеру софистов или хотел пробуждать в привлеченных им юношах потребность в познании и самостоятельном мышлении, всегда он начинал с того, что также принимал те обычные представления, которые они считали истинными. Но чтобы заставить других высказать эти представления, он делает вид, что не знает их, и с видом человека, у которого нет задних мыслей, он задает вопросы своим собеседникам, как будто хочет учиться у них, а на самом деле выспрашивал их мнения. Это – знаменитая сократовская ирония, которая у него представляет собою особый способ обращения в личных беседах, следовательно, только субъективную форму диалектики, между тем как диалектика в собственном смысле имеет дело с основаниями рассматриваемого предмета. Этим он хотел добиться того, чтобы, после того как другие изложат свои основоположения, вывести из каждого ими самими высказанного определенного положения заключение, противоположное тому, что высказано в этом положении, или, не выставляя прямо противоположного утверждения, заставить их самих делать это. Иногда он делает противоположный вывод из конкретного случая; но так как этот противоположный вывод также был в глазах его собеседников незыблемым принципом, то он заставлял их затем признать, что они противоречат самим себе. Таким образом, Сократ учил тех, с которыми он вел беседы, знать, что они ничего не знают; даже больше; он сам говорил, что он ничего не знает, и поэтому ничему не учит. Можно действительно сказать, что Сократ ничего не знал, ибо он не пришел для того, чтобы дать систематически разработанную философию. Это он сознавал, и он вовсе не ставил себе целью создать науку.
С одной стороны, может казаться, что ирония представляет собою нечто неправдивое. Но когда рассматривают предметы, представляющие собою общий интерес, и рассуждают о них вкривь и вкось, то всегда оказывается, что не знаешь, чт? другой разумеет под ними. Ибо у каждого индивидуума есть некоторые последние слова, относительно которых он предполагает, что они известны также и его противнику. Но если желают добиться действительного понимания, то необходимо исследовать как раз эти предпосылки. Когда, например, в новейшее время спорят о вере и разуме, как о том, что в настоящее время интересует и занимает наш дух, то каждый делает вид, как будто он знает, что такое разум и вера, и считается невоспитанностью требование указать, что такое разум и вера, так как они предполагаются известными. Один знаменитый богослов выставил десять лет тому назад[122 - Написано в 1825–1826 г.г. Ред.] девяносто тезисов о разуме, в которых содержались очень интересные вопросы, но которые не привели к какому-либо определенному результату, хотя о них и много спорили, потому что одни участники спора делали утверждение, исходя из точки зрения веры, а другие – исходя из точки зрения разума; каждый оставался при этом противоположении, и никто не знал, что разумеют под верой и разумом. Таким образом, именно объяснение того, что предполагается известным, не будучи таковым, единственно только и делает возможным соглашение и взаимное понимание. Если и нет сомнения, что вера и разум отличны друг от друга, то все же, благодаря этому определению их понятий, выступит вместе с тем также и общее между ними, а лишь благодаря этому могут стать плодотворными такие вопросы и попытки их разрешения; в противоположном случае можно в продолжение долгих лет болтать о них вкривь и вкось, не двигаясь ни на шаг вперед. Ибо, когда я говорю, что я знаю, чт? такое разум, чт? такое вера, то это – лишь совершенно абстрактное представление; для того, чтоб эти представления сделались конкретными, требуется, чтобы их объяснили, чтобы предположили неизвестным, что, собственно, они представляют собою. Ирония Сократа заключает в себе именно ту подлинно великую черту, что она заставляет собеседников конкретизировать абстрактные представления и развить их дальше, ибо важно только осознать понятие.
В новейшее время также говорилось много о сократовской иронии, которая подобно всякой диалектике допускает истинность того, что непосредственно принимается за истинное, но лишь для того, чтобы дать выявиться тому внутреннему разрушению, которое содержится в этих же самых допущениях, и мы можем это назвать всеобщей мировой иронией. Из этой сократовской иронии хотели, однако, сделать нечто совершенно другое, расширив ее до размеров всеобщего принципа: она якобы представляет собою наивысшее отношение, наивысшую позицию духа и ее выставляли как нечто наиболее божественное. Первым, выдвинувшим эту мысль, был Фридрих фон-Шлегель, и Аст повторил ее за ним, говоря: «Сократовскую беседу одушевляет, как внутренняя, неисповедимая жизнь, сильнейшая любовь ко всему прекрасному в идее и в жизни». Этой жизнью является, по мнению Аста, ирония! Но эта ирония происходит из фихтевской философии и представляет собою существенный пункт для понимания понятий, являющихся созданием новейшего времени. Она является для субъективного сознания способом покончить со всем на свете, говоря: «Я могу посредством моего развитого мышления превратить в ничто все определения права, нравственности, добра и т. д., потому что являюсь, безусловно, их властелином; и я знаю, что если я считаю нечто хорошим, я могу его признать и дурным, так как я признаю все истинным лишь постольку, поскольку оно мне теперь нравится». Эта ирония представляет собою, таким образом, лишь игру со всеми вещами и способна все превратить в иллюзию; эта субъективность ни к чему уже больше не относится серьезно, а если она что-нибудь говорит серьезно, то она эту серьезность тотчас же снова упраздняет, превратив ее в шутку, и все высшие и божественные истины превращаются для нее в ничто и пошлость. Но иронией являлось уже греческое веселье, как оно веет в гомеровских поэмах, в которых Эрот насмехается над могуществом Зевса, Марса. Вулкан, хромая, подает богам вино, и поднимается оглушительный хохот бессмертных богов, а Юнона отпускает Диане пощечины. Так мы находим иронию и в жертвоприношениях древних, которые сами съедают лучшие части; в улыбающейся печали, в величайшей радости, доходящей до слез, в издевательском смехе Мефистофеля, – вообще в каждом переходе от одной крайности к другой, от наилучшего к наидурнейшему: лежать, например, в воскресенье очень сокрушенно в прахе, бия себя в перси и каясь в своих грехах, а вечером жрать и напиваться и предаваться всем плотским удовольствиям, чтобы снова восстановить в себе гордыню, противную прежнему смирению. Родственно с этим – лицемерие, оно является величайшей иронией. Родоначальниками той иронии, относительно которой уверяют, что она является «глубочайшей внутренней жизнью», ошибочно выставляют Сократа и Платона, хотя у них действительно есть элемент субъективности; выдвинуть этого рода иронию было предоставлено нашему времени. «Глубочайшая внутренняя жизнь» Аста как раз и является субъективным произволом, той внутренней божественностью, которая сознает себя стоящей выше всего. Божественным должно являться, согласно этому воззрению, чисто отрицательное отношение, созерцание суетности и тщеты всего, созерцание, в котором пребывает одно лишь мое тщеславие. Считать последним словом мудрости сознание ничтожности всего, может быть, и есть на самом деле некая глубокая жизнь, но это – глубина пустоты, как она выступает иногда в античных комедиях Аристофана. Очень далека от этой иронии нашего времени ирония Сократа, которая у него так же, как и у Платона, имеет ограниченное значение. Определенная ирония Сократа есть больше манера разговора, невинная шутливость, а не язвительный смех и не лицемерие, как будто бы идея является для него только шуткой. Но его трагической иронией является антагонизм его субъективного рефлектирования к существующей нравственности; Сократом руководит не горделивое сознание, что он стоит выше последней, а непредубежденная цель приводить посредством мышления к истинному добру, к всеобщей идее.
b. Вторым моментом является то, чт? Сократ более определенно называл искусством повивальной бабки, которое он, по его словам, унаследовал от своей матери[123 - Plat., Theaetet., p. 210 (p. 322).]: искусством помогать мысли, уже содержащейся в самом сознании каждого человека, появляться на свет; а именно вывести из конкретного нерефлектированного сознания всеобщность конкретного или, иными словами, вывести из положенного, как всеобщее, уже заключающуюся в нем противоположность. Сократ держится при этом вопрошающе; и этот способ вопросов и ответов был назван поэтому сократовским методом, но в этом методе содержится больше, чем обыкновенно дается в вопросах и ответах. Ибо ответ кажется случайным по отношению к цели, которую имеет в виду вопрос, между тем как в печатном диалоге ответы всецело в руках автора; но можно ли в действительности найти таких людей, которые так отвечают, это другое дело. У Сократа отвечающих можно назвать пластическими юношами, так как они лишь определенно отвечают на вопросы, которые ставятся так, что они очень облегчают ответ и исключают всякий индивидуальный произвол. Эта пластическая манера, которую мы видим в изложении бесед Сократа у Платона и Ксенофонта, противоположна обычной манере ведения бесед главным образом в том отношении, что в последних отвечают не на то, о чем другой спрашивает. У Сократа же, напротив, отвечающий относится с уважением к вопросу. Другое различие состоит в том, что обычно в диалогах выдвигается отвечающим другая точка зрения, чтобы проявить также и себя. Это, правда, придает беседе больше живости, но и такое соперничество исключается из сократовской манеры отвечать, главной задачей которой является строго держаться того, о чем спрашивают. Дух сутяжничества, настаивание на своем, прерыв разговора, когда собеседник замечает, что он очутился в затруднительном положении, уход в сторону от темы беседы посредством шутки или пренебрежительного жеста, – все эти манеры здесь исключены; они не соответствуют хорошему тону и уж тем паче манере изложения сократовских бесед. Не надо поэтому удивляться, читая эти диалоги, что те, которым задают вопрос, так точно отвечают именно на то, о чем их спрашивают. Напротив, даже в лучших новейших диалогах всегда примешиваются случайность и произвол.
Это различие касается лишь внешней, формальной стороны; главное же состоит в том, что Сократ, стремясь своими вопросами заставить осознать в общей форме, что такое добро и справедливость, исходя при этом из наивным образом наличного в нашем сознании, не шел дальше посредством продолжения понятий, связанных с этим наличным, придерживаясь чистой необходимости, чт? представляло бы собою дедукцию, доказательство или вообще вывод посредством понятий. Сократ же анализировал конкретное, как оно без мышления содержится в естественном сознании или, иначе говоря, анализировал погруженную в материю всеобщность, так что посредством отделения конкретного он заставлял осознать содержащееся в нем всеобщее как всеобщее. Этот прием мы видим в особенности часто в диалогах Платона, у которого проявляется большое искусство в его применении; это – тот же самый путь, по которому идет в каждом человеке развитие его сознания всеобщего; это – воспитание к самосознанию, представляющее собою развитие разума. Ребенок, необразованный человек живет в конкретных, единичных представлениях, но у взрослого и становящегося образованным человека, уходящего при этом назад в себя, как в мыслящего, появляется рефлексия о всеобщем и фиксация этого всеобщего, и он так же свободно движется теперь в области абстракций и мыслей, как раньше двигался в области конкретного. В сократовских диалогах мы видели такое развитие всеобщего из особенного, в котором дается множество примеров и которое излагается чрезвычайно пространно. Для нас, однако, подготовленных к тому, чтобы представлять себе абстрактное, для нас, которым с юности преподают общие положения, сократовская манера так называемой снисходительности с ее многословием имеет в себе поэтому часто нечто утомительное, скучное и надоедливое. Всеобщее, содержащееся в конкретном случае, скорее представляется нашему уму сразу же как всеобщее, потому что наша рефлексия уже привыкла к всеобщему, и мы не нуждаемся в старательном отделении его от конкретного. И точно так же уже после того, как Сократ успел выделить абстракцию и поставить ее пред сознанием, он приводит массу примеров, так что благодаря повторению возникает субъективное упрочнение абстракции; мы же уже не нуждаемся в такой массе примеров, чтобы фиксировать ее как всеобщее.
c. Ближайшим следствием этого приема может быть удивление сознания по поводу того, что в знакомом ему заключается то, что оно в нем вовсе не искало. Если мы, например, начинаем размышлять о знакомом всем представлении становления, то мы замечаем, что то, что становится не есть, и, однако, оно также и есть; оно – тождество бытия и небытия, и нас может поразить, что в этом простом представлении содержится такое огромное различие.
Результат бесед оказывался отчасти совершенно формальным и отрицательным; собеседников Сократа приводили к убеждению, что если они полагали раньше, что они очень хорошо знакомы с предметом, то они теперь должны сознаться и определенно высказать: «То, что мы знали, оказалось опровергнутым». Сократ, следовательно, спрашивал часто с намерением заставить говорящего делать уступки, содержащие в себе точку зрения, противоположную той, из которой собеседник исходил. Содержание б?льшей части бесед Сократа сводится к тому, что у его собеседников возникают такие противоречия, когда они сопоставляют свои представления; главной тенденцией этих бесед было, следовательно, вызвать смущение и замешательство сознания внутри себя. Он хочет этим пробудить стыд у собеседника и понимание, что то, чт? мы считаем истиной, еще не есть истина, а из этого должна была возникнуть потребность в более серьезном старании достичь познания. Иллюстрации дает нам, между прочим, Платон в своем «Меноне» (р. 71–80 ed. Steph., p. 327–346 ed. Bekk.). Сократ спрашивает здесь: «Скажи мне, во имя богов, что такое добродетель?». Менон тотчас же начинает проводить различения: «Добродетелью мужчины является уменье хорошо вести государственные дела и при этом помогать друзьям и вредить врагам; добродетелью женщины – вести хорошо свое домашнее хозяйство; другою добродетелью является добродетель мальчика, юноши, старика и т. д.». Сократ его прерывает: «Это не то, о чем я спрашиваю; я спрашиваю про всеобщую добродетель, заключающую в себе все добродетели». Менон: «Такой добродетелью является главенствование над другими, возможность повелевать другими». Сократ приводит опровергающий случай: добродетель ребенка и раба не состоит в повелевании. Менон: «Я не знаю, что это означает общее всех добродетелей». Сократ: «Это так, как, например, фигура представляет собою общее круглого, четырехугольного и т. д.». Теперь появляется отступление в сторону. Менон: «Добродетелью является возможность доставлять себе блага, которые желаем». Сократ возражает: слово «блага» излишне, ибо мы не желаем того, о чем мы знаем, что оно есть зло, а помимо этого ведь блага должны быть приобретены справедливо. Сократ, таким образом, приводит в замешательство Менона; так обнаруживается, что представления последнего ложны. Менон говорит после этого: «До того, как я с тобою познакомился, я слышал о тебе, что ты сам находишься в сомнении (???????) и вводишь в него также и других, а теперь ты зачаровываешь также и меня, так что я полон смущения (???????). Если мне дозволено будет прибегнуть к шутке, то скажу, что ты мне кажешься совершенно похожим на одну морскую рыбу, на электрического угря, ибо об этой рыбе сообщают, что она делает пьяным (??????) приближающегося и прикасающегося к ней. Ты то же самое сделал со мною, ибо я пьян телом и душой и не знаю, чт? тебе ответить, хотя я десятки тысяч раз вел беседы с очень многими людьми о добродетели, и, как мне казалось, это были очень хорошие беседы. Я теперь абсолютно не знаю, что мне сказать. Ты поэтому правильно поступаешь, что не едешь в чужие страны; легко могло бы статься, что они убили бы тебя, как колдуна». Сократ предлагает снова «искать». Теперь говорит Менон: «Как можешь ты искать того, о чем ты утверждаешь, что его не знаешь; если ты это случайно найдешь, как будешь ты знать, что это то, чего ты искал, так как ты признаешь, что ты не знаешь его». В таком роде кончаются многие ксенофонтовские и платоновские диалоги и оставляют нас в отношении результата совершенно неудовлетворенными; так, например, обстоит дело в «Лизисе», где Платон ставит вопрос, что приводит к любви и дружбе между людьми. Так, например, «Государство» начинается исследованием вопроса о том, что такое справедливость. Философия должна вообще начать с того, чтобы вызвать замешательство, чтобы привести к размышлению; нужно во всем сомневаться, отказаться от всех предпосылок, чтобы получить истину как порожденную понятием.
2. Такова, говоря коротко, манера Сократа. Положительное, развиваемое Сократом в сознании, есть не что иное, как добро, поскольку его получают из сознания посредством знания: то вечное, в себе и для себя всеобщее, что мы называем идеей; истинное, которое, поскольку оно представляет собою цель, и есть добро. В этом отношении Сократ противоположен софистам, так как положение, гласящее, что человек есть мера всех вещей, еще подразумевает у последних особенные цели, между тем как у Сократа в этом положении объективным образом выражается порожденное свободной мыслью всеобщее. Мы не должны, однако, вменять в вину софистам то, что, живя в эпоху, лишенную определенного направления, они не открыли принцип добра, ибо для каждого изобретения имеется свое время, и скажем, открытие добра, которое теперь всегда лежит в основании как цель в себе, еще не было сделано Сократом. Может казаться, что мы еще не много сказали о сократовской философии, так как мы говорили лишь о принципе, но в том-то и главная суть, что само сознание Сократа дошло только до этой абстракции. Добро, однако, уже абстрактно, как ???? Анаксагора, а оно есть всеобщее, которое определяет само себя внутри самого себя, реализуется и должно реализоваться как конечная цель мира и индивидуума. Оно есть конкретный внутри себя принцип, который, однако, еще не изображен Сократом в его развитом виде, и в этой абстрактной позиции заключается недостаток сократовской точки зрения, в которой, помимо сказанного нами, нельзя указать ничего положительного.
а. Первым определением в отношении сократовского принципа служит то великое, но все же лишь формальное определение, что сознание черпает из самого себя понимание истины и что лишь оттуда оно должно черпать это понимание. Этот принцип субъективной свободы носил в сознании Сократа такой характер, что он относился пренебрежительно к другим наукам, как к пустым знаниям, не приносящим никакой пользы человеку; человек-де должен заботиться лишь о том, что составляет его моральную природу, лишь стараться поступать наилучшим образом. Эта односторонность является для Сократа вполне последовательной. Эта религия добра, стало быть, представляет собою у Сократа не только самое существенное, на что люди должны направлять свои мысли, но и единственное. Он учит находить это всеобщее, это абсолютное в сознании каждого как его непосредственную сущность. Мы видим, как здесь в лице Сократа закон – истина и добро, – который раньше существовал как некоторое бытие, возвращается теперь в сознание. Но это – не единичное случайное явление, совершающееся в данном индивидууме, в Сократе; напротив, мы должны понять Сократа и его появление. Мы видим, как во всеобщем сознании, в духе народа, которому он принадлежал, нравственность переходит в мораль, и он стоит во главе как сознание этой перемены. Мировой дух начинает здесь делать тот поворот, который он позднее вполне завершил. С этой высшей точки зрения нужно рассматривать как Сократа, так и афинский народ и Сократа в нем. Здесь начинается рефлексия сознания в само себя, знание сознание о себе, как таковом, что он есть сущность или, если угодно, знание, что бог есть дух, а если угодно выразить это в более грубой, более чувственной форме, то, скажем, знание, что бог принимает образ человека. Эта эпоха начинается тогда, когда отказываются от сущности, как от бытия, хотя бы оно и было, как до Сократа, лишь абстрактным бытием, мыслимым бытием. Но у нравственного народа, находящегося в высшем расцвете, эта эпоха вообще выступает как грозящая или врывающаяся, пока еще ничем не задерживаемая его гибель, ибо его нравственность, подобно нравственности древних народов, вообще состояла в том, что добро существовало для него как наличное всеобщее, нося форму не убеждения индивидуума в своем единичном сознании, а непосредственного абсолютного. Это – действующий, существующий закон, он не подвергается критическому исследованию, а представляет собою нечто последнее, на чем это нравственное сознание успокаивается. Он является государственным законом, признается волей богов; таким образом, это – некая общая судьба, имеющая форму сущего и всеми признаваемая таковым. Но моральное сознание спрашивает: действительно ли это закон в себе? Это сознание, возвратившееся в себя из всего, имеющего форму сущего, хочет понимать, хочет знать, что этот закон положен также и поистине, т. е. оно хочет найти себя в нем как сознание. В полосу возвращения в себя вступил тогда афинский народ; наступила неуверенность в сущем законе как сущем, заколебалось то, что считалось сущим правом, наступила высшая свобода в отношении всякого бытия и всякой значимости. Это возвращение в себя представляет собою высший расцвет греческого духа, поскольку оно есть уже не только бытие этих нравов, но живое их сознание, которое все еще имеет то же самое содержание, но как дух движется в нем свободно; это – ступень, на которую лакедемоняне никогда не поднимались. Эта высшая жизненность нравственности есть как бы свободное сознание собственного достоинства нравами или богом, радостное наслаждение этим чувством. Сознание и бытие здесь имеют непосредственно одинаковую ценность, одинаковое достоинство; то, что есть, есть сознание; ни одно сознание не властвует над другим; сила законов не является итогом для сознания, и точно так же всякая реальность не есть для этого сознания противодействие, ибо оно уверено в самом себе. Но это возвращение теперь готовится покинуть это содержание и покинуть его именно в своем качестве абстрактного сознания, не полагая этого содержания и не противополагая ему, как некоему бытию, себя. Теперь сознание выступило из этого равновесия сознания и бытия как нечто самостоятельно существующее для себя. Эта сторона раскола представляет собою самостоятельное понимание; сознание, чувствуя свою самостоятельность, уже не признает непосредственно того, что притязает на значимость, а требует от последнего, чтобы оно узаконило себя перед ним, т. е. оно хочет понять само себя в нем. Таким образом, это возвращение сознания к себе есть отрыв единичного от всеобщего, забота единичного лица о себе за счет государства; у нас, например, этот отрыв представляет собою заботу о том, достигну ли вечного блаженства или буду осужден, между тем как философская вечность налична во времени и есть не что иное, как сам субстациональный человек. Государство потеряло свою силу, состоявшую в ненарушимой отдельными индивидуумами непрерывности всеобщего духа, так что единичное сознание не знало никакого содержания, никакой другой сущности помимо закона. Нравы сделались теперь шаткими, потому что существовала надежда, что человек создаст для себя свои особые максимы. Положение, что индивидуум должен заботиться о своей нравственности, означает, что он становится моральным, означает отказ от общественных нравов и воцарение морали, – оба эти явления наступают одновременно. Таким образом, мы видим, что Сократ выступает теперь с убеждением, что в настоящее время каждый должен сам заботиться о своей нравственности; так он, Сократ, заботился о своей нравственности с помощью сознания и размышления о себе, ища в своем сознании исчезнувшего в действительности всеобщего духа; так он помогал другим заботиться о своей нравственности, пробуждая в них сознание, что они обладают в своих мыслях добром и истиною, т. е. тем, что в действовании и знании есть само по себе сущее. Теперь люди больше уже не обладают последним непосредственно, а должны запасаться им, подобно тому как корабль должен делать запасы пресной воды, когда он направляется в такие места, где ее нет. Непосредственное больше уже не имеет силы, а должно оправдать себя пред мыслью. Так состояние целого делает для нас понятным своеобразие Сократа, и его метод философствования делает для нас также понятной и его судьбу.
Это возвращение сознания в себя выступает – очень явственно у Платона – в той форме, что человек ничему не может научиться, не может научиться также и добродетели. Это не значит, что она не входит в ведение науки, а значит, что добро не приходит извне; вот это доказывает Сократ. Невозможно учить добру, а оно содержится в природе духа. Человек вообще не может воспринимать что-нибудь как нечто данное извне, не может воспринимать пассивно, подобно тому как воск принимает любую форму; но все заключено в духе человека, и он всему научается только по видимости. Все, правда, начинается извне, но это только начало; поистине же это начало является лишь толчком для развития духа. Все, что обладает ценностью для человека, вечное, само по себе сущее содержится в самом человеке и должно быть добыто из него самого. «Научиться» или «учиться» означает здесь лишь получить сведения о внешне-определенном. Это внешнее получается, правда, посредством опыта, но всеобщее в нем принадлежит мышлению, однако не субъективному, а истинному, объективному мышлению. При противопоставлении друг другу субъективного и объективного всеобщее есть то, что столь же субъективно, сколь и объективно; субъективное есть лишь особенное, объективное есть точно так же особенное по сравнению с субъективным; всеобщее же есть единство их обоих. Согласно сократовскому принципу человек не признает ничего такого, о чем не свидетельствует дух. Человек тогда в этом признаваемом им свободен и находится у себя; и это есть субъективность духа. Как сказано в библии, «плоть от моей плоти и кость от мой кости», так и то, что для меня должно быть истиной и справедливостью, есть дух от моего духа. Но то, что дух, таким образом, творит из самого себя, должно произойти из него, как из духа, действующего всеобщим образом, а не из его страстей, капризных интересов и произвольных склонностей. Последние, правда, также представляют собою некое внутреннее, «вложенное в нас природой», но они являются нашими лишь природным образом, так как они принадлежат области особенного; выше их стоит истинное мышление, понятие, разумное. Случайному, частному, внутреннему Сократ противопоставил всеобщее, подлинно внутреннее мысли. И эту настоящую совесть Сократ пробудил тем, что не только сказал просто: человек есть мера всех вещей, но сказал: человек в качестве мыслящего есть мера всех вещей. У Платона, как мы увидим после, это формулировано так, что человек лишь вспоминает (erinnere)[124 - Непереводимая игра слов: еrinnern (вспоминать) – извлекать изнутри (еr-innern). Ред.] то, что он воспринимает по видимости извне.
В своем ответе на вопрос, что такое добро, Сократ познал его определение не только как некую определенность в особенности, с исключением природной стороны, как, например, понимают определенности в эмпирических науках, но даже в отношении к поступкам людей добро у него оставалось еще неопределенным, и последней определенностью или последним определяющим моментом является у него то, что мы, вообще, можем назвать субъективностью. Утверждение, что добро должно быть определено, означает ближайшим образом, что, во-первых, оно в противоположность бытию реальности есть лишь всеобщая максима, которой еще недостает деятельности индивидуального человека; означает, во-вторых, что оно должно быть не косным, не должно оставаться только мыслью, а должно быть определяющим действительным и, таким образом, действенным. Таким оно является лишь посредством субъективности, посредством деятельности людей. Что добро есть нечто определенное, означает, следовательно, что индивидуумы знают, что такое добро, и такое отношение мы именно называем моральностью, между тем как нравственность действует соответственно справедливости бессознательно. Таким образом, у Сократа добродетель есть правильное усмотрение. Ибо на положение, выставленное платоновским Протагором, что все добродетели родственны друг другу, за исключением храбрости, потому что существуют много храбрых, являющихся вместе с тем в высшей степени нечестивыми, несправедливыми, неумеренными и невежественными (стоит только вспомнить о разбойничьих бандах), Платон заставляет Сократа отвечать, что храбрость подобно всем добродетелям есть наука, а именно познание и правильная оценка того, чего следует бояться[125 - Plat., Protag., p. 349 (p. 224–225); p. 360–361 (p. 245–247).], – этим, разумеется, не раскрыта отличительная черта храбрости. Нравственный, честный человек таков, не предаваясь раньше размышлениям об этом; это – его характер, и он твердо знает, какие поступки хороши. Когда же это начинает решать сознание, то появляется выбор, вопрос, хочу ли я именно добра или нет. Это свойственное морали сознание легко становится опасным и вызывает самодовольство индивидуума, самомнение, порождаемое его сознанием, что он произвольно решил в пользу добра. Я тогда господин, избиратель добра, и в том-то состоит самомнительная гордыня, что я знаю, что я превосходный человек. У Сократа нет еще перехода к этому противопоставлению друг другу добра и субъекта, как избирающего, а речь идет у него лишь об определении добра и связи с последним субъективности, которая в качестве индивидуального лица решает в пользу того внутреннего всеобщего. Это предполагает, с одной стороны, знание добра, но, с другой стороны, предполагает также и то, что субъект добр, так как это – его характер, его привычка, и то, что субъект именно таков, древние называли добродетелью.
Это делает для нас понятной критику, которой Аристотель (Magna Мог., I, 1) подверг определение добродетели у Сократа. Он пишет: «Сократ лучше говорил о добродетели, чем Пифагор, но он также говорил не совсем правильно, так как превращал добродетели в некое знание (?????????). Это именно невозможно, ибо всякое знание связано с некоторым основанием (?????). Основание же находится лишь в мышлении. Он, следовательно, помещает все добродетели в мыслящей (?????????) стороне души. Он уничтожает поэтому ощущающую (??????) сторону души, а именно склонность (?????) и нравы (????)», которые, однако, тоже входят в состав добродетели. «Платон же различал правильно мыслящую и ощущающую сторону души». Это – хорошая критика. Как видим, то, чего не находит Аристотель в определении добродетели у Сократа, есть та сторона субъективной действительности, которую мы теперь называем сердцем. Добродетель, разумеется, состоит в том, чтобы определяться к действию согласно всеобщим, а не частным целям, но правильное усмотрение не является единственным моментом в добродетели. Дабы, усмотренное добро было добродетелью, требуется еще, чтобы также и весь человек, сердце, душа были тожественны с этим добром. И эта сторона бытия или реализации вообще есть то, чт? Аристотель называет ?? ??????. Если мы понимаем реальность добра как всеобщий обычай, то правильному усмотрению не хватает субстанциальности; если же мы ее рассматриваем как данную реальность, как склонность отдельной субъективной воли, то ей не хватает материи. Этот двойственный недостаток может также рассматриваться как недостаток в содержании и в деятельности, поскольку вышеуказанному всеобщему недостает развития, а эта определяющая деятельность выступает в отношении всеобщего лишь как отрицание. Сократ, таким образом, опускает в определении добродетели как раз то, что, как мы видели, исчезло также и в действительности, а именно, во-первых, реальный дух народа, а затем реальность как пафос единичного лица. Ибо как раз тогда, когда сознание еще не возвратилось в себя, всеобщее добро выступает у единичного лица как его движущий пафос. У нас же, напротив, это не так: так как мы привыкли добро или добродетель как практический разум ставить на одной стороне, то другая сторона, антагонистичная моральному, представляет собою для нас точно так же абстрактную чувственность, склонность, страсть и, таким образом, представляет собою для нас дурную сторону. Но для того, чтобы это всеобщее стало реальностью, оно как раз должно деятельно осуществляться его сознанием как единичным; и именно этой единичности принадлежит деятельное осуществление. Страсть, – например любовь, стремление к славе, есть само же всеобщее, таковым оно является не в правильном усмотрении, а в деятельности, как осуществляющееся, и если бы мы не опасались быть неправильно понятыми, то мы сказали бы, что всеобщее есть для единичного лица его собственный интерес. Здесь, однако, не место распутывать весь клубок ложных представлений и противоречий нашего образования.
Аристотель (Eth. Nicom., VI, 13), восполняя односторонность Сократа, говорит дальше о нем: «Сократ, с одной стороны, довольно правильно исследовал, но, с другой – неправильно, ибо неверно, что добродетель есть наука, но он прав в том, что она не бывает без знания. Сократ превратил добродетели в правильные усмотрения (??????); мы же говорим: добродетель выступает с правильным усмотрением». Это очень правильное замечание. Одна сторона добродетели состоит в том, что всеобщее в цели принадлежит области мышления. Но в добродетели, взятой в качестве характера, необходимо должна иметь место также и другая сторона – проявляющаяся в деятельности индивидуальность, реальный дух; последний выступает в своеобразной форме у Сократа, о чем скажем дальше.
b. Рассматривая сначала всеобщее, мы увидим, что оно само имеет в себе положительную и отрицательную стороны, которые мы находим связанными друг с другом в «Воспоминаниях» Ксенофонта, произведении, имеющем своей целью оправдать Сократа. И если ставят вопрос, он ли или Платон вернее изобразил нам Сократа со стороны его личности и его учения, то мы должны на это ответить: не может быть и сомнения, что в отношении личного характера и метода бесед, в отношении вообще внешней формы последних Платон может нам дать такое же точное, а может быть, и более определенное изображение Сократа; но в отношении содержания его учений и степени развития его мышления мы должны преимущественно придерживаться Ксенофонта. Сократ осознал тот факт, что реальность нравственности в народном духе расшаталась. Он потому стоит так высоко, что выразил именно то, для чего назрело время. Сознав это, он поднял нравственность на высоту правильного усмотрения; но сутью его деяния является осознание того, что мощь понятия упраздняет определенное бытие и непосредственную значимость нравственных законов, святость их в себе бытия. Если даже затем правильное усмотрение признает положительно законом то, что действительно считается законом (ибо положительное именно и состоит в том, чтобы искать прибежища в законе), то это, считаемое законом, все же прошло через отрицательный способ рассмотрения и больше уже не имеет формы абсолютного в себе бытия, но столь же мало оно уже представляет собою платоновское государство. И точно так же истинным для понятия является лишь чисто в себе всеобщее добро, после того как для него оказалась разрушенной определенность законов в той форме, в которой их признает не руководимое правильным усмотрением сознание. Но так как это истинное пусто и лишено реальности, то, если мы не желаем попусту вертеться в кругу, мы требуем, чтобы снова перешли к расширению определения всеобщего. Так как Сократ останавливается на неопределенности добра, то определенность последнего имеет для него ближайшим образом лишь значение выражения особенного добра. Тогда оказывается, что всеобщее является результатом лишь отрицания особенного добра; а так как этим последним являются именно существующие законы греческой нравственности, то выступает хотя и правильная, но опасная сторона правильного усмотрения, заключающаяся в том, что оно в каждом особенном вскрывает лишь его недостатки. Непоследовательность, заключающаяся в признании ограниченного абсолютным, бессознательно исправляется нравственным человеком; это исправление состоит частью в нравственном чувстве субъекта, частью в условиях совместной жизни целого, и несчастные крайности, приводящие к коллизиям, представляют собою чрезвычайно редкие случаи. Но в то время, как диалектика упраздняет особенное, начинает шататься также и абстрактно всеобщее.
?. Что касается положительной стороны, то Ксенофонт рассказывает в 4-й книге «Воспоминаний» (гл. 2, 40), что Сократ, после того как ему удавалось пробуждать в юношах потребность в правильном усмотрении, сам начинал их действительно учить и больше уже не запутывал их в своих беседах хитроумными тонкостями, а самым ясным и откровенным образом учил их добру. Он им показывал добро и истину в определенном, к которому он возвращался, так как не хотел удовлетвориться только абстрактным. Для иллюстрации Ксенофонт (Memorab., IV, с. 4, 12–16, 25) приводит беседу с софистом Гиппием. Сократ утверждает в этой беседе, что справедливым называется тот, который подчиняется законам, и что последние являются божественными законами. Ксенофонт заставляет Гиппия выдвинуть следующее возражение: как может Сократ объявить абсолютным подчинение законам, когда народ и правители сами часто их не одобряют, так как они изменяют их, а это значит, что законы не абсолютны. Но Сократ отвечает: не заключают ли мир те же самые люди, которые ведут войну? Но это ведь не значит, что они порицают войну, так как и война, и мир являются каждое в свое время правильными. Таким образом, Сократ утверждает вообще, что наилучшим и наисчастливейшим является то государство, граждане которого выступают единодушно и подчиняются законам. Это одна сторона, в которой Сократ закрывает глаза на противоречие и признает, в качестве утвердительного содержания, законы, право, как их каждый представляет себе. Но если мы поставим вопрос, чем являются эти законы, то мы получим разноречивые ответы; то он нам скажет, что эти законы значимы именно в той форме, в которой они существуют в государстве и в представлении, то он нам скажет, что они упраздняют себя как определенные и признаются не-абсолютными.
?. Эту другую отрицательную сторону мы видим поэтому в той же связи там, где Сократ вызывает на разговор Евтидема, спрашивая его, не стремится ли он к добродетели, без которой ни частный человек не может быть полезным себе и своим близким, ни гражданин не может быть полезным государству. Евтидем отвечает, что таково действительно его стремление. Но без справедливости, возражает Сократ, это невозможно; и он спрашивает дальше, осуществил ли Евтидем справедливость? Евтидем отвечает утвердительно также и на этот вопрос, говоря: «Я не думаю, что я менее справедлив, чем всякий другой». Сократ на это говорит: «Как ремесленники могут указать, в чем состоят их работы, так и справедливые, полагаю, могут сказать, в чем состоят их дела». Тот соглашается также и с этим и отвечает, что он легко может это сделать. Сократ предлагает теперь: если это так, «то напишем на одной стороне под буквой ? дела справедливого человека, а на другой стороне под буквой ? дела несправедливого человека». И с согласия Евтидема они описывают ложь, обман, грабеж, обращение свободного человека в раба на стороне дел несправедливого человека. Теперь Сократ спрашивает: «Ну, а если военачальник покоряет враждебное государство, то не будет ли это справедливым делом?» Евтидем отвечает: «Да». Сократ: «И также если он обманывает врага, грабит, обращает его в раба?» Евтидем должен признаться, что это тоже справедливо. Оказывается, таким образом, «что те же самые качества должны быть признаны и справедливыми, и несправедливыми». Здесь Евтидему приходит на ум прибавить еще один признак: он полагал, что Сократ разумеет, что эти дела направлены лишь против друзей; против них эти дела несправедливы. Сократ принимает это новое определение, но продолжает: если военачальник, видя, что его собственная армия начинает поддаваться страху в решающий момент сражения, обманывает их для того, чтоб вести их к победе, и для этого лжет, уверяя, что к ним подходит помощь, не нужно ли называть этот поступок справедливым? Евтидем соглашается с этим. Сократ: «Если больной ребенок не хочет принять лекарство, а отец примешивает это лекарство в пищу, и ребенок благодаря этому выздоравливает, то справедливо ли это?» – Евтидем: «Да». – Сократ: «Будет ли несправедлив тот, который, видя, что впавший в отчаяние друг собирается лишить себя жизни, крадет у него его оружие или отнимает у него силой?» Евтидем должен признаться, что это тоже не несправедливо[126 - Xenoph., Memorab., IV, с. 2, § 11–17.]. Таким образом, здесь опять обнаруживается, что одни и те же поступки, даже по отношению к друзьям, должны быть записаны на обеих сторонах – как на стороне справедливых дел, так и на стороне несправедливых. Здесь мы видим, следовательно, что не лгать, не обманывать, не грабить, – тот образ действия, который наивное представление считает незыблемым, – является чем-то самопротиворечивым благодаря сравнению такого рода поступков с другим поступками, которые это наивное представление также признает истинными. Так эта иллюстрация нам поясняет определено, каким образом, благодаря мышлению, желающему удержать всеобщее лишь в форме всеобщего, начинает колебаться особенное.
?. То положительное, которое Сократ ставит на место сделавшегося сомнительным незыблемого, чтобы сообщить всеобщему содержание, есть частью снова подчинение закона, а именно форма непоследовательного мышления и представления; но так как эти определения неудовлетворительны для понятия, то, с другой стороны, это есть правильное усмотрение, в котором непосредственно положенное теперь должно себя оправдать также и в посредствующем отрицании как определенность, вытекающая из конструкции целого. Но частью мы этого правильного усмотрения как раз и не находим у Сократа, и оно остается неопределенным по своему содержанию, частью же оно, как реальность, представляет собою случайность, состоящую в том, что всеобщие заповеди, например «не убий», связываются с особым содержанием, которое как раз и является условным. Имеет ли или не имеет силу общее правило в этом особенном случае, зависит, следовательно, от обстоятельств, и правильное усмотрение именно и состоит в отыскании таких условий и обстоятельств, благодаря которым возникают исключения из этого безусловного закона; но так как благодаря случайности приводимых иллюстраций исчезает также и незыблемость всеобщего принципа, ибо он сам выступает лишь как особенное, то сознание Сократа становится чистой свободой, парящей над каждым определенным содержанием. Эта свобода, не оставляющая содержания таким, каким оно в своей рассеянной определенности имеет силу для наивного сознания, но пропитывающая его всеобщим, – эта свобода есть реальный дух, который как единство всеобщего содержания и свободы, есть подлинно истинное. Если, следовательно, мы здесь пристальнее начнем рассматривать вопрос о том, что есть истинное для этого сознания, то мы здесь перейдем к рассмотрению того, как сам Сократ представлял себе реализацию всеобщего.
Уже необразованный ум не следует содержанию своего сознания, каким оно представляется ему в последнем, а в качестве духа сам исправляет вместе с тем то, чт? неправильно в его сознании, и он, таким образом, свободен в себе, хотя и несвободен для себя, как сознание. А именно, если это сознание и провозглашает, как свою обязанность, всеобщий закон «не убий», то все же это же самое сознание, если только в нем не обитает робкий дух, будет смело набрасываться на неприятелей и убивать их. Если здесь зададут вопрос, существует ли заповедь убивать своих врагов, мы получим утвердительный ответ; и такой же положительный ответ мы получим в том случае, когда палач убивает преступника. Но если оно враждебно столкнулось с кем-либо из-за частного спора, ему не придет на ум эта заповедь убивать своего врага. Мы можем, следовательно, называть духом именно то, что в?-время заставляет прийти ему на ум одно и в?-время – противоположное; это – дух, но это некое бездуховное сознание. Первым шагом на пути к тому, чтобы этот дух стал духовным сознанием, является отрицательная сторона, приобретение свободы своего сознания. Ибо желая доказать отдельные законы, сознание исходит из определения, под которое, как под всеобщее основание, подводится определенная обязанность, но само это основание не есть что-либо абсолютное и подпадает той же диалектике. Если, например, умеренность повелевается том основании, что неумеренность подрывает здоровье, то здоровье есть то последнее, которое признается здесь абсолютным; но последнее тоже не является чем-то абсолютным, так как существуют другие обязанности, повелевающие подвергать опасности свою жизнь и даже жертвовать ею. Так называемые коллизии суть не что иное, как именно то, что обязанность, которую объявляют абсолютной, оказывается не абсолютной; в этом постоянном противоречии вращается мораль. Для сознания, достигшего последовательности, закон есть вообще упраздненное, потому что он в этом случае сведен со своей противоположностью. Ибо положительная истина еще не познана в ее определенности. Но познать всеобщее в его определенности, – т. е. ограничение всеобщего, появляющееся таким образом, что оно прочно, а не становится случайным, – возможно лишь во всей связи системы действительности. Если, следовательно, у Сократа и появляется одухотворение содержания, то все же произошло только то, что многообразные самостоятельные основания заменили собою многообразные законы. Ибо правильное усмотрение еще не провозглашено существенным усмотрением этих оснований, покоряющим их себе, а истиной сознания является лишь само движение этого же чистого усмотрения. Но истинным основанием является дух, а именно народный дух – правильное усмотрение строя народа и связи индивидуума с этим реальным всеобщим духом. Законы, нравы, действительная государственная жизнь имеют в себе корректив к этой непоследовательности, заключающийся в том, что определенное содержание провозглашается абсолютным. В обиходной жизни мы лишь забываем об этом ограничении всеобщих правил поведения, и они все же остаются для нас незыблемыми; но другой стадией является осознание этого ограничения.
Если мы вполне сознаем, что в области действительных поступков определенная обязанность и соответствующее ей поведение являются недостаточными, а каждый конкретный случай представляет собою, собственно говоря, коллизию многообразных обязанностей, которые моральный рассудок отличает друг от друга, но которые дух рассматривает как не абсолютные, а связывает их между собою в единстве своего решения, – то мы называем эту чистую решающую индивидуальность, – знание того, каково в данном случае правое решение, – совестью, точно так же, как чисто всеобщее в сознании, не особенное сознание, а сознание каждого человека называется долгом. Обе содержащиеся в сознании стороны – всеобщий закон и решающий дух, который в своей абстрактности есть деятельный индивидуум – необходимо присутствуют также и в сознании Сократа, как содержание и власть над этим содержанием. А так как именно у Сократа особенный закон стал шатким, то вместо всеобщего единого духа, который представлял собою у греков бессознательный акт определения посредством нравов и обычаев, выступил теперь единичный дух как решающая индивидуальность. У Сократа, следовательно, решающий дух переносится в субъективное сознание человека, так как исходная точка решения берет свое начало у отдельного человека из него самого, и вопрос здесь раньше всего в том, как эта субъективность проявляется у самого Сократа. Так как решающим становится лицо, индивидуум, то мы таким образом возвращаемся к Сократу, как к лицу, к субъекту, и то последующее, что мы скажем ниже, есть развитие его личных отношений. Но так как нравственное здесь опирается вообще на личность Сократа, то здесь выступает случайная природа образования, получаемого из общения с Сократом, через посредство его характера, который, собственно, и есть то незыблемое, на котором также и общающийся с Сократом укрепляется благодаря тому существенному, что давалось, и привычке, так что, как говорит в одном месте Ксенофонт, «его общение со своими друзьями было для них в целом очень благодетельно и поучительно; но многие другие сделались потом неверными Сократу»[127 - Xenoph., Memorab., IV, с. 1, § l; c. 2, § 40.], ибо не каждый приобретает правильное усмотрение, и даже обладающий последним может застрять в отрицательном. Воспитание, получаемое гражданами в государстве, жизнь среди своего народа является в индивидууме силой совершенно другого порядка, совершенно иначе формирующей его, чем основания; как бы истинно образовательным ни было общение с Сократом, все же здесь оказалась случайность. Таким образом, мы видим, что любимцы Сократа, люди, одаренные гениальными природными способностями, как, например, Алкивиад, этот игравший афинянами гений легкомыслия, и Критий, самый деятельный из тридцати тиранов, играли затем такую роль, что их считали в их отечестве изменниками и врагами своих сограждан (Алкивиад) или притеснителями и тиранами государства (Критий). Они жили согласно принципу субъективного разумения и, таким образом, бросали дурной свет на Сократа, ибо здесь обнаруживается, что сократовский принцип в другой форме принес гибель греческой жизни[128 - Ср. Xenoph., Memorab., I, с. 2, § 12–16 sqq.].
c. Нужно еще сказать о той своеобразной форме, в которой эта субъективность – эта решающая внутренняя уверенность – выступает у Сократа. Так как именно здесь каждый обладает таким собственным духом, который ему представляется его духом, то мы видим, что с этим находится в связи то, что известно под именем гения (?????????) Сократа, ибо этот гений именно и означает, что человек теперь решает из себя, согласно своему разумению. Но, рассматривая знаменитого гения Сократа, это странное представление Сократа, которое вызвало так много пустой болтовни, нам не должно приходить на ум ни представление о духе-покровителе, ангелах и т. д., ни также совесть. Ибо совесть есть представление всеобщей индивидуальности, уверенного в самом себе духа, который вместе с тем есть всеобщая истина. Но демон Сократа есть скорее совершенно необходимая, дополняющая его всеобщность другая сторона, а именно единичность духа, которая была осознана в такой же мере, как и первая. Его чистое сознание стояло выше обеих сторон. Недостаток, которым страдает всеобщее, заключающийся в его неопределенности, сам восполнен недостаточно, единичным образом, так как решение, принимавшееся Сократом изнутри, носило своеобразную форму бессознательной понудительности. Гений Сократа есть не сам Сократ, не его мнение и убеждение, а оракул, который вместе с тем не представляет собою чего-то внешнего, а является чем-то субъективным, есть его оракул. Этот субъективный голос носил форму знания, которое вместе с тем было связано с бессознательностью, знания, которое может при других обстоятельствах появиться также и как магнетическое состояние. На одре смерти, в состоянии болезни, каталепсии может случиться, что человек познает связи событий, знает то имеющее произойти в будущем или происходящее теперь, что, согласно понятным связям вещей, совершенно скрыто от него. Это – факты, которые часто примитивно отрицают без всяких оговорок. То обстоятельство, что у Сократа мы встречаем в бессознательной форме то, что обыкновенно имеет место на новании рассудительного обдумывания, выступает поэтому перед нами как своеобразие Сократа, как откровение, которым обладает данный, единичный человек, а не так, как оно есть поистине. Благодаря этому данный факт получает, правда, видимость чего-то воображаемого; однако мы должны не искать в нем никаких фантастических представлений или суеверий, а видеть здесь необходимое явление; только Сократ не познавал этой необходимости, а этот момент предстоял его представлению лишь в общем виде.
В связи с последующим мы должны еще ближе рассмотреть отношение этого гения к ранее существовавшим формам решения и то, к чему он предназначал Сократа. Об этих двух пунктах Ксенофонт высказывается самым определенным образом. Так как точкой зрения греческого духа была незадумывающаяся, бесхитростная нравственность, в которой человек еще не определял себя к действию из себя, и еще меньше существовало то, чт? мы называем совестью, а законы по своей основе еще рассматривались как традиция, то они носили форму установлений, санкционированных богами. Мы знаем, что хотя греки и имели законы, на основании которых они составляли свое суждение, они все же должны были, с другой стороны, принимать решения относительно непосредственных случаев как в частной, так и в государственной жизни. Но в этих случаях греки при всей их свободности еще не руководствовались в своих решениях субъективной волей. Военачальник или сам народ еще не принимал на себя ответственности за решение вопроса о том, чт? в данном случае полезнее для государства, и точно так же не принимало на себя ответственности и отдельное лицо в своих семейных делах. В отношении этих решений греки прибегали к оракулам, жертвенным животным, предсказателям или, как в особенности римляне, искали совета в полете птиц. Полководец, желавший дать сражение, должен был черпать свое решение во внутренностях жертвенных животных, как мы это часто находим в «Анабазисе» Ксенофонта. Павсаний мучается таким образом в продолжение целого дня, раньше чем отдать приказ начать сражение[129 - Herodot, IX, 33 sqq.]. То обстоятельство, что, таким образом, народ еще не решает сам, а дает определять свои решения внешнему факту, составляло существенное условие греческого сознания; как и вообще оракулы нужны всюду, где человек еще не знает своей внутренней жизни, достаточно независимой и свободной, чтобы как у нас, черпать свои решения лишь из самого себя. Эта субъективная свобода, еще не существовавшая у греков, есть то, чт? мы разумеем в настоящее время, говоря о свободе; когда мы дойдем до рассмотрения платоновского государства, мы еще более в этом убедимся. Что мы хотим стоять за то, чт? мы делаем, – это черта современной эпохи; мы хотим принимать решения, руководясь основаниями благоразумия, и считаем эти основания чем-то окончательным. Греки еще не обладали сознанием этой бесконечности.
В первой книге «Воспоминаний» Ксенофонта (гл. 1, §§ 7–9) Сократ, защищая себя от обвинений по поводу своего демона, с самого начала говорит: «Боги сохранили для себя знание наиболее важного. Архитектура, земледелие, кузнечество и т. д. суть человеческие искусства, и точно так же являются таковыми искусство управления государством, счет, ведение домашнего хозяйства, ведение войн. Во всех этих искусствах человек может достигнуть большого совершенства, но для достижения знания наиболее важного необходимо искусство предсказания. Засевающий поле не знает, кто будет есть выросший на нем хлеб; строящий дом не знает, кто в нем будет обитать; полководец не знает, удастся ли ему повести свои войска к сражению; стоящий во главе государства не знает, полезно ли это ему» (стоящему во главе) «или опасно, и тот, кто женится на красивой женщине, не знает, доставит ли ему радость эта женитьба, не возникнут ли для него из этого поступка печали и страдания, и тот, кто имеет могущественных родственников в государстве, не может знать, не придется ли ему из-за них быть изгнанным из государства. Вследствие этого неведения нам приходится прибегать к искусству предсказания». Об этом искусстве Ксенофонт (вышеук. соч., §§ 3–4) говорит, что оно проявляется различным образом; посредством оракулов, жертвоприношений, полета птиц и т. д.; для Сократа же этим оракулом был его демон. Считать предвидение человеком будущего в сомнамбулическом состоянии или перед смертью и т. д. более высоким разумением это – превратная точка зрения, часто встречающаяся также и в наших представлениях; однако при более близком рассмотрении оказывается, что эти предсказания касаются только частных интересов единичных лиц, и знание права и нравственности есть нечто гораздо высшее. Если кто-нибудь хочет жениться или построить дом и т. д., то результат этого шага имеет значение только для данного индивидуума. Истинно божественным, всеобщим является учреждение самого земледелия, государства, брака и т. д.; знать, погибну ли я или не погибну, если поеду на таком-то корабле, по сравнению с этим представляет собою нечто маловажное. Демон Сократа тоже проявлялся в нем не чем иным, как советами относительно таких частных результатов, например, советами относительно того, должны ли его друзья отправиться путешествие и когда они должны это сделать. Чего-нибудь истинного, в себе и для себя сущего в искусстве и науке он не касался; это принадлежало для него области всеобщего духа. Таким образом, демонические откровения гораздо малозначительнее, чем откровения его мыслящего духа. Всеобщее содержится также и в этих демонических откровениях, ибо умный человек часто может предвидеть, стоит или не стоит поступать так-то и так-то; но то, что поистине божественно, принадлежит каждому, и хотя талант и гений являются личными особенностями, они все же истинны лишь в их произведениях, а последние всеобщи.
Так как у Сократа внутреннее решение только что начало отделяться от внешнего оракула, то было необходимо, чтобы это возвращение в себя появилось здесь при его первом выступлении еще в физиологической форме. Демон Сократа стоит, таким образом, посредине между внешним откровением оракула и чисто внутренним откровением духа; он есть нечто внутреннее, но именно таким образом, что он представляет собой особого гения, отличного от человеческой воли, но еще не ум и произвол самого Сократа. Более пристальное рассмотрение этого гения показывает нам поэтому форму, приближающуюся к сомнамбулизму, к раздвоенности сознания, и у Сократа, по-видимому, мы явно находим нечто вроде магнетического состояния, ибо он, как мы уже упомянули, часто впадал в оцепенелость и каталепсию. В новейшее время мы встречаем это состояние в форме неподвижности глаз, внутреннего знания, видения того или другого факта, прошедшего, наиболее выгодного способа действия и т. д., но наук магнетизм не двигает вперед. В демоне Сократа мы, таким образом, должны видеть состояние, действительно имевшее место, и оно замечательно тем, что не было болезненным, а необходимо требовалось стадией сознания Сократа. Ибо центральным пунктом всего всемирно-исторического поворота, составляющего сократовский принцип, является то, что место оракулов заняло свидетельство духа индивидуумов и что субъект взял на себя акт принятия решения.
3. Говоря об этом демоне Сократа, как об одном из главных пунктов его обвинения, мы вступаем в круг его судьбы, кончающейся его осуждением. Мы можем находить, что эти его судьбы находятся в противоречии с его делом, состоящим в том, чтобы учить своих сограждан добру; но связывая их с тем, чем был Сократ и чем был его народ, мы поймем необходимость этих судеб. Современники Сократа, выступившие его обвинителями перед афинским народом, рассматривали Сократа как человека, приводившего к сознанию неабсолютность того, что признается существующим в себе и для себя. Сократ же со своим новым принципом и в качестве афинского гражданина, занимавшегося этого рода наставлением, вступил, благодаря своей личности, в отношение ко всему афинскому народу, именно в отношение не только к массе или властвующей массе, а в живое отношение к духу афинского народа. Дух же этого народа, взятый в себе, его государственный строй, вся его жизнь покоились на нравственности, на религии и не могли существовать без этого само в себе и для себя незыблемого. Следовательно, так как Сократ перенес истину в решение внутреннего сознания, то он вступил в антагонизм к тому, что признавал правым и истинным афинский народ. Выставленные против него обвинения были поэтому справедливы, и нам остается еще рассмотреть эти пункты обвинения, равно как и дальнейшие судьбы Сократа. Нападки, которым он подвергался, общеизвестны и были двоякого рода: на него нападал Аристофан в своей комедии «Облака», и затем он был формально обвинен перед народом.
Аристофан понял сократовскую философию с той отрицательной стороны, что благодаря образованию, даваемому рефлектирующим сознанием, заколебались законы, и мы не можем оспаривать правильности этого понимания. Это сознание Аристофана об односторонности Сократа может рассматриваться как пролог драмы, и, действительно, афинский народ также понял отрицательный метод Сократа и осудил его на смерть. Известно, что Аристофан выводил на сцену не только Сократа, но и других современников, выводил не только, например, Эсхила и в особенности Еврипида, но также и афинян вообще, их полководцев, олицетворенный афинский народ и даже самих богов, словом, позволял себе такую свободу, существование которой нам и в голову не пришло бы допускать, если бы она не была исторически удостоверена. Здесь не место рассматривать особенный характер аристофановской комедии, а также в частности злую волю, которую он проявил по отношению к Сократу. Во-первых, это нас вообще не должно удивлять, и нам не нужно поэтому ни оправдывать Аристофана, ни даже приводить смягчающие вину обстоятельства. Аристофановская комедия есть сама по себе такая же существенная составная часть жизни афинского народа, и Аристофан есть столь же необходимая фигура, какою были возвышенный Перикл, легкомысленный Алкивиад, божественный Софокл и моральный Сократ, ибо и он принадлежит к этому созвездию. Мы можем только сказать, что нашей немецкой серьезности, конечно, противоречит то явление, что Аристофан, называя их собственными именами, выводит на сцену живых людей, чтобы сделать их смешными; в особенности же тогда, когда это делает по отношению к такому честному человеку, как Сократ.
Хронологическими соображениями хотели доказать, что аристофановское изображение Сократа не повлияло на осуждение последнего. Как видно из предыдущего, мы, с одной стороны, признаем, что с Сократом поступили совершенно несправедливо, но затем мы признаем также достоинство Аристофана, который в своих «Облаках» был совершенно прав. Этот поэт, ожесточенно предавший Сократа осмеянию, сделав из него комичнейшую фигуру, не является, таким образом, обыкновенным шутом и плоским остряком, осмеивающим самое святое и прекрасное и ради своего остроумия жертвующим всем, чем угодно, лишь бы вызвать смех у афинян. Нет, все это имело для него более глубокое основание, и в основании его шуток лежит глубокая серьезность. Он не хотел просто осмеивать, а осмеивать то, что достойно уважения, было бы к тому же пошло и плоско. Жалко то остроумие, которое не является существенным, не зиждется на противоречиях, заключающихся в самом предмете; Аристофан же не был плохим острословом. Вообще невозможно привязать извне насмешку к тому, что не имеет в самом себе насмешки над самим собою, иронии над собою. Ибо комическое состоит в том, чтобы показывать, как человек или предметы разлагаются в самих себе, и если предмет не есть в самом себе свое собственное противоречие, то комизм является поверхностным и беспочвенным. Если поэтому Аристофан насмехается над демосом, то в основании этих насмешек лежит глубокая политическая серьезность, и из всех его пьес мы убеждаемся, каким благородным, превосходным, истинно афинским гражданином он был. Мы видим, следовательно, перед собою большого патриота, который не побоялся посоветовать в одной из своих пьес заключить мир, хотя за это была назначена смертная казнь. В этой пьесе, проникнутой рассудительным патриотизмом, изображено блаженное самоуверенное самодовольство народа, восхваляющего самого себя. Самоуверенность человека, делающего что-то со всей серьезностью и получающего всегда противоположное тому, к чему он стремится, причем он не впадает ни в малейшее сомнение и не задумывается над собою, а остается совершенно уверенным в себе и в своем деле, – такая самоуверенность комична. Зрелищем этой-то стороны свободного афинского духа, этого полнейшего довольства собой, этой невозмутимой уверенности в самом себе при всех непосредственных неудачах и неосуществившихся надеждах, – зрелищем этого высшего комизма мы наслаждаемся в пьесе Аристофана.
В «Облаках» мы видим, правда, не это наивно комическое, а определенный, намеренный протест. Аристофан дает комическое изображение Сократа, причем комизм состоит в том, что он своими моральными усилиями осуществляет противоположное тому, к чему он стремится, и что его ученики радуются разумным открытиям, которые они сделали благодаря ему и которые они считают своим счастьем, но эти открытия оказываются затем для них очень неприятными и противоположными тому, что они предполагали. Превосходным открытием, которое, по изображению в комедии, здесь делают ученики Сократа, является именно усмотрение ничтожности законов определенного добра, как их признает истиной наивное сознание. Аристофан при этом откалывает разные шутки, вроде того, что Сократ занимался основательным исследованием вопроса, как высоко прыгают блохи, и он, поэтому прилеплял воск к их ногам. Это исторически неверно, но несомненно, то, что в сократовской философии была сторона, которую Аристофан здесь с горечью выдвинул. Фабула «Облаков» вкратце состоит в следующем. Стрепсиаду, честному афинскому гражданину старого покроя, причиняет большие неприятности его новомодный расточительный сын, которого избаловали мать и дядя. Этот сын держит лошадей и ведет несоответственный своему состоянию образ жизни. Отец поэтому терпит много неприятностей от кредиторов, и чтобы избавиться от этой своей беды, он идет к Сократу и делается его учеником. Тут старик научается тому, что не то-то и то-то, а другое справедливо, или, вернее, он научается пользоваться сильными (????????) и слабыми доводами (????? ?????). Он научается диалектике законов: например, каким образом можно доводами добиться того, чтобы не платить своих долгов; он заставляет затем своего сына также пойти учиться у Сократа, и последний преподает также и сыну свою обычную премудрость. Но исполнение опустошенного сократовской диалектикой всеобщего совершается при посредстве частного интереса или дурного духа Стрепсиада и его сына, каковой дурной дух является лишь отрицательным сознанием содержания законов. Снабженный этой новой премудростью доводов и отыскивания доводов Стрепсиад теперь вооружен против главного зла, которое его давит, против кредиторов, ищущих с него своих денег. Последние и приходят вскоре один за другим, чтобы получить свой долг, но Стрепсиад умеет кормить их хорошими доводами и рассуждениями, успокаивая их всякого рода titulos и доказывая им, что он не должен им платить; он даже насмехается над ними и очень доволен, что научился всему этому у Сократа; но вскоре положение меняется: сын приходит, ведет себя очень дерзко по отношению к отцу и, наконец, даже наносит ему побои; отец необыкновенно возмущен этим, как последней подлостью, но сын доказывает ему такими же хорошими доводами, согласно методу, которому он научился у Сократа, что он имеет полное право бить его. Комедия кончается тем, что Стрепсиад проклинает сократовскую диалектику, возвращается к своему старому образу жизни и поджигает дом Сократа. Преувеличение, в котором можно было бы обвинить Аристофана, состоит в том, что он довел эту диалектику до всех горьких ее выводов. Но нельзя, однако, сказать, что он этим изображением поступил несправедливо по отношению к Сократу. Следует даже удивляться глубокомыслию Аристофана, который распознал отрицательную сторону диалектики Сократа и, – разумеется, по-своему, – изобразил ее такой уверенной рукой. Ибо решение при методе Сократа всегда переносится в субъект, в совесть, а где последняя дурна, всегда должна повторяться история Стрепсиада.
Что касается формального обвинения Сократа перед народом, то мы не должны сказать, как это говорит Теннеман (т. II, стр. 39 и сл.) о судьбе Сократа: «Возмутительно для человечества, что этот превосходный человек должен был выпить чашу с ядом, пав жертвой интриг, которые так часто встречаются в государствах с демократической формой правления. Такой человек, как Сократ, который единственной руководящей нитью своего поведения сделал право» (о праве вообще нет речи, а спрашивается: какое право? – ответ: право моральной свободы) «и не отступал ни шагу от правого пути, необходимо должен был сделать себе врагами многих людей» (почему? Это глупо; это моральное лицемерие, желающее быть лучше других людей, которых затем называет своими врагами), «которые привыкли действовать по совершенно иным мотивам. Если вспомним о нравственной порче и о правительстве тридцати тиранов, то приходится ведь удивляться, что он мог беспрепятственно продолжать свою деятельность до семидесяти лет. Но так как даже тридцать тиранов не осмелились наложить на него руки, то тем более удивительно, что при вновь восстановленном правовом правительстве и свободе после ниспровержения деспотизма» – именно поэтому афиняне осознали опасность, в которой находился их принцип – «такой человек, как Сократ, мог сделаться жертвой интриг. Это явление, вероятно, объясняется тем, что врагам Сократа сначала нужно было выиграть время, чтобы получить приверженцев, что сами они при правительстве тридцати тиранов играли слишком незначительную роль и т. д.». – Что касается процесса Сократа, то мы в нем должны различать две стороны: одной стороной является содержание обвинения и осуждение судом; другой стороной является отношение Сократа к суверенному народу. В ходе процесса есть, следовательно, два аспекта: отношение обвиняемого к содержанию того, в чем он обвинялся, и его отношение к компетенции народа или признание верховенства последнего. Сократ был признан судьями виновным в отношении содержания обвинительной жалобы, но к смерти он был осужден потому, что он отказался признать компетенцию и верховенство народа над обвиняемым.
a. Обвинительная жалоба состояла из двух пунктов: «Сократ не почитает богами тех богов, которых считает таковыми афинский народ, и вводит новых богов; он, кроме того, развращает молодежь»[130 - Xenoph., Apologia Socrat., § 10; Memorab., I, с. 1, § 1; Plat., Apologia Socrat., p. 24 (p. 104).]. Развращение молодежи заключается в том, что он колеблет в их глазах то, что пользуется непосредственным признанием. Первое обвинение основано отчасти на том же самом, ибо он точно так же приводит к разумению, что богам приятно не то, чт? обыкновенно считается таковым; отчасти же это обвинение находится в связи с его демоном. Это не значит, что он выдавал указанного демона за своего бога, но у греков решение, которое принимал отдельный индивидуум, считалось случайностью данного индивидуума, и поэтому, подобно тому, как случайные обстоятельства представляют собою внешнее, так они превращали случайность решения в нечто внешнее, т. е. спрашивали совета у своих оракулов; это – сознание, что сама единичная воля есть нечто случайное. Сократ же, который перенес случайность решения в самого себя, так как он обладал своим демоном в своем сознании, этим самым упразднил внешнего всеобщего демона, в которого греки переносили свое решение. Эту обвинительную жалобу, равно как и самозащиту Сократа, мы теперь рассмотрим ближе. Ксенофонт изображает нам и то и другое, да и Платон дал нам «Апологию». Но и при этом рассмотрении мы не должны останавливаться на том, что Сократ был превосходным человеком, пострадавшим невинно и т. д., а должны иметь в виду, что в этой обвинительной жалобе афинский народный дух выступил против принципа, сделавшегося для него гибельным.
?. Что касается первого пункта обвинительной жалобы, а именно того, что Сократ не почитает отечественных богов и вводит вместо них новых богов, то Ксенофонт[131 - Apologia Socrat., § 11–13; Memorab., I, с. 1, § 2–6; 19.] дает ему ответить на это обвинение, что он всегда приносил, как и все другие, те же самые жертвы на общественных алтарях. Это видели все его сограждане, и его обвинители также могли это видеть. Что же касается того, что он вводит новых демонов, – обвинения, выдвинутого против него потому, что ему является голос божий, указывающий ему, что он должен сделать, – то он должен сослаться на то, что и предсказатели также считают божественными возвещениями крик и полет птиц, изречения людей (как, например, голос пифии), положение внутренности жертвенных животных и даже гром и молнию. Что бог знает наперед будущее и, если это ему угодно, указывает это будущее вышеизложенными способами, это признают все так же, как и он. Но бог может также и другими способами открывать людям будущее. Что он не лжет, утверждая, что он слышит голос божий, это он может доказать свидетельствами своих друзей, которым он часто объявлял совет, данный демоном, и успех всегда подтверждал верность этого совета. Ксенофонт (Memorab., I, с. 1, § 11) прибавляет к этому: «никто никогда не видел, чтобы Сократ делал нечто безбожное или несвятое, и никто никогда не слышал, что он говорил подобное, ибо никогда он не исследовал природу вселенной, подобно большинству других, исследующих, каким образом возник так называемый софистами мир». Именно эти исследования породили предшествовавших атеистов, которые подобно Анаксагору считали солнце камнем[132 - Plat., Apol. Socrat., p. 26 (p. 108–109).].
Действие, которое произвела на судей самозащита Сократа против этой части обвинения, Ксенофонт[133 - Apologia Socrat., § 14 (cf. Memorab., I, c. 1, § 17).] выражает следующими словами: «ими овладело беспокойство, одними потому, что они не верили тому, что говорил Сократ, а другими из зависти, что боги удостоили его чем-то более высоким, чем их самих». Это действие очень естественно. В наши дни в таких случаях также происходит одно из двух. Либо не верят тому, который хвалится, что он получает особые откровения, и именно такие откровения, которые касаются дел или судеб отдельных лиц, – не верят вообще, что бывают такие откровения, и не верят в частности, что именно этот субъект получал их. Или если кто-нибудь начинает заниматься такими предсказаниями, то ему справедливо запрещают заниматься этим ремеслом и его запирают в тюрьму. При этом не отрицают вообще, что бог все знает наперед, и не отрицают также, что он может открывать это будущее отдельному лицу; это признают in abstracto, но не в действительности, и не верят этому ни в одном отдельном случае. Ему не верят, что он, данное отдельное лицо, получил откровение. Ибо почему ему больше, чем другим? И почему ему были открыты именно эти ничего не стоящие вещи совершенно частного характера, – совершит ли, скажем, счастливо такой-то и такой-то свое путешествие, будет ли он общаться с таким-то и таким-то, будет ли успешна его защитительная речь перед его судьями? И почему были ему открыты именно эти происшествия среди бесконечно многих происшествий, которые могут иметь место у отдельного лица? Почему ему не были открыты гораздо более важные вещи, касающиеся блага целых государств? Таким образом, не верят в этом отношении отдельному лицу, невзирая на то, что если такие предсказания возможны, их ведь должно сделать отдельное лицо. Эти неверящие, которые, таким образом, не отрицают общего и общей возможности, но не верят этому ни в каком отдельном случае, на самом деле не верят истинности и действительности самой вещи. Они бессознательно не верят в это потому, что абсолютное сознание, – а ведь именно такое дает откровение, – во-первых, не знает вообще, как о чем-то положительном, о таких ничтожных вещах, каковым является предмет этих предсказаний и также предмет предсказаний Сократа, ибо в духе такого рода вещи суть непосредственно нечто исчезнувшее, ничтожное. А затем абсолютное сознание не знает о будущем, как о таковом, точно так же как оно не знает о прошлом; оно знает лишь о настоящем. Но так как в его настоящем, в его мышлении выступает также противоположность будущего и прошлого к настоящему, то оно знает также и о будущем и прошлом, но оно знает о прошлом, как об оформленном. Ибо прошлое есть сохранение настоящего как действительности; будущее же есть противоположность этому, есть становление настоящего как возможности, представляет собою, следовательно, наоборот, бесформенное. Из этого бесформенного лишь всеобщее выступает в настоящем, облекается в форму; поэтому невозможно вообще созерцать форму в будущем. Мы смутно чувствуем, что если бог действует, то это не происходит партикулярным образом и не ради партикулярных предметов. Мы считаем такие вещи слишком ничтожными, чтобы бог открыл их в совершенно частном случае. Мы признаем, что бог определяет также и единичное, но вместе с тем понимаем под этим целокупность единичностей, или, иначе говоря, все единичности; поэтому говорят, что способ действия бога носит всеобщий характер.
В то время как у греков решение имело форму внешней случайности, положенной полетом и криком птиц, принятие решения в нашей культуре есть внутренняя случайность, так как я хочу сам быть этой случайностью, и знание индивидуума есть, следовательно, сознание этой случайности. Но если греки, для которых сторона случайности сознания была некоим сущим, некоим знанием ее, носящим характер оракула, обладали этой знающей индивидуальностью как всеобщим знанием, у которого каждый мог спрашивать совета, то у Сократа, у которого это знание, положенное извне, хотя и вступило, как у нас, в сознание, но вступило еще не сполна, а еще представлялось существующим голосом, существом, которое он отличал от своей индивидуальности, – то у Сократа принятие решения отдельной индивидуальностью имело поэтому видимость своеобразия и особенности, а не было всеобщей индивидуальностью; и этого его судьи, естественно, не могли переносить, все равно, верили ли они в его демона или нет. У греков, далее, такие откровения должны были иметь определенный характер; существовал как бы официальный оракул (не субъективные), как например, пифия, дерево и т. д. Поэтому, если у какого-нибудь особого, такого-то и такого-то обыкновенного гражданина появляются такие откровения, то это рассматривалось как нечто невероятное и неверное; но демон Сократа был именно другой формой откровения, чем та, которая признавалась в греческой религии. Тем замечательнее тот факт, что оракул дельфийского Аполлона, пифия, объявил Сократа мудрейшим из греков[134 - Plat., Apologia Socrat., p. 21 (p. 97).]. Именно Сократ исполнил завет ведающего бога: «познай самого себя» и сделал этот завет изречением греков, и притом в качестве закона духа, а не в качестве познания собственной партикулярности человека. Сократ, таким образом, является тем героем, который взамен указания дельфийского бога установил принцип: человек должен смотреть в себя, чтобы знать, чт? есть истина. Так как указанное изречение сделала сама пифия, то это означает переворот в греческом духе, переворот, состоящий в том, что место оракула теперь заняло собственное самосознание каждого мыслящего человека. Но эта внутренняя достоверность есть во всяком случае другой, новый бог, а не прежний бог афинян; таким образом, обвинительная жалоба против Сократа совершенно правильна.
?. Переходя дальше к рассмотрению второго пункта обвинения, гласившего, что Сократ развращает молодежь, то следует указать, что он против этого пункта тоже выставил следующее возражение: дельфийский оракул сказал, что нет ни одного человека, который был бы так справедлив, как благороден и так мудр, как Сократ[135 - Xenoph., Apologia Socrat., § 14.]. И затем он противопоставил этому обвинению всю свою жизнь. Соблазнил ли он хоть кого-нибудь – и в особенности тех, с которыми он общался – примером, который он им давал?[136 - Xenoph., Apologia Socrat., § 16–19; Memorab., I, c. 2, § 1–8.]. Таким образом, общее обвинение пришлось определить точнее, и выступили свидетели: «Мелит показал, что он знает юношей, которых Сократ убеждает слушаться его больше, чем своих родителей»[137 - Xenoph., Apologia Socrat., § 20; cf. Memorab., I, c. 2, § 49 sqq.]. Этот пункт обвинения поддерживался главным образом Анитом, а так как последний подтвердил его достаточными данными, то это обвинение во всяком случае было признано судьями доказанным. Сократ высказался об этом более определенно после ухода из суда. Ксенофонт (Apol. Socrat., § 27, 29–31) именно рассказывает, что Анит сделался врагом Сократа за то, что Сократ сказал Аниту, который был очень уважаемым гражданином, чтобы он своего сына не готовил в кожевники, а воспитывал его достойно свободного человека. Анит был сам кожевник, и, хотя работу исполняли большей частью рабы, все же в этом занятии самом по себе не было ничего дурного; выражение Сократа, следовательно, неправильно, хотя, как мы видели выше, оно в духе греческого образа мыслей. Сократ прибавил к этому, что он познакомился с указанным сыном Анита и открыл, что он обладает недурными задатками; но, предсказывает Сократ, он не останется при той рабской работе, при которой его удерживает отец. И так как вокруг него нет разумного человека, который занялся бы его воспитанием, то он впадет в дурные страсти и пойдет далеко по пути распутства; Ксенофонт прибавляет к этому, что предсказание Сократа буквально исполнилось, юноша предался пьянству, пил дни и ночи напролет и сделался совершенно дурным человеком. Это очень понятно, так как человек, чувствующий себя пригодным к чему-то лучшему (будет ли это его чувство истинно или ложно), и благодаря этому душевному разладу недовольный положением, которое он занимает, не имея вместе с тем возможности выбраться из него, именно благодаря этому недовольству начинает страдать половинчатостью, а затем вступает на дурной путь, который часто приводит людей к гибели. Пророчество Сократа, таким образом, совершенно естественно.
На более определенное обвинение в том, что он соблазняет сыновей к неповиновению родителям, Сократ отвечает вопросом: когда выбирают на государственные должности, например на должность военачальника, разве отдают предпочтение родителям, а не скорее тем, которые опытны в военном искусстве? Так и во всем остальном отдают предпочтение тем, которые лучше знают данное искусство или науку. Что же удивительного, что его обвиняют перед судом в том, что сыновья предпочли его своим родителям в отношении того, что для людей является высшим благом, т. е. в отношении воспитания, которое сделает их благородными людьми?[138 - Xenoph., Apologia Socrat., § 20–21; Memorab., I, с. 2, § 51–55; Plat., Apologia Socrat., p. 24–26 (р. 103–107).]. Этот ответ Сократа, с одной стороны, правилен; но мы тотчас же убеждаемся, что и здесь мы не можем назвать этот ответ исчерпывающим, ибо он, собственно говоря, не затрагивает истинного существенного пункта обвинения. То, чт? его судьи нашли несправедливым, – это моральное вмешательство третьего лица в абсолютные отношения между родителями и детьми. В общем об этом нельзя много сказать, ибо все зависит от способа этого вмешательства, и пусть оно в отдельных случаях и необходимо, все же, в целом, оно не должно иметь места, и менее всего оно должно иметь место в том случае, когда это позволяет себе случайное частное лицо. Дети должны обладать чувством единства с родителями; это – первое непосредственное нравственное отношение. Каждый воспитатель должен уважать это чувство, блюсти его в чистоте и развивать его. Поэтому если третий вмешивается в это отношение между родителями и детьми, и это вмешательство носит такой характер, что дети для их пользы отвращаются от доверия к родителям, причем им внушается мысль, что их родители – дурные люди, портящие их своим общением и воспитанием, то мы находим это возмутительным. Самым худшим, что может произойти с детьми в отношении к их нравам и сердцу, является ослабление или полный разрыв этой связи, которую всегда должно уважать, и превращение ее во вражду, презрение и недоброжелательство. Кто это делает, тот нарушает нравственность в ее существеннейшей форме. Это единство, это доверие есть материнское молоко нравственности, которым кормят человека до тех пор, пока он не вырастет; потеря родителей в раннем возрасте является поэтому большим несчастьем. Сын, равно как и дочь, должны, правда, вырваться из своего природного единства с семьей и сделаться самостоятельными; но это отделение от семьи должно быть, однако, не вынужденным, не насильственным, не должно быть враждебным и презрительным. Если в душу внесли такую боль, то нужны будут большая сила и уменье, чтобы преодолеть ее и залечить рану. Переходя теперь к случаю с Сократом, нужно сказать, что он, по-видимому, своим вмешательством привел к тому, что молодой человек сделался недоволен своим положением. Сын Анита, может быть, вообще находил свою работу неподходящей для себя; но совсем не то получается, если такое недовольство приводится к сознанию и подкрепляется авторитетом такого человека, как Сократ. Мы имеем право предположить, что своими беседами Сократ взрастил зародыш чувства неудовольствия, укрепил и развил это чувство. Сократ заметил его хорошие задатки, сказал ему, что он годится для чего-то лучшего, и таким образом укрепил разлад в душе молодого человека и усилил его недовольство своим отцом, которое, таким образом, сделалось причиной его гибели. Следовательно, и обвинение в том, что он разрушил связь между родителями и детьми, мы должны рассматривать не как напрасное, а как вполне обоснованное. Афиняне были поэтому очень недовольны Сократом и упрекали его за то, что он имел таких учеников, как Критий и Алкивиад, которые привели Афины почти на край гибели. Ибо если он вмешивался в воспитание, которое другие давали своим детям, то справедливо предъявить требование, чтобы ничего из того, чт? он хочет сделать для образования юношества, не оказалось обманчивым.