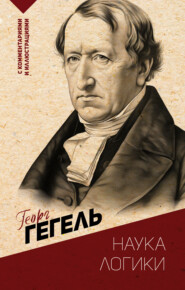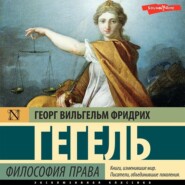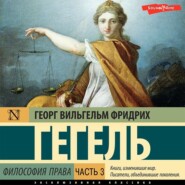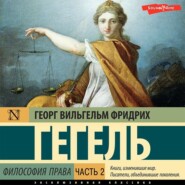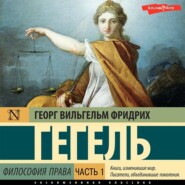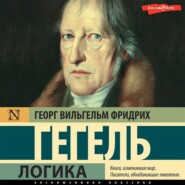По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лекции по истории философии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Платон затем продолжает: «Так как твердое нуждается в двух срединах, ибо оно обладает не только шириной, но и глубиной, то бог поместил между огнем и землей воздух и воду и поместил их именно в такой пропорции, что огонь относится к воздуху, как воздух к воде, и воздух относится к воде, как вода к земле»[221 - Plat., Timaeus, p. 32 (p. 28).]. Таким образом, перед нами здесь, собственно говоря, четыре фигурации пространства, когда точка через линию и поверхность сключена с твердым телом. Эта «разломанная средина», которую мы здесь находим, представляет собою, в свою очередь, важную мысль большой логической глубины, и встречающееся здесь число четыре является в природе главным основным числом. Как дифферентное, обращенное в направлении обеих крайностей, средина должна быть именно различенной в самой себе. Правда, в умозаключении, в котором бог есть первое, сын – второе (опосредствующее), а дух – третье, средина просто. Но причиной того, что то, чт? в разумном умозаключении есть лишь троица, превращается в природе в четверицу, является характер природного, так как именно то, что в мысли есть непосредственно единое, становится раздельным в природе. Но дабы в природе существовала противоположность как противоположность, последняя сама должна быть двойной; таким образом, когда мы сосчитываем, у нас получается четыре. Это имеет место также и в представлении о боге, ибо, применяя это представление к природе, у нас получается в качестве средины природа и существующий дух в качестве пути возвращения природы, а совершившееся возвращение есть абсолютный дух. Этот живой процесс, это различение и полагание различенных тожественными есть живой бог.
Платон говорит далее: «Через посредство этого единства был сделан видимый и невидимый мир. Благодаря тому, что бог дал последнему эти элементы полностью и нераздельно, этот мир совершенен, никогда не старится и не заболевает. Ибо старость и болезнь возникают лишь оттого, что на тело действует извне чрезмерное количество таких элементов. Но здесь этого нет, ибо мир сам содержит в себе полностью эти элементы, и ничего не может входить в него извне. Мир имеет форму шара» (как это также учит Парменид и пифагорейцы), «ибо шар есть наисовершеннейшая форма, содержащая в себе все другое. Он совершенно гладок, ибо для него нет ничего вне его и он не нуждается в членах». Конечность состоит в том, что имеется различие в отношении чего-то другого, имеется нечто внешнее для какого-нибудь другого предмета. В идее же содержится также и определение, ограничивание, различение, инобытие, но оно содержится в ней растворенным, замкнутым в едином. Таким образом, это различие, через которое никакая конечность не возникает, а сразу же снимается. Конечность находится, таким образом, в самом бесконечном. Это – великая мысль. «Бог сообщил миру наиболее соответственное из семи движений, а именно то, которое всего более подходит рассудку и сознанию, круговое движение. Шесть других движений бог отделил от него и освободил его от их неупорядоченной сущности» (от движения вперед и назад)[222 - Plat., Timaeus, p. 32–34 (p. 28–31).]. Это лишь сказано обще.
Дальше мы читаем: «Так как бог хотел сделать мир богом, то он ему дал душу и, поместив последнюю в средину, распространил затем по всему миру и окружил ею последний также и извне. Так бог произвел это самодовлеющее, не нуждающееся в каком-либо другом, само себе знакомое и дружественное существо. И таким образом бог, благодаря всему этому, родил мир как некоего блаженного бога». Мы можем сказать: только здесь, где мир, благодаря мировой душе, есть целостность, впервые имеется познание идеи; лишь этот порожденный бог, как средина и тожество, есть подлинно в себе и для себя сущее. Тот первый бог, который был только добром, есть, напротив, только предположение, и потому он не был ни определенным, ни определяющим самого себя. «Хотя мы и сказали о душе лишь в конце, она, однако, говорит Платон, не последняя, а это – только наш способ речи. Она – господствующее, царственное, а телесное послушно ей». В том, что Платон приписывает способу речи этот обратный порядок, обнаруживается его наивность; на самом же деле то, что здесь кажется случайным, в свою очередь необходимо, а именно необходимо начать с непосредственного и лишь затем перейти к конкретному. Мы также должны пойти по этому пути, но мы идем с сознанием, что когда мы говорим в философии о таких определениях, как бытие, или бог, пространство, время и т. д., мы говорим о них непосредственным образом, и само это содержание по своей природе сначала непосредственно и, значит, неопределенно внутри себя. Бог, например, с которого мы начинаем как с некоего непосредственного, доказан лишь в конце и доказан именно как подлинно первое. Можно, следовательно, как мы уже заметили выше, обнаружить в такого рода высказываниях допускаемую Платоном путаницу; но нам ведь важно только узнать, чт? истинного он вносит.
Платон показывает нам природу идей точнее в одном из самых знаменитых и глубоких мест «Тимея», в котором он в сущности души снова признает, собственно говоря, ту же самую идею, относительно которой он раньше утверждает, что она есть сущность телесного. Именно он говорит: «Душа была создана следующим образом. Из нераздельной и всегда остающейся одинаковой с собою сущности и из разделенной сущности, которая находится в теле, бог сделал третий род срединной сущности, которая обладает природой равного самому себе и природой иного». (Разделенное называется у Платона также и иным как таковым, или, иначе говоря, иным самого себя, а не иным какого-нибудь нечто.) «И таким же образом бог сделал душу срединой разделенного и неделенного». Тут снова появляются абстрактные определения единого, которое есть тожество многого и нетожественного, которое есть противоположность, различие. Когда мы говорим: «бог есть тожество тожественного и нетожественного», то кричат, что это варварство и схоластика. Но те самые, которые так отрицательно относятся к нашему положению, способны относиться к Платону с высокой похвалой; и, однако, он определил истину так же, как и мы. «И взяв эти три существа, положенные как различные, бог все соединил в одну идею, насильно вдвигая природу иного, с трудом поддающуюся смешению, в равное самому себе»[223 - Plat., Timaeus, p. 35 (p. 32).]. Полагание многого, сущего вне друг друга, как идеализированного, это несомненно насилие разума, и в том-то именно также и состоит насилие над рассудком, что ему предлагают согласиться с такого рода операцией.
Теперь Платон описывает, каким образом равное самому себе, как таковое, представляющее собою момент, а затем иное, или материя, и третье, представляющееся разложимым, не возвращающимся в первое единство объединением, – каким образом эти три момента, существовавшие вначале раздельно друг от друга, теперь рефлектируясь просто в себя и беря обратно начало, низводятся на положение моментов. «Смешав тожественное и иное с сущностью (?????)», с третьим моментом, «и сделав из всех трех одно, бог разделил это целое снова на столько частей, сколько подобало»[224 - Ibidem.]. Так как эта субстанция души тожественна с субстанцией видимого мира, то это единое целое лишь теперь впервые представляет собою систематизированную субстанцию, подлинную материю, разделенное внутри себя, абсолютное вещество, как некое пребывающее и нераздельное единство одного и многого, и нечего спрашивать о другой сущности. Способ деления этой субъективности содержит в себе знаменитые платоновские числа, которые, без сомнения, первоначально выдвинуты пифагорейцами, числа, над истолкованием которых ломали себе голову и античные, и новые авторы и даже еще и Кеплер в своем «Harmonia mundi», но которых никому еще не удалось понять. Понять их, – это означало бы две вещи: это означало бы, во-первых, распознать их спекулятивный смысл, их понятие. Но, как мы уже заметили раньше, рассматривая учение пифагорейцев, их числовые различия дают лишь неопределенное понятие различия, и даже это неопределенное понятие они дают лишь в первых числах. Там же, где отношения становятся запутаннее, указанные числа вообще неспособны ближе обозначать их. А затем, во-вторых, так как они являются числами, то они, в качестве таковых различий величин, выражают лишь чувственные различия. Им должна была бы соответствовать выступающая в явлении система величин, а всего чище и свободнее, не порабощенной качественным выступает величина в системе небесных тел. Однако сами эти живые числовые сферы суть системы многих моментов: они суть как величина расстояния, так и величина скорости, а также – и величина массы. Ни один из этих трех моментов, представленный как ряд простых чисел, не может отдельно быть сравнен с системой небесных сфер, ибо соответствующий последней ряд может содержать в себе в качестве своих членов лишь систему всех этих моментов. Если бы платоновские числа даже и были элементами каждой такой системы, то все же приходилось бы принимать во внимание не столько этот элемент, сколько соотношение моментов; это-то соотношение должно быть постигнуто как целое, и лишь оно есть подлинно интересное и разумное. Мы здесь должны кратко и чисто исторически указать главные черты этого ряда чисел. Основательнейшее исследование об этих числах дал нам Бёкк («Ueber die Bildung der Weltseele im Timaos des Platon») в третьем томе издаваемых Даубом и Крейцером «Studien» (стр. 26 и сл.).
Основной ряд является очень простым. «Сначала бог взял из целого одну часть; затем он взял вторую часть, вдвое б?льшую первой; третья часть в полтора раза больше второй или в три раза больше первой. Следующая часть вдвое больше второй. Пятая часть в три раза больше третьей. Шестая часть в восемь раз больше первой. Седьмая часть больше первой на двадцать шесть частей». Ряд, следовательно таков: 1; 2; 3; 4=2
; 9=3
; 8=2
; 27=3
. «Затем бог заполнил двойные и тройные интервалы» (отношения 1:2 и 1:3), «отрезая снова части от целого. Эти части он поместил в промежуточные пространства таким образом, чтобы в каждом из последних были две средины, из которых одна во столько же частей больше одного крайнего члена, во сколько частей она меньше другого, а вторая на такое же число больше одного крайнего члена, на какое число она меньше другого», т. е. первая образует непрерывную геометрическую пропорцию, а вторая – арифметическую. Первая средина возникает посредством квадратов, представляет собою, следовательно, например, при отношении 1:2, пропорцию 1:?2:2, а вторая при таком же отношении представляет собою число 1?. Благодаря этому возникают затем новые соотношения, которые, в свою очередь, вставляются в первые особо указанным Платоном и более трудным способом, вставляются, однако, так, что всюду кое-что отбрасывается, и последним численным соотношением является 256:243 или 2
:3
. – С этими числовыми соотношениями, однако, далеко не пойдешь, ибо они ничего не дают для спекулятивного понятия. Соотношений и законов природы нельзя выразить посредством таких скудных чисел. Эти числа являются эмпирическим соотношением, не составляющим основного определения в мерах природы. Платон говорит далее: «Весь этот ряд бог разорвал вдоль на две части, положил их друг на друга крестообразно, наподобие буквы X, согнул их концы, придав им форму круга, и окружил их равномерным движением, – движением, образующим внешний круг и внутренний круг. Движение внешнего круга есть круговращение подобного самому себе, а движение внутреннего круга – круговращение инобытия или не подобного себе, причем первый круг является господствующим, неделимым. Внутренний же круг он снова разделил в соответствии с вышеуказанными соотношениями на семь кругов, из которых три вращаются с одинаковой скоростью, а остальные четыре с неодинаковой скоростью как между собою, так и в сравнении с тремя первыми. Вот это – система души, и внутри души образовано все телесное. Она есть средина; она проникает собою целое, но вместе с тем объемлет его извне и движется в самой себе. Она носит, таким образом, в самой себе божественную основу непрекращающейся и разумной жизни»[225 - Plat., Timaeus, p. 35–36 (p. 32–34).]. Это – не совсем свободно от путаницы, и мы должны брать от этого изложения лишь ту общую мысль, что так как, согласно Платону, в представление о телесном универсуме уже входит душа как объемлющее этот универсум простое, то и сущность телесного и души составляет для него единство в различии. Это двойная сущность, положенная в себе и для себя в различии, систематизируется внутри единого во многие моменты, которые, однако, суть движения, так что как эта реальность, так и вышеуказанная сущность суть целое в противоположении души и телесности, и это целое в свою очередь едино. Дух есть то пронизывающее, которому телесное в такой же мере противоположно, в какой мере эта протяженность и есть он сам.
Таково определение души, которая помещена в мир и правит им, и поскольку субстанциальное, находящееся в материи, похоже на душу, постольку установлено их внутреннее тождество. Тот факт, что в ней содержатся те же самые моменты, которые составляют ее реальность, означает лишь следующее: бог, как абсолютная субстанция, не видит ничего другого, кроме самого себя. Платон поэтому описывает соотношение души к предметной сущности следующим образом: когда душа касается одного из моментов последней, касается либо делимой, либо неделимой субстанции, она, рефлектируясь в себя, обсуждает их, отличает чт? в этом соотношении составляет тожественное и различное, как, где и когда единичные соотносятся друг с другом и в всеобщим. «И когда круг чувственного, пройдя правильно свой путь, дает познать себя всей своей душе» (когда различные круги мирового движения являют себя соответственными с внутри-себя-бытием духа), «тогда возникают истинные мнения и правильные убеждения. А когда душа обращается к разумному, и круг подобного самому себе движения дает себя познать, тогда мысль завершается и становится наукой»[226 - Plat., Timaeus, p. 37 (p. 35).]. Это и есть сущность мира как блаженного внутри себя бога; лишь здесь завершается идея целого, и лишь в согласии с этой идеей появляется мир. До сих пор же выступила только сущность чувственного, а не чувственный уже мир, ибо хотя Платон говорил уже раньше (стр. 187) об огне и т. д. он, однако, там давал лишь сущность чувственного. Он поэтому поступил бы лучше, если бы не употреблял вышеуказанных выражений. Это и является причиной того, почему так кажется, что Платон как будто здесь снова начинает рассматривать с самого начала то, чт? он уже рассмотрел раньше. А именно, так как мы должны начинать рассмотрение с абстрактного, чтобы от него перейти к истинному, к конкретному, которое появляется лишь позже (см. выше стр. 188), то последнее, после того как оно найдено, получает снова видимость и форму начала, и это еще сильнее выступает у Платона благодаря его небрежному изложению.
Платон, продолжая дальше свое изложение, называет этот божественный мир также и образцом, который находится лишь в мысли (??????) и всегда остается равным самому себе. Но это целое противополагается снова себе таким образом, что существует некое второе целое, отображение первого, мир, в котором есть возникновение и который видим[227 - Plat., Timaeus, p. 48 (p. 57); p. 37–38 (p. 36–37).]. Это второе целое есть система небесного движения, а первое целое – вечно живое. Того, что имеет в себе возникновение и становление, нельзя сделать вполне одинаковым с первым целым, с вечной идеей. Но оно сделано движущимся образом вечного, остающимся в единстве; и этот вечный образ, движущийся согласно числу, есть то, чт? мы называем временем. Платон говорит о нем: обыкновенно мы называем «было» и «будет» частями времени и вносим в абсолютную сущность времени эти различия движущегося во времени изменения. Но истинное время вечно, или, иначе выражаясь, истинное время есть настоящее. Ибо субстанция не становится ни старше ни моложе, и время, как непосредственный образ вечного, также не имеет своими частями ни будущего, ни прошлого. Время идеально, подобно пространству; оно не представляет собой ничего чувственного, а есть тот непосредственный способ, каким дух появляется в предметной форме, есть чувственное нечувственное. Реальными моментами принципа в себе и для себя сущего движения во временном являются те моменты, в которых выступают изменения: «По постановлению и воле бога породить время возникло солнце, луна и пять других звезд, которые называются планетами. Эти звезды и служат для определения и сохранения численных соотношений времени»[228 - Plat., Timaeus, p. 48 (p. 57); p. 37–38 (p. 36–37).]. Ибо в них-то именно и реализованы числа времени. Таким образом, небесное движение, как представляющее собой истинное время, есть остающийся в единстве образ вечного, т. е. такой образ, в котором вечное сохраняет определенность равного самому себе. Ибо все находится во времени, т. е, именно в том отрицательном единстве, которое ничему не дает свободно вкорениться в нем и, стало быть, двигаться и быть движимым согласно случаю.
Но это вечное носит также характер другой сущности, идеи изменяющегося и блуждающего принципа, всеобщность которого составляет материя. Вечный мир имеет свое отображение в мире, принадлежащем времени, но существует, кроме последнего, еще и второй, которому изменчивость существенно имманентна. Подобное самому себе и другое суть самые абстрактные из всех тех противоположностей, которые прошли перед нами дотоле. Вечный мир, как помещенный во времени, имеет, таким образом, две формы: форму подобного самому себе и форму различного себя (Sich-Andern), блуждающего. Три момента, как они выступают в этой последней сфере, суть, во-первых, простая сущность, которая порождается, возникшее, или определенная материя; во-вторых, место, в котором она порождается; и, в-третьих, то, в чем порожденное имеет свой прообраз. Платон обозначает их также следующим образом: «сущность (??), место и порождение». Мы получаем, таким образом, умозаключение, в котором пространство есть средний член между индивидуальным порождением и всеобщим. Если мы этот принцип будем противополагать времени со стороны его отрицательности, то средним членом будет принцип иного, как всеобщий принцип – «воспринимающая среда как кормилица», – сущность, которая все сохраняет, дает всему независимое существование и способность действовать по своему желанию. Этот принцип есть бесформенное, которое, однако, восприимчиво ко всем формам, есть всеобщая сущность всего кажущегося различным; дурную пассивную материю – вот что мы понимаем под этим принципом, когда говорим о нем: это – относительно субстанциальное, устойчивое существование вообще, но оно здесь – внешнее существование и лишь абстрактное для-себя-бытие. Мы отличаем от него в нашей рефлексии форму, и последняя, согласно Платону, получает существование лишь благодаря кормилице. В этот принцип входит то, чт? мы называем явлением, ибо материя именно и есть это устойчивое существование порождения, в котором положено раздвоение. Но мы не должны положить то, чт? является в нем как единичное земное существование, а должны понимать это являющееся как то, что само есть всеобщее в такой определенности. Так как материя как всеобщее есть сущность всего единичного, то Платон, во-первых, напоминает нам, что мы не должны говорить об этих единичных вещах: об огне, воде, земле, воздухе и т. д. (которые, таким образом, снова появляются здесь), ибо этим мы их высказываем как закрепленные определенности, которые таковыми и остаются; в действительности же остается лишь их всеобщее, или, иначе говоря, остаются они, как всеобщее, лишь огненное, земное и т. д.[229 - Plat., Timaeus, p. 47–53 (р. 55–66).]
Затем Платон излагает определенную сущность этих чувственных вещей или их простую определенность. В этом мире изменчивости форма есть пространственная фигура, ибо подобно тому, как в том мире, который есть непосредственное отображение вечного мира, время есть абсолютный принцип, так и здесь абсолютный идеализованный принцип составляет чистая материя как таковая, т. е. именно устойчивое существование пространства. Пространство есть идеализованная сущность этого являющегося мира, средина, соединяющая друг с другом положительность и отрицательность; определенности же пространства суть фигуры. И, говоря точнее, среди измерений пространства мы должны принимать в качестве истинной сущности плоскость, так как она есть в пространстве самосущая (f?r sich) средина между точкой и линией, и она есть три в своем первом реальном ограничении. Поэтому и треугольник есть первая среди фигур, тогда как круг не имеет в самом себе границы как таковой. Здесь, таким образом, Платон начинает давать дедукцию фигур, основу которых составляет треугольник; сущность чувственных вещей составляют, поэтому треугольники. Затем он говорит на пифагорейский манер, что сложение и соединение этих треугольников, как принадлежащая средине их идея, снова в свою очередь составляет, согласно первоначальным соотношениям чисел, чувственные элементы. Это – основа понимания Платона, а тот способ, каким Платон определяет фигуры элементов и соединения треугольников, я оставляю без рассмотрения[230 - Plat., Timaeus, p. 53–56 (р. 66–72).].
Отсюда Платон переходит к изложению некоторого рода физики и физиологии, куда мы тоже не последуем за ним. Мы должны рассматривать эту часть его философии как первую детскую попытку постигнуть чувственные явления в их множественности. Но эта попытка еще поверхностна и запутанна. Здесь Платон берет чувственное явление, например, части и члены тела, рассказывает о них, перемешивая свой рассказ мыслями, приближающимися к нашим формальным объяснениям, и в этих мыслях на самом деле исчезает понятие. Мы должны лишь помнить о возвышенной природе идеи, которая и составляет то превосходное, чт? есть в объяснениях Платона; ибо что касается реализации этой идеи, то Платон испытывал и выражал лишь потребность в ней. Часто можно распознать также и спекулятивную мысль, но большей частью рассмотрение сводится к совершенно внешним способам объяснения, например к объяснению внешней целесообразностью и т. д. Это – иной способ рассмотрения физики, чем наш, ибо в то время как у Платона еще нет достаточных эмпирических познаний, в современной физике чувствуется, наоборот, недостаток в идее. Хотя Платон кажется противоречащим нашей нынешней физике, игнорирующей понятия жизни, и хотя он продолжает по-детски говорить внешними аналогиями, он, однако, в частности высказывает очень глубокие взгляды, которые были бы достойны и нашего внимания, если бы только у наших физиков получило место рассмотрение природы, исходящее из понятия жизни. И точно так же нам тогда представлялось бы достойным внимания его связывание физиологического с психическим. Некоторые части «Тимея» содержат в себе более общие взгляды; так, например, в учении о цветах он переходит к соображениям более общего характера. А именно, приступая к этому предмету, Платон говорит о трудности различения и распознания единичного, говорит о том, что «следует различать двоякого рода причины: необходимые и божественные. Во всем мы должны отыскивать божественное ради достижения блаженной жизни» (это занятие есть самоцель, и в нем заключается блаженство), «насколько наша природа способна воспринимать это божественное. Необходимые же причины мы должны отыскивать лишь для познания божественных причин, так как без этих необходимых причин» (как условий познания) «мы не можем познавать». Рассмотрение согласно необходимости есть внешнее рассмотрение предметов, их взаимной связи, их отношений друг к другу и т. д. «Творцом божественных причин является сам бог», божественное принадлежит к первому вечному миру, но принадлежит к нему не как к потустороннему миру, а как к наличному здесь и теперь. «Порождение и устройство смертных вещей бог поручил своим помощникам (?????????)». Такова легкая манера перехода от божественного к конечному, земному. «Так как последние в самих себе получили бессмертное начало души, то они, подражая божественному, сделали смертное тело и вложили в него другую, смертную идею души. Эта смертная идея содержит в себе насильственные и необходимые страсти: удовольствие, величайшая приманка, влекущая ко злу; а затем страдания, служащие препятствием (?????) к добру; далее также безрассудную смелость (??????) и страх – неразумные советники; гнев, надежда и т. д. Все эти чувства принадлежат смертной душе. И дабы не запятнать божественного там, где это не абсолютно необходимо, низшие боги отделили это смертное от местопребывания божественного и поселили в другую часть тела. Они создали, таким образом, перешеек и границу между головой и грудью, поместив между ними шею». Чувства, страсти обитают именно в груди, в сердце (в сердце мы помещаем бессмертное), духовное же находится в голове. Но чтобы сделать это смертное возможно более совершенным, «они», например, «присоединили к воспламененному гневом сердцу мягкое и бескровное легкое, облегающее его, как обойма, и имеющее, кроме того, полые трубки, как в губке, чтобы оно, воспринимая в себя воздух и питье, охлаждало сердце и освежало его и облегчало его жар»[231 - Plat., Timaeus, p. 67–70 (p. 93–99).].
Особенно замечательно то, что Платон затем говорит о печени. «Так как неразумная часть души, вожделеющая есть и пить, не слушает разума, то бог создал природу печени, дабы эту часть души напугала сила мыслей, нисходящая в печень, как в зеркало, воспринимающее первообразы и показывающее призраки, и дабы затем, когда эта часть души снова будет смягчена, она во сне сделается причастной видениям. Ибо те, которые нас сотворили, помня о вечной заповеди отца сделать род смертных насколько возможно лучшим, устроили нашу более дурную часть так, чтобы она хотя до некоторой степени сделалась причастной истине, и дали ему пророчество». Платон, таким образом, приписывает пророчество неразумной, телесной стороне человека, и, хотя часто думают, что у Платона пророчество и т. д. приписывается разуму, это все же неверно; пророчество, говорит он, есть некий разум, но разум в неразумии. «Достаточным доказательством того, что бог дал дар пророчества именно человеческому неразумию, служит тот факт, что никакой человек, обладающий своим разумом, не делается причастным божественному и истинному пророчеству, а получает дар такого пророчества человек лишь тогда, когда или сила его ума во сне скована, или тот человек, который благодаря болезни или одержимости впал в безумие». Платон, следовательно, объявляет ясновидение более низкой способностью, чем сознательное знание. «Разумный же лишь должен объяснять и толковать такое пророчество; ибо тот, кто еще находится в состоянии сумасшествия, не может его обсудить. Хорошо поэтому было сказано еще в древние времена: делать свое и познавать самого себя свойственно лишь разумному человеку»[232 - Plat., Timaeus, p. 70–72 (p. 99 – 102).]. Платона делают патроном голой восторженности. Как видим, это совершенно неверно. Таковы главные моменты платоновской философии природы.
3. Философия духа
Что касается теоретической стороны, то отчасти мы уже рассмотрели в общих чертах как спекулятивную сущность духа, еще не получившую своей реализации, так и очень важные различия видов познания, отчасти же мы еще не находим у Платона развитого осознания организма теоретического духа. Он, правда, различает чувство, вспоминание и т. д., однако эти моменты духа он не изображает в их связи, в том отношении, в котором они находятся друг с другом согласно необходимости. Нас поэтому интересует еще в платоновской философии духа единственно лишь его представление о нравственной природе человека, и эта реальная, практическая сторона сознания представляет собою самую блестящую часть платоновской философии духа; на нее мы должны поэтому теперь обратить особое внимание. Этого не следует понимать ни в том смысле, будто Платон старался найти то, чт? теперь называют высшим моральным принципом и чт? на поверку оказывается чем-то пустым именно потому, что оно признается всеобъемлющим, ни в том смысле, будто он стремился найти какое-то естественное право, эту тривиальную абстракцию, налагаемую на реальное практическое существо, на право. В своих книгах о «Государстве» он лишь раскрывает нравственную природу человека. Нравственная природа человека кажется нам чем-то, имеющим мало касательства к государству. Уму Платона, однако, реальность духа, поскольку он противоположен природе, предстала в ее высшей правде, предстала именно организацией некоторого государства, которое, как таковое, по существу своему нравственно, и он знал, что нравственная природа (свободная воля в ее разумности) добивается подобающего ей, ее действительности, лишь среди подлинного народа.
Затем мы должны указать точнее: Платон в книгах о «Государстве» начинает исследование своего предмета с утверждения, что следует показать, чт? такое справедливость (??????????). После некоторого обсуждения и после того, как пришлось отвергнуть несколько дефиниций, предложенных участниками беседы, Платон говорит, наконец, в свойственной ему простой манере: в отношении этого исследования дело обстоит так, как если бы кому-нибудь было предложено прочесть слова, написанные мелкими буквами и находящиеся на далеком расстоянии, а затем кто-то сказал бы, что эти же самые слова находятся на более близком расстоянии, где они к тому же написаны более крупными буквами. Ведь в таком случае тот, кому следует прочесть эти слова, предпочтет прочесть их сначала там, где они написаны крупнее, а уже затем ему было бы легче прочесть и более мелкие. Точно так же он намерен поступить с вопросом о справедливости. Справедливость мы находим не только у отдельного лица, но также и в государстве, а государство больше отдельного лица. Она поэтому будет выражена в государствах более крупными чертами и ее будет легче распознать. (Это совершенно не похоже на стоические разговоры о мудреце.) Он намерен поэтому лучше рассматривать справедливость такой, какой она является в государстве[233 - Plat., De Republica, II, p. 368–369 (p. 78).]. Таким образом, делая это сравнение, Платон переводит вопрос о справедливости на вопрос о том, каковым должно быть государство. Это очень наивный, милый переход, кажущийся произвольным. Но великое чутье приводило древних философов к истине, и тот что Платон здесь выдает лишь за нечто более легкое, есть на самом деле природа самого предмета. Не соображения удобства, следовательно, ведут его к рассмотрению государства, а то обстоятельство, что осуществление справедливости возможно лишь постольку, поскольку человек есть член государства, ибо справедливость в ее реальности и истине существует только в государстве. Право, как дух, и притом как дух, не поскольку он есть познающий, а поскольку он хочет сообщить себе реальность, есть наличное бытие свободы, действительность самосознания, духовное внутри-себя и у-себя-бытие, которое деятельно: точно так же, как я, например, в собственности вкладываю свою свободу в такую-то внешнюю вещь. В свою очередь сущностью государства является объективная действительность права, реальность, в которой присутствует весь дух, а не только мое знание себя как данного отдельного человека. Ибо самоопределение свободного разумного духа представляет собою законы свободы, но последние существуют именно как государственные законы, ибо понятие государства именно и состоит в том, что существует разумная воля. В государстве, следовательно, законы обладают значимостью; эти законы суть его обычаи и нравы. Но так как в государстве существует также и произвол в его непосредственности, то эти законы суть не только нравы и обычаи, а должны вместе с тем быть силой, борющейся с произволом, каковой они являются в лице судов и правительств. Таким образом, чтобы познать черты справедливости, Платон с инстинктом разума сосредоточивает свое внимание на том характере, который она получает в государстве.
Справедливость в себе обычно изображается у нас в форме естественного права, права в естественном состоянии; но такое естественное состояние есть непосредственно нравственная бессмыслица. Существующее в себе считается чем-то естественным теми, которые не доходят до всеобщего, подобно тому как необходимые моменты духа считаются врожденными идеями. Но естественное есть, наоборот, то, чт? должно быть снято духом, и право естественного состояния может выступить лишь как абсолютная неправда духа. В сравнении с государством, как реальным духом, дух в своем простом, еще не реализованном понятии есть абстрактное «в себе»; правда, это понятие должно предшествовать построению своей реальности, и это есть то, что понимали как естественное состояние. Мы привыкли исходить из фикции некоего естественного состояния, которое, разумеется, есть состояние не духа, разумной воли, а состояние животных по отношению друг к другу. Гоббс поэтому правильно заметил, что истинное естественное состояние есть война всех против всех. Это «в-себе» духа есть вместе с тем единичный человек, ибо в представлении всеобщее отделяется вообще от единичного, как если бы единичное было само по себе то, чт? оно представляет собою, а всеобщее не делало бы его тем, чт? оно есть поистине, – следовательно, как если бы всеобщее не было его сущностью, но всего важнее было бы то, что особенного оно имеет в себе. Фикция естественного состояния начинает с единичности отдельного лица, с его свободной воли и отношения этого лица к другим лицам согласно этой свободе воли. Естественным правом называли, следовательно, то, чт? есть право отдельного лица и для отдельного лица, а состояние общества и государства признавали и допускали лишь как средство для отдельного лица, которое является основной целью. Платон, наоборот, кладет в основание субстанциальное, всеобщее, и именно так, что отдельный человек, как таковой, имеет своей целью как раз это всеобщее, и субъект стремится, действует, живет и наслаждается для государства, так что последнее есть его вторая природа, привычка и обычай. Эта нравственная субстанция, которая составляет дух, жизнь и сущность индивидуальности и представляет собою основу, систематизируется в живое органическое целое, дифференцируясь на свои члены, деятельность которых и есть порождение целого.
Это соотношение понятия и его реальности не было осознано Платоном, и, таким образом, мы у него не находим философского построения, которое показало бы нам сначала идею самое по себе, а затем показало бы в ней же самой необходимость ее реализации и самое эту реализацию. Относительно платоновского «Государства» установилось поэтому суждение, что Платон дал в нем так называемый идеал государственного устройства, которое вошло в пословицу в качестве sobriquet в том смысле, что это представление является-де химерой, которую можно, правда, мыслить в уме и которая сама по себе, как ее описывает Платон, несомненно также превосходна и истинна, даже осуществима, однако лишь при том условии, что люди будут так прекрасны, как это, может быть, бывает на луне, но которая неосуществима для людей, какими они, – ничего не поделаешь, – оказываются на нашей земле. Так как, следовательно, нужно брать людей такими, какими они являются на самом деле, то из-за их дурной природы нельзя осуществить этот идеал, и поэтому выставление такого идеала является праздным делом.
По поводу этого суждения следует, во-первых, заметить, что в христианском мире широко распространен вообще идеал совершенного человека, который, разумеется, не может найти своего воплощения в значительной части народа. Если мы находим, что этот идеал нашел свое воплощение в лице монахов или квакеров или тому подобных благочестивых людей, то горсточка таких жалких созданий не может составить народа, точно так же, как вши или паразитические растения не могли бы существовать самостоятельно, а могут существовать лишь на другом органическом теле. Если бы такие люди составили народ, то эта овечья кротость, есть тщеславие, которое занято только своей собственной персоной, только с нею носится, всегда имеет перед собою образ своего совершенства и никогда не забывает о нем, – давно бы погибла. Ибо жизнь во всеобщем и для всеобщего требует не этой паралитичной и трусливой кротости, а кротости, сочетающейся с энергией, требует, чтобы занимались не собою и своими грехами, а всеобщим и тем, что нужно сделать для него. Тот, уму которого предносится этот дурной идеал, всегда, разумеется, будет находить, что люди слабы и порочны, всегда будет находить этот идеал не осуществленным. Ибо они придают большое значение пустякам, на которые ни один разумный человек не обращает внимания, и говорят, что такие слабости и недостатки все же существуют, хотя мы их и не замечаем. Но в этой их снисходительности не следует видеть великодушия; мы должны скорее признать, что тем, что они обращают внимание на то, чт? они называют слабостью и недостатком, есть их собственная испорченность, которая только и придает им значение. Человек, грешащий этими слабостями и недостатками, непосредственно оправдывает их сам себе, поскольку он не придает им значения. Пороками они являются лишь в том случае, если они составляют существенную сторону его характера, и гибельным является придание им значения чего-то существенного, когда они в самом деле не таковы. Этот дурной идеал не должен служить для нас помехой в какой бы то ни было его форме; нам нечего считаться с ним, даже если он не получает как раз той формы, которую он принимает у монахов и квакеров, а выступает, например, в виде принципа отречения от чувственных благ и ослабления действенной энергии, каковой принцип необходимо должен уничтожать многое, что вообще признается ценным. Стремление сохранять все отношения противоречиво; во всем, чт?, вообще говоря, признается ценным, всегда найдется сторона, к которой относятся с пренебрежением. То, что я уже говорил раньше об отношении философии к государству, также показывает, что платоновский идеал нельзя понимать в этом смысле. Если известный идеал вообще обладает внутренней истиной через посредство понятия, то, именно потому, что он истинен, он не является химерой. Такой идеал поэтому не есть нечто праздное и бессильное, а, наоборот, действительное, ибо истина не есть химера. Никому, разумеется, не запрещается выражать пожелания, но если внутренне у нас имеются только благочестивые пожелания о великом и истинном, то мы безбожны. И точно так же безбожен тот, кто ничего не может делать, потому что все для него свято и ненарушимо, и не хочет быть ничем определенным, потому что все определенное имеет свои недостатки. Истинный идеал не должен быть действительным, а есть действительный, и единственно только он и действителен. Если некая идея была бы слишком хороша для существования, то это было бы скорее недостатком самого идеала, для которого действительность слишком хороша. Платоновское государство было бы, таким образом, химерой не потому, что человечеству не хватает таких превосходных свойств, какими оно должно было бы обладать, а потому, что они, эти превосходные свойства, слишком плохи для людей. Ибо то, что действительно, то разумно. Но нужно знать, чт? на самом деле действительно. В обывательской жизни все действительно, но существует различие между миром явлений и действительностью. Действительное обладает также и внешним существованием, которое являет нам произвол и случайность, подобно тому как в природе случайно получают существование дерево, дом, растение. Поверхность нравственного – поступки людей – имеет в себе много плохого, и здесь многое могло бы быть лучше; люди всегда будут порочны и испорчены, но это – не идея. Если мы познаем действительность субстанции, то мы должны проникать глубже, смотреть дальше поверхности, где возятся, дерутся между собой страсти. Временное, преходящее, конечно, существует, может наделать человеку довольно много хлопот; но, несмотря на это, оно так же мало представляет собою истинную действительность, как и частные особенности отдельного лица, его желания и склонности. В связи с этим замечанием мы должны вспомнить о том различии, которое мы проводили раньше, говоря о платоновской философии природы: вечный мир, как внутри себя блаженный бог, и есть действительность; не где-то за пределами мира, не по ту сторону его, но наличный мир, рассматриваемый в его истине, а не так, как его встречает своими органами чувств слышащий, видящий и т. п. человек, – вот этот мир есть действительность. Если мы будем таким образом рассматривать содержание платоновской идеи, то окажется, что Платон на самом деле изобразил в ней греческую нравственность со стороны ее субстанциального характера; ибо греческая государственная жизнь, – вот что составляет подлинное содержание «Государства» Платона. Платон не такой человек, чтобы барахтаться в абстрактных теориях и правилах поведения; его подлинный дух познал и изобразил подлинное; и это могло быть не чем иным, как истиной того мира, в котором он жил, истиной того единого духа, который был жив столь же в нем, сколь в Греции. Никому не дано перепрыгнуть через свое время; дух его времени есть также и его дух, но важно познать этот дух со стороны его содержания.
С другой стороны, надо иметь в виду, что конституция совершенная, поскольку дело идет об одном определенном народе, вовсе не обязательно годится для всякого другого народа. Следовательно, если говорят, что истинная конституция не годится для людей, каковы они на самом деле, то нужно принять во внимание, что как раз чем превосходнее конституция данного народа, тем более превосходным она делает также и этот народ, Но вместе с тем верно и обратное: так как нравы суть живая конституция, то конституция в ее отвлеченности не представляет собою ничего самостоятельного, а должна быть связана с данными нравами и наполнена живым духом данного народа. Нельзя поэтому и утверждать, что истинная конституция годится для каждого народа, и несомненно во всяком случае, что для людей, каковы они есть, – например, для людей, как ирокезов, русских, французов, – годится не всякая конституция. Ибо каждый народ имеет свое место в истории. Но подобно тому как отдельный человек воспитывается в государстве, т. е. в качестве единичности возводится во всеобщность, и лишь тогда превращается из ребенка в зрелого мужа, так воспитывается и каждый народ; состояние, в котором он представляет собою ребенка, или, иными словами, состояние варварства переходит в разумное состояние. Люди не только остаются такими, каковы они есть, а становятся другими, и точно так же становятся другими и их конституции. И вопрос здесь в том, какая конституция представляет собою истинную конституцию, к которой народ должен двигаться, подобно тому как можно ставить вопрос о том, какая наука есть истинная наука – математическая или какая-нибудь другая, а не о том, должны ли дети или мальчики обладать теперь же этой наукой, так как, наоборот, они должны сначала получить такое воспитание, которое сделает их способными к этой науке. Точно так же историческому народу предстоит принять истинную конституцию, так что он движется по направлению к ней. Каждый народ необходимо должен с течением времени производить такие изменения в своей наличной конституции, которые все больше и больше приближают ее к истинной конституции. Его дух сам сбрасывает с себя детские башмачки, и конституция есть осознание того, чт? он уже есть в себе, – она есть форма истины, знания о себе. Если для него уже не истинно то его «в себе», которое его конституция все еще высказывает ему как истину, если его сознание или понятие и его реальность отличны друг от друга, то народный дух представляет собою разорванное, раздвоенное существо. Тогда наступает одно из двух: народ разбивает посредством внутреннего насильственного взрыва это право, которое еще требует, чтобы его признавали, либо же он изменяет спокойнее и медленнее тот закон, который считается еще законом, но уже больше не представляет собою подлинной составной части нравов, а является теперь тем, чт? дух уже преодолел собою. Может, во-вторых, оказаться, что народ не обладает достаточным для этого умом и силой, а остается при старом, низшем законе, или же другой народ достиг своей высшей конституции, стал благодаря этому более превосходным народом, и тогда первый народ перестает быть народом и вынужден подчиниться последнему. Поэтому существенно знать, какова истинная конституция, ибо во всем том, что находится в противоречии с нею, нет прочности, истины, и оно снимается. Оно обладает временным существованием, но не может удержаться; оно обладало силой, пользовалось признанием, но не может дольше продолжать обладать силой; что оно должно быть отменено, это содержится в самой идее конституции. Понимание этого может быть достигнуто лишь посредством философии. Государственные перевороты совершаются без насильственных революций, когда это понимание становится всеобщим достоянием: учреждения спадают, как зрелый плод, исчезают неизвестно как, – каждый покоряется тому неизбежному факту, что он должен потерять свое право. Но что для этого наступило время, это должно знать правительство. Если же оно, оставаясь в неведении относительно того, чт? есть истина, привязывается к временным учреждениям, если берет под свое покровительство имеющее силу закона несущественное против существенного (а ответ на вопрос о том, что такое это существенное, уже содержится в самой идее), то оно благодаря этому низвергается напирающими духом, и распад правительства приводит к распаду и самого народа; тогда возникает новое правительство, – или же может случиться, что правительство и несущественное одерживают верх.
Главная мысль, лежащая в основе платоновского «Государства», есть как раз та самая мысль, которую мы должны рассматривать как принцип греческой нравственности; это именно та мысль, что нравственное носит вообще характер субстанциальности и, следовательно, фиксируется как божественное. Это несомненно основное определение. Определением, противоположным этому субстанциальному отношению индивидуумов к нравственности, является субъективный произвол индивидуумов, мораль. Последняя состоит в том, что отдельные лица не действуют спонтанно из уважения, благоговения к государственным, отечественным учреждениям, а принимают самостоятельное решение по собственному убеждению, после морального обдумывания и поступают согласно этому решению. Этот принцип субъективной свободы представляет собою нечто позднейшее, принцип развитой современной эпохи, который появился также и в греческом мире, но появился там как принцип, приводящий к гибели греческую государственную жизнь. Он нес с собою гибель потому, что греческий дух, его государственное устройство и его законы не были рассчитаны и не могли быть рассчитаны на то, чтобы этот принцип появился в их недрах. Так как этот принцип и греческий дух не были однородны, то греческие нравы и обычаи должны были погибнуть. Платон познал и понял подлинный дух своего мира и развил его точнее, желая, чтобы этот новый принцип сделался невозможным в его государстве. Платон, таким образом, стоит на субстанциальной точке зрения, так как в основании конструируемого им государства лежит субстанциальное его времени; но эта точка зрения лишь относительно субстанциальна, так как она есть исключительно греческая точка зрения, и позднейший принцип сознательно изгоняется. В этом состоит всеобщее платоновского идеала государства и с этой точки зрения следует его рассматривать. Исследования, основывающиеся на новейших точках зрения и с этих точек зрения ставящие вопрос, возможно ли такое государство и представляет ли оно собою наилучшее государство, лишь приводят к неправильным взглядам. В современных государствах существует свобода совести, согласно которой каждый отдельный человек может требовать, чтобы ему дали возможность следовать своим собственным интересам. Но это совершенно исключено из платоновского представления о государстве.
a. Теперь я укажу более подробно главные моменты платоновской идеи государства, поскольку они имеют философский интерес. Если Платон в действительности изображает то, что государство представляет собою в своей истине, то все же в платоновском государстве имеется некоторая ограниченность, с которой мы уже познакомились: в этом государстве отдельное лицо не противостоит – в формальном праве – всеобщности, как это имеет место в мертвенных конституциях правовых государств. Содержанием платоновского государства является лишь целое; содержанием, правда, здесь является природа индивидуума, но природа индивидуума, рефлектирующаяся во всеобщее, а не фиксированная и не имеющая сама для себя значения, так что практическая сущность – одна и та же в государстве и в отдельном лице. Так как Платон исходит из справедливости, которая заключает в себе, что справедливый существует только как нравственный член государства, то он при более подробном изложении выясняет, во-первых, организм нравственного общественного союза, т. е. выясняет различия, содержащиеся в понятии нравственной субстанции, дабы показать, каков характер этой действительности субстанциального духа. Благодаря развертыванию этих моментов она становится живой, налично сущей; но эти моменты не независимы, а даны, как содержащиеся в единстве. Платон рассматривает эти моменты нравственного организма в трех аспектах; во-первых, в том аспекте, в котором они существуют в государстве как сословия; во-вторых, как добродетели или моменты нравственного; в-третьих, как моменты отдельного субъекта эмпирической деятельности воли. Платон не проповедует морали, а показывает, как нравственное живости движется внутри себя; он, следовательно, показывает его функции, его внутренности. Ибо внутренняя систематизация, как в органическом теле, а не твердое, мертвенное единство, каковое, например, показывает нам металличность, порождается именно различенными функциями внутренностей, которые делают себя этим живым, внутри себя движущимся единством.
?. Без сословий, без этого деления на большие массы, государство не представляет собою организма; эти великие различения суть субстанциальные различения. Противоположностью, раньше всего выступающей в государстве, является противоположность между всеобщим, как государственным делом и жизнью в государстве, и единичным, как жизнью и работой для отдельного лица. Эти два занятия разделены так, что одно сословие посвящено первому занятию, а другое сословие – второму. Далее Платон выводит перед нами три системы действительности нравственного: функции ??) законодательства, совещания, вообще деятельности для пользы всеобщего и заботы о всеобщем, об интересах целого как такового; ??) функцию защиты общественного союза против внешних врагов; ??) функцию заботы о единичном, об отдельном лице, потребность, как, например, земледелие, скотоводство, изготовление одежды, постройка домов, изготовление посуды и т. д. Это в общем – совершенно правильно; эти три системы кажутся, однако, скорее, внешней необходимостью, потому что данные потребности носят у Платона характер преднайденного, а не развиты им из самой идеи духа. Далее, Платон распределяет эти различные функции между различными системами, предоставляя каждую из них такой массе индивидуумов, которая особенно предназначена для данной функции. Благодаря этому получаются различные государственные сословия, ибо Платон также является противником поверхностного представления, что один и тот же человек должен исполнять все дела. Он указывает, согласно этому, три сословия: ??) сословие правителей, ученых, образованных, ??) сословие воинов; ??) сословие доставителей предметов для удовлетворения потребностей, сословие земледельцев и ремесленников. Первое сословие он называет также сословием стражей (???????); под стражами он разумеет главным образом философски образованных государственных людей, обладающих подлинной наукой. Они имеют своими деятельными помощниками, осуществителями их планов воинов (?????????? ?? ??? ???????), но в платоновском государстве нет двух отдельных сословий, военных и гражданских чиновников, а оба сословия соединены в одно сословие[234 - Следуя этим платоновским указаниям, Гегель в своем раннем философско-правовом опыте (Werke, Bd. I, S. 380–381) объединил эти два сословия в одно, которое он позднее (Werke, Bd. VIII, S. 267) назвал всеобщим сословием. Но «другое» (как выражается Гегель в первом произведении), еще оставшееся у Платона сословие, Гегель в обоих произведениях делил на два сословия: на второе (занимающееся городскими промыслами) и третье сословие (земледельцы). (Примечание издателя.)], и старшие суть стражи[235 - Plat., De Republica, II, p. 369–376 (p. 79–93); III, p. 414 (p. 158–159).]. Хотя Платон не дедуцирует этой классификации сословий, она все же образует, таким образом, конституцию платоновского государства; и каждое государство необходимо есть в самом себе система этих систем. После этого Платон переходит к отдельным определениям, которые отчасти мелочны, и было бы лучше, если бы их не было; он, например, определяет для первого сословия особые титулы, говорит о том, как должны вести себя кормилицы, и т. д.[236 - Plat., De Republica, V, p. 463 (p. 241); p. 460 (p. 236).]
?. Затем Платон показывает нам моменты реализованными здесь в сословиях как нравственные свойства, которыми обладают отдельные лица и которые составляют сущность этих лиц; показывает нам расчлененное на свои всеобщие определенности простое нравственное понятие. Ибо как на результат этого различения сословий он указывает на то, что посредством такого организма все добродетели наличны и живы в государстве. Он различает четыре добродетели[237 - Plat., De Republica, IV, p. 427–428 (p. 179–181).], и они получили впоследствии название кардинальных добродетелей.
??. Первой добродетелью является мудрость (?????) и наука; государство, обладающее такой добродетелью, будет мудрым и хорошо разбирающимся, и таковым оно будет не благодаря имеющимся в нем многообразным знаниям, относящимся к многим единичным низким занятиям, составляющим достояние простонародья, как, например, кузнечное искусство, земледелие (ремесленные и камеральные науки, как мы выразились бы), а благодаря истинным наукам, имеющим свою реальность в том сословии начальников и правителей, которые указывают государству, как ему лучше всего вести себя внутри самого себя и в отношении других государств. Это разумение есть, собственно говоря, достояние лишь незначительнейшей части общественного союза[238 - Plat., De Republica, IV, p. 428–429 (p. 181–182).].
??. Вторую добродетель составляет мужество (??????), которое Платон определяет следующим образом: оно есть твердое отстаивание справедливого и соответствующего законам мнения о том, чего следует опасаться, и оно есть такое твердо составленное мнение, которое упрочилось в душе, так что ни вожделения, ни удовольствия не могут его поколебать. Этой добродетели соответствует сословие воинов[239 - Plat., De Republica, IV, p. 429–430 (p. 182–185).].
??. Третью добродетель составляет умеренность (?????????), власть над вожделениями и страстями, которая распространена, как некая гармония, по всему целому, так что и более сильные, и более слабые люди, будут ли они слабее или сильнее умом, физической силой, количеством, богатством или чем бы то ни было другим, действуют вместе для осуществления одной и той же цели и согласуются друг с другом. Эта добродетель, следовательно, не ограничена частями государства, подобно мудрости или богатству, а обща правителям и управляемым, распределена между ними как некая гармония, составляет добродетель всех сословий[240 - Plat., De Republica, IV p. 430–432 (p. 185–188).]. Несмотря на то, что эта умеренность есть та гармония, в которой все действуют для достижения единой цели, она все же есть, собственно говоря, добродетель третьего сословия, на долю которого выпадает доставание средств для удовлетворения потребностей и труд, хотя на первый взгляд эта добродетель как будто ему не соответствует. Но эта добродетель и состоит именно в том, что никакой момент, никакая определенность или единичность не изолируется; в частности же, в области морали эта добродетель состоит в том, что никакая потребность не превращает себя в сущность и, следовательно, не становится пороком. Труд и есть как раз этот момент деятельности, ограничивающейся единичным, которая, однако, сводится к всеобщему и существует для него. Стало быть, если эта добродетель и всеобща, то она все же более всего находит применение в отношении третьего сословия, единственно лишь которое должно быть гармонизировано, так как оно не обладает той абсолютной гармонией, которою другие сословия обладают в самих себе.
??. Четвертой добродетелью, наконец, является справедливость, о которой с самого начала шла у Платона речь. Эту добродетель мы находим в государстве (как добропорядочность), когда каждый отдельный человек печется лишь об одном имеющем отношение к государству предмете, к которому он наиболее пригоден по своим природным задаткам, так что каждый занимается не многообразными вещами, а тем, чем ему надлежит заниматься: молодые и старики, женщины, свободные, рабы, ремесленники, правители и управляемые. Относительно этого мы должны, во-первых, заметить, что Платон ставит здесь справедливость наряду с другими моментами, и она, таким образом, кажется одним из четырех определений. Но это сопоставление он берет назад своим указанием, что она именно и есть та добродетель, которая сообщает силу другим добродетелям, умеренности, мужеству и мудрости, силу, дающую им возможность возникнуть и поддержать свое существование после того, как они возникли. Поэтому он и говорит, что справедливость уже окажется самостоятельно существующей, когда будут налицо другие добродетели[241 - Plat., De Republica, IV, p. 432–433 (p. 188–199).]. Выражая это более определенно, следует сказать, что понятие справедливости есть основа, идея целого, которое разделено органически внутри себя таким образом, что каждая часть существует лишь как момент в целом и целое существует посредством нее; таким образом, в этом целом вышеуказанные сословия, или свойства, суть именно только моменты. Лишь справедливость есть это всеобщее, пронизывающее; но она, следовательно, есть вместе с тем для-себя-бытие каждой части, которой государство дает возможность проявлять себя самостоятельно.
Из этого явствует, во-вторых, что Платон понимал под справедливостью не право собственности, как это обычно имеет место в науке о праве, а понимал под нею достижение духом в его целостности права как наличного бытия своей свободы. В собственности моя личность налична в высшей степени абстрактно, налична моя совершенно абстрактная свобода. Определение этой науки о праве Платон считает в целом совершенно излишним (De Republica, IV, p. 425 Steph.; p. 176 Bekk.). Мы, правда, находим также и у него законы о собственности, полиции и т. д., «но, – говорит он, – давать законы об этих вещах благородным и прекрасным людям не стоит труда». И действительно, каким образом будем изобретать относительно этих вещей божественные законы, если этот материал сам по себе содержит в себе лишь случайности? В книгах «О законах» он также рассматривает главным образом нравственное; однако там он несколько больше уделяет внимания этим вопросам. Но так как, согласно Платону, справедливость есть скорее вся сущность, которая для отдельного лица получает тот смысл, что каждый должен наилучшим образом научиться тому и заниматься тем, к чему он предназначен от рождения, то отдельный человек достигает того, на что он имеет право, лишь как определенная индивидуальность; лишь, таким образом, он принадлежит к всеобщему духу государства и приходит в нем к своему всеобщему, как к всеобщему некоего данного человека. В то время как право есть всеобщее с некоторым определенным содержанием и оно, следовательно, представляет собой лишь формально всеобщее, здесь это содержание есть определенная полная индивидуальность; оно – не та или другая вещь, принадлежащая мне благодаря случайности владения, а моим подлинным достоянием здесь является развитое обладание и пользование моей природой. Справедливость отдает вообще должное каждому особенному определению и возвращает его вместе с тем в целое; благодаря тому, что частные свойства каждого индивидуума необходимо должны достигнуть полного развития и осуществления, каждый оказывается на своем месте и исполняет свое назначение. Справедливость, согласно ее истинному понятию, означает, следовательно, для нас свободу в субъективном смысле, потому что она означает, что разумное получает существование, а так как это право, право свободы получить существование, всеобще, то Платон ставит справедливость на самом верху, как определение целого, в том смысле, что разумная свобода получает существование посредством организма государства, – существование, которое затем, как необходимое, есть некоторый вид существования природы.
?. Особенный субъект в качестве субъекта обладает также этими свойствами в самом себе; и эти моменты субъекта соответствуют трем реальным моментам государства. Что, таким образом, в идее государства имеется ритм, тип, – это есть великая и прекрасная основа платоновского государства. Эту третью форму, в которой он обнаруживает вышеуказанные три момента, Платон определяет следующим образом. В субъекте, во-первых, появляются потребности, вожделения (?????????), как, например, голод и жажда; каждая из этих потребностей имеет своим предметом нечто определенное и хочет достигнуть только этого чего-то определенного. Труд для удовлетворения вожделений соответствует назначению третьего сословия. Но вместе с тем в сознании каждого отдельного человека находится, во-вторых, нечто другое, задерживающее и препятствующее удовлетворению этих вожделений, нечто одерживающее верх над искушением удовлетворить их; это есть разум (?????). Этому соответствует сословие правителей, мудрость государства. Кроме этих двух идей души, существует еще и нечто третье, гнев (?????), который отчасти родственен вожделениям, но вместе с тем также и ведет борьбу с последним и помогает разуму. «Иногда бывает так, что когда человек совершил несправедливость по отношению к другому человеку и этот последний заставил его выносить голод и жажду, причем он думает, что тот вправе заставлять его страдать, то чем он благороднее, тем менее он будет впадать в гнев против этого человека. Иногда же бывает и так, что если он претерпевает несправедливость, то в нем закипает гнев и он выступает на защиту того, чт? справедливо, и он терпит и побеждает голод и холод и другие неприятности, идущие против вожделений, и не отказывается от справедливого, пока он не добьется его осуществления или найдет смерть, или будет успокоен доводами, подобно тому как собаку успокаивает пастух». Гнев соответствует в государстве сословию храбрых защитников; подобно тому, как последние берутся за оружие для защиты разума государства, так и гнев оказывает помощь разуму, если он не испорчен дурным воспитанием. Таким образом, мудрость государства – та же самая, что и мудрость отдельного лица, и точно так же гнев в государстве есть тот же самый, что и гнев отдельного лица. И это верно также и относительно остальных добродетелей: умеренность есть согласие друг с другом отдельных моментов естественного; справедливость во внешних поступках есть исполнение каждым человеком того, что он должен делать; внутри же человека справедливость есть достижение должного каждым моментом духа и не вмешательство в дела других моментов, а предоставление им свободы действия[242 - Plat., De Republica, IV, p. 437–443 (p. 198–210).]. Мы имеем, таким образом, умозаключение трех моментов, в котором для себя сущий, обращенный против предметного гнев образует средний член между всеобщностью и единичностью, как возвращающаяся в себя и отрицательно деятельная свобода. И здесь также, где Платон не осознает, как в «Тимее», своей абстрактной идеи, она все же в действительности скрыто присутствует, и все формируется соответственно ей. Это – абрис того плана, согласно которому Платон ведет все свое исследование. Характер осуществления им этого плана является деталью, которая сама по себе взятая не представляет для нас интереса.
b. Во-вторых, Платон указывает затем средства к сохранению государства. Так как, вообще говоря, весь общественный союз зиждется на нравах и обычаях, как на ставшем природой духе отдельных лиц, то спрашивается именно: каким образом Платон достигает того, чтобы для каждого гражданина занятие, являющееся его назначением, стало его собственным бытием и существовало как нравственное деяние и воля индивидуума, – каким образом достигает Платон того, чтобы каждый из этих индивидуумов покорно занимал указанное ему место? Главная задача состоит в том, чтобы их к этому воспитывать. Платон хочет породить эти нравы непосредственно в индивидуумах, сначала и преимущественно – в стражах, образование которых, следовательно, составляет одну из важнейших частей всего плана и составляет основу государства. Ибо так как стражам предоставлена как раз забота о порождении этих нравов посредством сохранения закона, то в законах должно быть также обращено особенное внимание на воспитание и, значит, также и на воспитание воинов. Как будет обстоять дело с промысловым сословием, это мало заботит государство: «Ибо будут ли сапожники дурны и испорчены и лишь казаться тем, чем они должны быть, это не составляет большого несчастья для государства»[243 - Plat., De Republica, IV, p. 421 (p. 167–168).]. Но образование правителей должно состоять преимущественно в преподавании им науки философии, которая представляет собою знание всеобщего, само по себе сущего. Платон при этом обозревает отдельные образовательные средства: религию, искусство, науку. Далее он говорит подробнее также о том, в какой мере должны допускаться в качестве образовательных средств музыка и гимнастика. Но поэтов, Гомера и Гесиода, он изгоняет из своего государства, потому что он находит недостойными их представления о боге[244 - Plat., De Republica, II, p. 376 – III; p. 412 (p. 93 – 155); V, 472 – VII, fin. (p. 258–375).]. Ибо в то время начали серьезно подвергать критическому рассмотрению веру в Юпитера и гомеровские рассказы, поскольку такие частные изображения принимались как всеобщие максимы и божественные законы. На известной ступени культуры детские сказки представляют собою нечто невинное; но если требуют, чтобы они были положены в основание истинности нравственных максим в качестве закона, имеющего силу для настоящего времени (например, в писаниях израелитов, в Ветхом завете, истребление народов, представленное как масштаб в народном праве; бесчисленные позорные дела, совершенные человеком божиим Давидом; жестокости по отношению к Саулу, совершенные в лице Самуила жречеством), тогда наступает время низвести их на степень чего-то, отошедшего в прошлое, чего-то лишь исторического. Далее Платон требует таких введений в законы, в которых граждан следует увещевать выполнять свои обязанности, убеждать в правильности законов[245 - Plat., De Legibus, IV, p. 722–723 (p. 367–369).] и т. д., в необходимости выбирать наиболее превосходное, короче – в которых должен быть указан путь нравственности.
Здесь, однако, получается порочный круг: публичная государственная жизнь существует через нравы, а нравы, наоборот, существуют через учреждения. Нравы не должны быть независимы от учреждений, т. е. учреждения не должны быть направлены на создание нравов только посредством воспитательных заведений, религии. Именно учреждения должны рассматриваться как то первое, посредством чего рождаются нравы, ибо последние суть тот способ, каким учреждения существуют субъективно. Сам Платон дает понять, какое значительное несогласие он ожидает встретить. И еще в наше время видят обыкновенно недостаток его воззрения в том, что он слишком идеалистичен, однако его недостаток заключается скорее в том, что он слишком мало идеалистичен. Ибо, если разум есть всеобщая сила, а последняя существенно духовна, то в состав духовного и входит субъективная свобода, которая выступила уже в философии Сократа. Разумность, следовательно, должна быть, согласно Платону, основой закона, и она в целом и является такой основой; но, с другой стороны, совесть, собственное убеждение – кратко говоря, все формы субъективной свободы – также существенно содержатся в ней. Эта субъективность сначала противостоит законам, разуму государственного организма, как абсолютной власти, которая стремится присвоить себе представленный семьей, индивидуум, посредством внешней необходимости потребностей, в которой, однако, есть самостоятельный разум. Индивидуум исходит из субъективности свободного произвола, примыкает к целому, избирает себе сословие и порождает себя таким путем как нравственный факт. Но у Платона этот момент, это движение индивидуума, этот принцип субъективной свободы отчасти не принят во внимание, отчасти же даже намеренно нарушается, потому что субъективная свобода действовала как нечто такое, что приводило к гибели Греции; он поэтому рассматривает лишь, как наилучшим образом организовать государство, а не вопрос, как создать наилучшую субъективную индивидуальность. Перешагнув за пределы принципа греческой нравственности, которая в своей субстанциальной свободе не в силах была вынести расцвета субъективной свободы, платоновская философия вместе с тем ухватывается за этот принцип греческой нравственности и даже идет еще дальше в направлении последнего.
c. Что же касается, в-третьих, этой точки зрения исключения принципа субъективной свободы, то это одна из главных черт платоновского государства. Дух последнего состоит существенно в том, что все стороны, в которых утверждает себя единичность как таковая, растворяются во всеобщем, – все признаются лишь как всеобщие люди.
?. В соответствии с этим определением, требующим исключения принципа субъективности, Платон, во-первых, не позволяет индивидуумам избирать себе сословие, между тем как мы требуем этого как необходимой составной части свободы. Но в платоновском государстве не рождение отделяет друг от друга сословия и предназначает для них отдельных лиц, а каждый человек подвергается испытанию правителями государства, как старейшими первого сословия, которые отдают в воспитание индивидуумов, и эти правители производят отбор, смотря по тому, какими данное лицо обладает прирожденными умениями и задатками, указывая каждому определенное дело, которым он должен заниматься[246 - Plat., De Republica, III, p. 412–415 (p. 155–161).]. Это находится в полном противоречии с нашим принципом, ибо хотя мы считаем правильным, что для того, чтобы быть членом известного сословия, требуются особые соответствующие способности и умения, все же у нас остается делом склонности, в какое сословие данный человек вступит, и посредством этой склонности, как некоторого кажущегося свободным выбора, сословие создает себя для самого себя. Но мы не позволяем ни того, чтобы нам предписало этот выбор другое лицо, ни того, чтобы оно мне, например, сказало: «Так как ты ни для чего лучшего не годишься, то ты должен сделаться ремесленником». Каждый может у нас сам попробовать определить свое место; мы должны ему дозволить поставить вопрос о себе как о субъекте, а также и разрешить этот вопрос субъективно, по собственному произволу, сообразуясь, кроме того, с внешними обстоятельствами; мы не должны, следовательно, ставить ему препятствия, если он, например, скажет: «я не хочу отдаться науке».
?. Далее из этого определения вытекает, что Платон (De Republica, III, p. 416–417 Steph.; p. 162–164 Bekk.) в своем «Государстве» точно так же упраздняет вообще принцип частной собственности. Ибо в нем единичность, единичное сознание становится абсолютным, или, иными словами, лицо рассматривается как существующее в себе без всякого содержания. В праве, как таковом, я получаю признание как данное лицо, само по себе взятое. Все пользуются таким признанием, и я пользуюсь признанием лишь потому, что все пользуются признанием, или, иначе говоря, я пользуюсь признанием лишь в качестве всеобщего, но содержанием этого всеобщего служит фиксированная единичность. Если в праве дело идет о праве как таковом, если судьям при тяжбе все равно, будет ли тот или другой владеть данным домом, и тяжущимся сторонам также вовсе не важно обладание той вещью, из-за которой спорят, а важно лишь право для права (подобно тому как для морали важно исполнение долга лишь ради долга), то за эту абстракцию крепко ухватываются и абстрагируются от содержания реальности. Но для философии сущность есть не абстракция, а единство всеобщего и реальности или его содержания. Поэтому важно и значимо содержание лишь постольку, поскольку оно положено во всеобщем как отрицательное, стало быть, лишь постольку, поскольку оно возвращается, а не само по себе. Поскольку я пользуюсь вещами, – не поскольку я ими обладаю как собственностью или поскольку они мною считаются сущими, фиксированными во мне как фиксированном, – они находятся в живом отношении ко мне. У Платона второе сословие занимается ремеслами, торговлей, земледелием и доставляет все необходимое всеобщему, не приобретая собственности посредством своей работы; целое же представляет собою одну семью, в которой каждый делает указанное ему дело, но продукт работы принадлежит всем сообща, и каждый от продукта своего труда, равно как от продукта труда всех других, получает то, что ему нужно. Собственность есть некое владение, принадлежащее мне как данной личности, владение, в котором моя личность, как таковая, достигает своего осуществления, своей реальности; поэтому Платон и исключает собственность из своего государства. Но остается невыясненным, каким образом получится стимул к деятельности, необходимой для развития промыслов, если нет надежды на частную собственность; ибо в том факте, что я являюсь деятельной личностью, ведь подразумевается, наоборот, моя способность обладать собственностью. Что при отсутствии частной собственности, как утверждает Платон (De Republica, V, 464 Steph.; 243–244 Bekk.), будет положен конец всем спорам, разногласиям, вражде, корыстолюбию и т. д., это можно, в общем, легко себе представить. Но это лишь второстепенное следствие данного факта по сравнению с высшим и разумным принципом права собственности, и свобода существует лишь постольку, поскольку личность имеет право обладать собственностью. Мы видим, таким образом, что Платон сознательно сам изгоняет из своего государства субъективную свободу.
?. По той же причине Платон, наконец, упраздняет и институт брака, потому что последний есть союз, в котором два лица разных полов взаимно принадлежат навсегда друг другу также и вне чисто природной связи между ними. Платон не дает возникнуть в своем государстве семейной жизни, – не дает возникнуть тому своеобразию, благодаря которому семья составляет самостоятельное целое, – потому что семья есть лишь расширенная личность, есть лежащая внутри природной нравственности исключительная связь с другим лицом, которая хотя и есть нравственность, но такая нравственность, которая свойственна индивидууму как единичности. Но, согласно понятию субъективной свободы, семья столь же необходима индивидууму и даже можно сказать свята, как и собственность. Платон, напротив, заставляет отнять детей у матерей, тотчас же после рождения, собрать их в специально устроенном заведении, питать их молоком кормилиц, взятых из среды разрешившихся от бремени матерей, и давать им общее воспитание, причем воспитывать их следует именно так, чтобы ни одна мать не могла больше узнать своего ребенка. Свадьбы, правда, будут существовать в его государстве и каждый будет иметь свою жену, но это должно происходить так, чтобы совместная жизнь мужа и жены не предполагала взаимной личной склонности и чтобы индивидуумы предназначались друг для друга не потому, что они друг другу нравятся. Женщины должны рожать в этом государстве между двадцатью и сорока годами, а мужчины должны жениться и быть женатыми в возрасте от тридцати и до пятидесяти пяти лет, Чтобы воспрепятствовать кровосмешению, все дети, родившиеся в то время, когда данный мужчина был женат, должны называться его детьми[247 - Plat., De Republica, V, p. 457–461 (p. 230–239).]. Женщины, главным назначением которых является семейная жизнь, здесь лишены этой своей почвы. Отсюда естественное последствие в платоновском государстве: так как семья здесь уничтожена и женщины уже не ведут домашнего хозяйства, то они уже не являются также и частными лицами и принимают образ жизни мужчины, как всеобщего индивидуума в государстве. И Платон заставляет поэтому женщин исполнять, так же как и мужчин, все мужские работы и даже выступать вместе с мужчинами на войну. Таким образом, он ставит их почти на одинаковую ногу с мужчинами, но не питает, однако, большого доверия к их храбрости, ставя их лишь в задних рядах, и не как резерв, а как арьергард, чтобы вселить во врага страх, по крайней мере, своей численностью, в случае нужды также и спешить на помощь[248 - Plat., De Republica, V, p. 451–457 (p. 219–230); p. 471 (p. 257).].
Вот основные черты платоновского государства; его отличительный характер состоит в том, что в нем подавляется принцип единичности, и может казаться, что этого требует идея, что именно в этом заключается вообще противоположность между философией и обычным представлением, которое признает значение единичного и, таким образом, даже в государстве, представляющем собою реальный дух, рассматривает право собственности, защиту личности и собственности как основу целого. В том-то, однако, и состоит ограниченность платоновской идеи, что она выступает лишь как абстрактная идея. На самом же деле истинная идея именно и состоит в том, что каждый момент сполна реализуется, воплощается и делает себя самостоятельным, и в своей самостоятельности все же представляет собой для духа некое снятое. В результате этой идеи единичность необходимо должна реализоваться сполна, обладать своим особым поприщем, своей особой областью в государстве и вместе с тем все же раствориться в последнем. Элементом государства является семья, т. е. она есть природное, лишенное разума государство; этот элемент, как таковой, не должен отсутствовать. А затем идея государства, основанного на разуме, должна реализовать моменты своего понятия так, чтобы они стали сословиями, чтобы нравственная субстанция распадалась на массы, подобно тому, как телесная субстанция распадается на внутренние и внешние органы, каждый из которых живет своей особой, отличающейся своеобразием жизнью, но все вместе составляют лишь одну жизнь. Государство вообще, целое, должно, наконец, проникать собою все. Но в такой же мере формальный принцип права, как абстрактная всеобщность личности, с единичным существом как сущим содержанием, должен проникать собою все целое; однако есть одно сословие, преимущественно перед всеми другими воплощающее этот принцип. Таким образом, должно существовать сословие, у которого собственность постоянна и непосредственна, у которого владение участком земли носит такой же непосредственный и устойчивый характер, как обладание своим собственным телом; и должно существовать также и сословие, которое только приобретает собственность, для которого она представляет собою не такое непосредственное владение, а постоянно переходящее от одного к другому и меняющееся имущество. Эти два сословия народ предоставляет, как часть самого себя, принципу единичности и отдает здесь власть праву, предоставляя ему искать постоянства, всеобщего, «в себе» в том принципе, который является, наоборот, принципом подвижности. Этот принцип должен обладать всей полнотой своей реальности; он должен встречаться также и как собственность. В том-то и состоит истинно реальный дух, что каждый момент получает свою полную самостоятельность, и сам он получает свое инобытие в полном безразличии бытия. К этому природа неспособна; за исключением великих систем, она не может производить самостоятельную жизнь в своих частях и быть представительницей этой жизни[249 - Ср. Hegel, Werke, В. I, S. 383–386. Прим. издателя.]. В том-то, как мы увидим в другом месте, и заключается великий шаг вперед, сделанный современным миром по сравнению с античным, его превосходство над античным миром, что в последнем предметное получает б?льшую и даже абсолютную самостоятельность, но по этой же самой причине тем с большим трудом возвращается под единство идеи.
Отсутствие субъективности есть недостаток, присущий самой греческой нравственной идее. Принцип, выступивший впервые у Сократа, существовал до сих пор лишь как нечто подчиненное; теперь он должен стать также абсолютным принципом, необходимым моментом самой идеи. Посредством исключения собственности, семейной жизни, упразднения произвола при выборе сословия, т. е. упразднения всех тех определений, которые связаны с принципом субъективной свободы, Платон надеется закрыть доступ всем страстям. Он верно понял, что порча греческой жизни происходит от того, что индивидуумы, как таковые, стали выдвигать вперед и отстаивать свои цели, склонности и интересы и позволили им подчинить себе общий дух. Но так как христианская религия делает этот принцип необходимым, – в христианской религии душа отдельного человека является абсолютной целью и, таким образом, вступает в мир как необходимая в понятии духа, – то мы видим, что платоновское государственное устройство не могло выполнить высшего требования, предъявляемого нравственному организму. Платон не признавал знания, хотения, решения отдельного лица, не признавал за ним права стоять на собственных ногах и не умел совместить это право со своей идеей. Но справедливость столь же требует, чтобы также и этот принцип получил подобающее ему место, сколь и требует высшего растворения этого принципа и его гармонии со всеобщим. Противоположностью платоновского принципа является принцип сознательной свободной воли отдельного лица именно как отдельного лица, который в позднейшую эпоху был поставлен во главе угла в особенности Руссо, – принцип, гласящий, что необходим произвол отдельного лица, что необходимо давать каждому отдельному лицу высказаться до конца. У Руссо этот противоположный принцип доведен до крайности и выступает во всей своей односторонности. В противовес этому произволу и просвещению в себе и для себя всеобщее, мыслимое, должно существовать не как мудрый начальник и обычай, а как закон и, вместе с тем, как моя сущность и моя мысль, т. е. как субъективность и единичность. Люди со своими же интересами, со своими же страстями должны из самих себя породить разумное, и разумное на самом деле вступает в действительность благодаря крайней нужде, случайности, внешнему, поводу.
Мы можем здесь вкратце рассмотреть еще одну знаменитую сторону платоновской философия, а именно его эстетическое учение, познание сущности прекрасного. И в этой области Платон также высказал единственно истинную мысль, что сущность прекрасного интеллектуальна, что она есть идея разума. Если он говорит о духовной красоте, то это нужно понимать следующим образом: красота, как красота, есть чувственная красота, которая не находится где-то в другом, неведомом месте, а как раз то, что в чувственном называется прекрасным, именно и духовно. Здесь обстоит дело точно так же, как с его идеей вообще. Подобно тому, как сущность и вообще истина являющегося есть идея, так и истина являющегося прекрасного именно и есть идея прекрасного. Отношение к телесному как отношение вожделения или приятного и полезного не есть отношение к телесному как к прекрасному; это есть отношение к нему как к тому, что лишь чувственно, или, другими словами, отношение единичного к единичному. Но сущностью прекрасного служит только простая идея разума, наличная чувственным образом, как некая вещь; содержанием же этой вещи является не что иное, как эта идея[250 - Plat., Hippias major, p. 292 (p. 433); 295 sqq. (p. 439 sqq.); p. 302 (p. 455–456).]. Прекрасное по существу своему носит духовный характер; оно, следовательно, есть не только некоторая чувственная вещь, а действительность, подчиненная форме всеобщности, истине. Но это всеобщее также не сохраняет формы всеобщности, а всеобщее есть содержание, формой которого служит чувственный вид; и в этом и заключается определенность прекрасного. В науке всеобщее носит также и форму всеобщего или понятия; прекрасное же выступает как действительная вещь или же, когда оно выражено словами, как представление, каковое есть способ, которым материально-предметное существует в духе. Природа, сущность и содержание прекрасного познаются и оцениваются единственно лишь разумом, так как прекрасное представляет собою то же самое содержание, которым обладает философия. Но так как разум выступает в прекрасном в форме вещи, то прекрасное остается ниже познания, и Платон именно поэтому видел в познании истинное проявление разума, то его проявление, которое носит характер духовного.
Таково основное содержание платоновской философии. Фазис, представленный платоновской философией, носит следующие черты: во-первых, она излагается в случайной форме диалога, в котором благородные свободные люди ведут между собой беседу, интересуясь единственно лишь духовной жизнью теории. Во-вторых, собеседники, ведомые содержанием беседы, приходят к глубочайшим понятиям и прекраснейшим мыслям, подобно тому как можно наткнуться на драгоценные камни, если и не в пустыне, то во всяком случае двигаясь по песчаной дороге. В-третьих, в диалогах этой философии отсутствует систематическая связь, хотя все имеет своим истоком один-единственный интерес. В-четвертых, в ней недостает вообще субъективности понятия, но, в-пятых, ее основу образует все же субстанциальная идея.
Философия Платона прошла две ступени развития, после чего она необходимо должна была достигнуть завершения и подняться до более высокого принципа. Всеобщее, имеющееся в разуме, должно было, во-первых, раздвоиться, должно было распасться на две бесконечно резкие и бесконечные противоположности – на себя и на самостоятельность личного сознания, которое существует для себя (так, например, в Новой академии самосознание возвращается в себя и становится некоторого рода скептицизмом); это – отрицательный разум, который обращается вообще против всякого всеобщего и не умеет находить единства самосознания и всеобщего и поэтому застревает в первом. Но учение неоплатоников, во-вторых, представляет собою возвращение назад, единство самосознания и абсолютной сущности; для них бог непосредственно присутствует в разуме, само разумное познание есть божественный дух, и содержание этого познания есть сущность бога. Обе эти ступени мы будем рассматривать позднее.
В. Аристотель
С этим замечанием мы оставляем Платона, с которым неохотно расстаешься. Но переходя к его ученику Аристотелю, мы опасаемся, что нам придется быть еще более пространными, ибо он был одним из богатейших и глубокомысленнейших из когда – либо явившихся на арене истории научных гениев, человек, равного которому не произвела ни одна эпоха. Так как мы обладаем очень многими его произведениями, то объем материала, которым мы располагаем, еще больше; к сожалению, я, однако, не могу рассматривать Аристотеля так подробно, как он заслуживает, а должен буду ограничиваться тем, что дам общее представление о его философии и остановлюсь дольше лишь на разъяснении вопроса о том, насколько Аристотель развил дальше начатое платоновским принципом, как в отношении глубины идеи, так и в отношении широты захвата, ибо он был таким многообъемлющим и спекулятивным умом, как никто другой, хотя его метод исследования не систематичен.
Что касается общего характера аристотелевских произведений, мы должны сказать, что они охватывают весь круг человеческих представлений, что ум Аристотеля проник во все стороны и области реального универсума и подчинил понятию их разбросанное богатое многообразие. И в самом деле, большая часть философских наук обязана ему установлением своих отличительных особенностей и заложением своего начала. Но хотя наука, таким образом, всюду у него распадается на ряд рассудочных определений, определенных понятий, аристотелевская философия все же содержит в себе вместе с тем глубочайшие спекулятивные понятия. Аристотель придерживается также и по отношению к философии, взятой как целое, того же самого способа исследования, который он применяет в отдельных областях. Но общий характер его философии не являет нам систематизирующего себя посредством построения целого, порядок и связь которого также принадлежат области понятия, – наоборот, ее части заимствованы из опыта и рядоположены друг с другом, так что каждая часть как раз и познается в отдельности, как определенное понятие, не включаясь в связующее движение науки. От философии, находящейся в стадии тогдашней эпохи, нельзя требовать, чтобы она вскрыла нам необходимость. Но хотя аристотелевская система выступает перед нами не как развитая в своих частях из самого понятия, и ее части лишь стоят рядом, она все же образует целостную, по существу спекулятивную философию.
Одна из причин, заставляющих быть пространным при изложении философии Аристотеля, заключается в том, что никакой другой философ не пострадал так, как Аристотель, от несправедливости совершенно бессмысленных традиций, сохранившихся относительно его философского учения и еще и поныне не потерявших своей силы, несмотря на то, что он в продолжение многих веков был учителем всех философов; ему приписывают воззрения, составляющие прямую противоположность его действительному философскому учению. И в то время как Платона много читают, сокровища аристотелевской мысли остаются в продолжение многих веков, вплоть до новейшего времени, почти неизвестными, и об Аристотеле господствуют самые ложные предрассудки. Его спекулятивных, логических произведений почти никто не знает. К естественнонаучным его произведениям относились, правда, в новейшее время более справедливо, но не таково отношение к его философским воззрениям. Всеобщим распространением пользуется, например, мнение, что аристотелевское и платоновское философские учения прямо противоположны друг другу; последнее-де является идеализмом, а первое – реализмом и даже реализмом в самом тривиальном смысле этого слова. Именно, согласно этому мнению, Платон сделал принципом идеал, так что внутренняя идея, по его учению, черпает из самой себя. Напротив, согласно-де Аристотелю душа есть tabula rasa, она получает совершенно пассивно все свои определения из внешнего мира; его философия представляет собою поэтому эмпиризм, самое плохенькое локкианство и т. д. Но мы позднее увидим, как мало это соответствует его действительному учению. На самом деле Аристотель превосходит Платона в спекулятивной глубине, так как ему было знакомо весьма основательное умозрение, идеализм, и он остается ему верен при самом широком эмпирическом охвате. В частности, у французов существуют еще и теперь совершенно ложные воззрения относительно Аристотеля. Вот один пример, показывающий, как традиция слепо приписывает ему воззрения, не давая себе труда заглянуть в его собственные произведения, чтобы убедиться, действительно ли находится в них это воззрение: в старых эстетиках три единства драмы – единство действия, времени и места – восхваляются, как r?gles d’Aristote, la saine doctrine. Но Аристотель говорит только (Poet., с. 8 et 5)[251 - При цитировании глав Аристотеля в дальнейшем изложении нами положено в основание, как и раньше, беккеровское издание; там, где в скобках стоит другая цифра наряду с первой, эта цифра обозначает другие издания; например, по отношению к «Органону» – издание Буле, по отношению к «Никомаховой этике» – издание Целля и Михелета и т. д. Прим. издателя.] о единстве действия и мимоходом – о единстве времени; о третьем же единстве, о единстве места, он вовсе не говорит.
Платон говорит далее: «Через посредство этого единства был сделан видимый и невидимый мир. Благодаря тому, что бог дал последнему эти элементы полностью и нераздельно, этот мир совершенен, никогда не старится и не заболевает. Ибо старость и болезнь возникают лишь оттого, что на тело действует извне чрезмерное количество таких элементов. Но здесь этого нет, ибо мир сам содержит в себе полностью эти элементы, и ничего не может входить в него извне. Мир имеет форму шара» (как это также учит Парменид и пифагорейцы), «ибо шар есть наисовершеннейшая форма, содержащая в себе все другое. Он совершенно гладок, ибо для него нет ничего вне его и он не нуждается в членах». Конечность состоит в том, что имеется различие в отношении чего-то другого, имеется нечто внешнее для какого-нибудь другого предмета. В идее же содержится также и определение, ограничивание, различение, инобытие, но оно содержится в ней растворенным, замкнутым в едином. Таким образом, это различие, через которое никакая конечность не возникает, а сразу же снимается. Конечность находится, таким образом, в самом бесконечном. Это – великая мысль. «Бог сообщил миру наиболее соответственное из семи движений, а именно то, которое всего более подходит рассудку и сознанию, круговое движение. Шесть других движений бог отделил от него и освободил его от их неупорядоченной сущности» (от движения вперед и назад)[222 - Plat., Timaeus, p. 32–34 (p. 28–31).]. Это лишь сказано обще.
Дальше мы читаем: «Так как бог хотел сделать мир богом, то он ему дал душу и, поместив последнюю в средину, распространил затем по всему миру и окружил ею последний также и извне. Так бог произвел это самодовлеющее, не нуждающееся в каком-либо другом, само себе знакомое и дружественное существо. И таким образом бог, благодаря всему этому, родил мир как некоего блаженного бога». Мы можем сказать: только здесь, где мир, благодаря мировой душе, есть целостность, впервые имеется познание идеи; лишь этот порожденный бог, как средина и тожество, есть подлинно в себе и для себя сущее. Тот первый бог, который был только добром, есть, напротив, только предположение, и потому он не был ни определенным, ни определяющим самого себя. «Хотя мы и сказали о душе лишь в конце, она, однако, говорит Платон, не последняя, а это – только наш способ речи. Она – господствующее, царственное, а телесное послушно ей». В том, что Платон приписывает способу речи этот обратный порядок, обнаруживается его наивность; на самом же деле то, что здесь кажется случайным, в свою очередь необходимо, а именно необходимо начать с непосредственного и лишь затем перейти к конкретному. Мы также должны пойти по этому пути, но мы идем с сознанием, что когда мы говорим в философии о таких определениях, как бытие, или бог, пространство, время и т. д., мы говорим о них непосредственным образом, и само это содержание по своей природе сначала непосредственно и, значит, неопределенно внутри себя. Бог, например, с которого мы начинаем как с некоего непосредственного, доказан лишь в конце и доказан именно как подлинно первое. Можно, следовательно, как мы уже заметили выше, обнаружить в такого рода высказываниях допускаемую Платоном путаницу; но нам ведь важно только узнать, чт? истинного он вносит.
Платон показывает нам природу идей точнее в одном из самых знаменитых и глубоких мест «Тимея», в котором он в сущности души снова признает, собственно говоря, ту же самую идею, относительно которой он раньше утверждает, что она есть сущность телесного. Именно он говорит: «Душа была создана следующим образом. Из нераздельной и всегда остающейся одинаковой с собою сущности и из разделенной сущности, которая находится в теле, бог сделал третий род срединной сущности, которая обладает природой равного самому себе и природой иного». (Разделенное называется у Платона также и иным как таковым, или, иначе говоря, иным самого себя, а не иным какого-нибудь нечто.) «И таким же образом бог сделал душу срединой разделенного и неделенного». Тут снова появляются абстрактные определения единого, которое есть тожество многого и нетожественного, которое есть противоположность, различие. Когда мы говорим: «бог есть тожество тожественного и нетожественного», то кричат, что это варварство и схоластика. Но те самые, которые так отрицательно относятся к нашему положению, способны относиться к Платону с высокой похвалой; и, однако, он определил истину так же, как и мы. «И взяв эти три существа, положенные как различные, бог все соединил в одну идею, насильно вдвигая природу иного, с трудом поддающуюся смешению, в равное самому себе»[223 - Plat., Timaeus, p. 35 (p. 32).]. Полагание многого, сущего вне друг друга, как идеализированного, это несомненно насилие разума, и в том-то именно также и состоит насилие над рассудком, что ему предлагают согласиться с такого рода операцией.
Теперь Платон описывает, каким образом равное самому себе, как таковое, представляющее собою момент, а затем иное, или материя, и третье, представляющееся разложимым, не возвращающимся в первое единство объединением, – каким образом эти три момента, существовавшие вначале раздельно друг от друга, теперь рефлектируясь просто в себя и беря обратно начало, низводятся на положение моментов. «Смешав тожественное и иное с сущностью (?????)», с третьим моментом, «и сделав из всех трех одно, бог разделил это целое снова на столько частей, сколько подобало»[224 - Ibidem.]. Так как эта субстанция души тожественна с субстанцией видимого мира, то это единое целое лишь теперь впервые представляет собою систематизированную субстанцию, подлинную материю, разделенное внутри себя, абсолютное вещество, как некое пребывающее и нераздельное единство одного и многого, и нечего спрашивать о другой сущности. Способ деления этой субъективности содержит в себе знаменитые платоновские числа, которые, без сомнения, первоначально выдвинуты пифагорейцами, числа, над истолкованием которых ломали себе голову и античные, и новые авторы и даже еще и Кеплер в своем «Harmonia mundi», но которых никому еще не удалось понять. Понять их, – это означало бы две вещи: это означало бы, во-первых, распознать их спекулятивный смысл, их понятие. Но, как мы уже заметили раньше, рассматривая учение пифагорейцев, их числовые различия дают лишь неопределенное понятие различия, и даже это неопределенное понятие они дают лишь в первых числах. Там же, где отношения становятся запутаннее, указанные числа вообще неспособны ближе обозначать их. А затем, во-вторых, так как они являются числами, то они, в качестве таковых различий величин, выражают лишь чувственные различия. Им должна была бы соответствовать выступающая в явлении система величин, а всего чище и свободнее, не порабощенной качественным выступает величина в системе небесных тел. Однако сами эти живые числовые сферы суть системы многих моментов: они суть как величина расстояния, так и величина скорости, а также – и величина массы. Ни один из этих трех моментов, представленный как ряд простых чисел, не может отдельно быть сравнен с системой небесных сфер, ибо соответствующий последней ряд может содержать в себе в качестве своих членов лишь систему всех этих моментов. Если бы платоновские числа даже и были элементами каждой такой системы, то все же приходилось бы принимать во внимание не столько этот элемент, сколько соотношение моментов; это-то соотношение должно быть постигнуто как целое, и лишь оно есть подлинно интересное и разумное. Мы здесь должны кратко и чисто исторически указать главные черты этого ряда чисел. Основательнейшее исследование об этих числах дал нам Бёкк («Ueber die Bildung der Weltseele im Timaos des Platon») в третьем томе издаваемых Даубом и Крейцером «Studien» (стр. 26 и сл.).
Основной ряд является очень простым. «Сначала бог взял из целого одну часть; затем он взял вторую часть, вдвое б?льшую первой; третья часть в полтора раза больше второй или в три раза больше первой. Следующая часть вдвое больше второй. Пятая часть в три раза больше третьей. Шестая часть в восемь раз больше первой. Седьмая часть больше первой на двадцать шесть частей». Ряд, следовательно таков: 1; 2; 3; 4=2
; 9=3
; 8=2
; 27=3
. «Затем бог заполнил двойные и тройные интервалы» (отношения 1:2 и 1:3), «отрезая снова части от целого. Эти части он поместил в промежуточные пространства таким образом, чтобы в каждом из последних были две средины, из которых одна во столько же частей больше одного крайнего члена, во сколько частей она меньше другого, а вторая на такое же число больше одного крайнего члена, на какое число она меньше другого», т. е. первая образует непрерывную геометрическую пропорцию, а вторая – арифметическую. Первая средина возникает посредством квадратов, представляет собою, следовательно, например, при отношении 1:2, пропорцию 1:?2:2, а вторая при таком же отношении представляет собою число 1?. Благодаря этому возникают затем новые соотношения, которые, в свою очередь, вставляются в первые особо указанным Платоном и более трудным способом, вставляются, однако, так, что всюду кое-что отбрасывается, и последним численным соотношением является 256:243 или 2
:3
. – С этими числовыми соотношениями, однако, далеко не пойдешь, ибо они ничего не дают для спекулятивного понятия. Соотношений и законов природы нельзя выразить посредством таких скудных чисел. Эти числа являются эмпирическим соотношением, не составляющим основного определения в мерах природы. Платон говорит далее: «Весь этот ряд бог разорвал вдоль на две части, положил их друг на друга крестообразно, наподобие буквы X, согнул их концы, придав им форму круга, и окружил их равномерным движением, – движением, образующим внешний круг и внутренний круг. Движение внешнего круга есть круговращение подобного самому себе, а движение внутреннего круга – круговращение инобытия или не подобного себе, причем первый круг является господствующим, неделимым. Внутренний же круг он снова разделил в соответствии с вышеуказанными соотношениями на семь кругов, из которых три вращаются с одинаковой скоростью, а остальные четыре с неодинаковой скоростью как между собою, так и в сравнении с тремя первыми. Вот это – система души, и внутри души образовано все телесное. Она есть средина; она проникает собою целое, но вместе с тем объемлет его извне и движется в самой себе. Она носит, таким образом, в самой себе божественную основу непрекращающейся и разумной жизни»[225 - Plat., Timaeus, p. 35–36 (p. 32–34).]. Это – не совсем свободно от путаницы, и мы должны брать от этого изложения лишь ту общую мысль, что так как, согласно Платону, в представление о телесном универсуме уже входит душа как объемлющее этот универсум простое, то и сущность телесного и души составляет для него единство в различии. Это двойная сущность, положенная в себе и для себя в различии, систематизируется внутри единого во многие моменты, которые, однако, суть движения, так что как эта реальность, так и вышеуказанная сущность суть целое в противоположении души и телесности, и это целое в свою очередь едино. Дух есть то пронизывающее, которому телесное в такой же мере противоположно, в какой мере эта протяженность и есть он сам.
Таково определение души, которая помещена в мир и правит им, и поскольку субстанциальное, находящееся в материи, похоже на душу, постольку установлено их внутреннее тождество. Тот факт, что в ней содержатся те же самые моменты, которые составляют ее реальность, означает лишь следующее: бог, как абсолютная субстанция, не видит ничего другого, кроме самого себя. Платон поэтому описывает соотношение души к предметной сущности следующим образом: когда душа касается одного из моментов последней, касается либо делимой, либо неделимой субстанции, она, рефлектируясь в себя, обсуждает их, отличает чт? в этом соотношении составляет тожественное и различное, как, где и когда единичные соотносятся друг с другом и в всеобщим. «И когда круг чувственного, пройдя правильно свой путь, дает познать себя всей своей душе» (когда различные круги мирового движения являют себя соответственными с внутри-себя-бытием духа), «тогда возникают истинные мнения и правильные убеждения. А когда душа обращается к разумному, и круг подобного самому себе движения дает себя познать, тогда мысль завершается и становится наукой»[226 - Plat., Timaeus, p. 37 (p. 35).]. Это и есть сущность мира как блаженного внутри себя бога; лишь здесь завершается идея целого, и лишь в согласии с этой идеей появляется мир. До сих пор же выступила только сущность чувственного, а не чувственный уже мир, ибо хотя Платон говорил уже раньше (стр. 187) об огне и т. д. он, однако, там давал лишь сущность чувственного. Он поэтому поступил бы лучше, если бы не употреблял вышеуказанных выражений. Это и является причиной того, почему так кажется, что Платон как будто здесь снова начинает рассматривать с самого начала то, чт? он уже рассмотрел раньше. А именно, так как мы должны начинать рассмотрение с абстрактного, чтобы от него перейти к истинному, к конкретному, которое появляется лишь позже (см. выше стр. 188), то последнее, после того как оно найдено, получает снова видимость и форму начала, и это еще сильнее выступает у Платона благодаря его небрежному изложению.
Платон, продолжая дальше свое изложение, называет этот божественный мир также и образцом, который находится лишь в мысли (??????) и всегда остается равным самому себе. Но это целое противополагается снова себе таким образом, что существует некое второе целое, отображение первого, мир, в котором есть возникновение и который видим[227 - Plat., Timaeus, p. 48 (p. 57); p. 37–38 (p. 36–37).]. Это второе целое есть система небесного движения, а первое целое – вечно живое. Того, что имеет в себе возникновение и становление, нельзя сделать вполне одинаковым с первым целым, с вечной идеей. Но оно сделано движущимся образом вечного, остающимся в единстве; и этот вечный образ, движущийся согласно числу, есть то, чт? мы называем временем. Платон говорит о нем: обыкновенно мы называем «было» и «будет» частями времени и вносим в абсолютную сущность времени эти различия движущегося во времени изменения. Но истинное время вечно, или, иначе выражаясь, истинное время есть настоящее. Ибо субстанция не становится ни старше ни моложе, и время, как непосредственный образ вечного, также не имеет своими частями ни будущего, ни прошлого. Время идеально, подобно пространству; оно не представляет собой ничего чувственного, а есть тот непосредственный способ, каким дух появляется в предметной форме, есть чувственное нечувственное. Реальными моментами принципа в себе и для себя сущего движения во временном являются те моменты, в которых выступают изменения: «По постановлению и воле бога породить время возникло солнце, луна и пять других звезд, которые называются планетами. Эти звезды и служат для определения и сохранения численных соотношений времени»[228 - Plat., Timaeus, p. 48 (p. 57); p. 37–38 (p. 36–37).]. Ибо в них-то именно и реализованы числа времени. Таким образом, небесное движение, как представляющее собой истинное время, есть остающийся в единстве образ вечного, т. е. такой образ, в котором вечное сохраняет определенность равного самому себе. Ибо все находится во времени, т. е, именно в том отрицательном единстве, которое ничему не дает свободно вкорениться в нем и, стало быть, двигаться и быть движимым согласно случаю.
Но это вечное носит также характер другой сущности, идеи изменяющегося и блуждающего принципа, всеобщность которого составляет материя. Вечный мир имеет свое отображение в мире, принадлежащем времени, но существует, кроме последнего, еще и второй, которому изменчивость существенно имманентна. Подобное самому себе и другое суть самые абстрактные из всех тех противоположностей, которые прошли перед нами дотоле. Вечный мир, как помещенный во времени, имеет, таким образом, две формы: форму подобного самому себе и форму различного себя (Sich-Andern), блуждающего. Три момента, как они выступают в этой последней сфере, суть, во-первых, простая сущность, которая порождается, возникшее, или определенная материя; во-вторых, место, в котором она порождается; и, в-третьих, то, в чем порожденное имеет свой прообраз. Платон обозначает их также следующим образом: «сущность (??), место и порождение». Мы получаем, таким образом, умозаключение, в котором пространство есть средний член между индивидуальным порождением и всеобщим. Если мы этот принцип будем противополагать времени со стороны его отрицательности, то средним членом будет принцип иного, как всеобщий принцип – «воспринимающая среда как кормилица», – сущность, которая все сохраняет, дает всему независимое существование и способность действовать по своему желанию. Этот принцип есть бесформенное, которое, однако, восприимчиво ко всем формам, есть всеобщая сущность всего кажущегося различным; дурную пассивную материю – вот что мы понимаем под этим принципом, когда говорим о нем: это – относительно субстанциальное, устойчивое существование вообще, но оно здесь – внешнее существование и лишь абстрактное для-себя-бытие. Мы отличаем от него в нашей рефлексии форму, и последняя, согласно Платону, получает существование лишь благодаря кормилице. В этот принцип входит то, чт? мы называем явлением, ибо материя именно и есть это устойчивое существование порождения, в котором положено раздвоение. Но мы не должны положить то, чт? является в нем как единичное земное существование, а должны понимать это являющееся как то, что само есть всеобщее в такой определенности. Так как материя как всеобщее есть сущность всего единичного, то Платон, во-первых, напоминает нам, что мы не должны говорить об этих единичных вещах: об огне, воде, земле, воздухе и т. д. (которые, таким образом, снова появляются здесь), ибо этим мы их высказываем как закрепленные определенности, которые таковыми и остаются; в действительности же остается лишь их всеобщее, или, иначе говоря, остаются они, как всеобщее, лишь огненное, земное и т. д.[229 - Plat., Timaeus, p. 47–53 (р. 55–66).]
Затем Платон излагает определенную сущность этих чувственных вещей или их простую определенность. В этом мире изменчивости форма есть пространственная фигура, ибо подобно тому, как в том мире, который есть непосредственное отображение вечного мира, время есть абсолютный принцип, так и здесь абсолютный идеализованный принцип составляет чистая материя как таковая, т. е. именно устойчивое существование пространства. Пространство есть идеализованная сущность этого являющегося мира, средина, соединяющая друг с другом положительность и отрицательность; определенности же пространства суть фигуры. И, говоря точнее, среди измерений пространства мы должны принимать в качестве истинной сущности плоскость, так как она есть в пространстве самосущая (f?r sich) средина между точкой и линией, и она есть три в своем первом реальном ограничении. Поэтому и треугольник есть первая среди фигур, тогда как круг не имеет в самом себе границы как таковой. Здесь, таким образом, Платон начинает давать дедукцию фигур, основу которых составляет треугольник; сущность чувственных вещей составляют, поэтому треугольники. Затем он говорит на пифагорейский манер, что сложение и соединение этих треугольников, как принадлежащая средине их идея, снова в свою очередь составляет, согласно первоначальным соотношениям чисел, чувственные элементы. Это – основа понимания Платона, а тот способ, каким Платон определяет фигуры элементов и соединения треугольников, я оставляю без рассмотрения[230 - Plat., Timaeus, p. 53–56 (р. 66–72).].
Отсюда Платон переходит к изложению некоторого рода физики и физиологии, куда мы тоже не последуем за ним. Мы должны рассматривать эту часть его философии как первую детскую попытку постигнуть чувственные явления в их множественности. Но эта попытка еще поверхностна и запутанна. Здесь Платон берет чувственное явление, например, части и члены тела, рассказывает о них, перемешивая свой рассказ мыслями, приближающимися к нашим формальным объяснениям, и в этих мыслях на самом деле исчезает понятие. Мы должны лишь помнить о возвышенной природе идеи, которая и составляет то превосходное, чт? есть в объяснениях Платона; ибо что касается реализации этой идеи, то Платон испытывал и выражал лишь потребность в ней. Часто можно распознать также и спекулятивную мысль, но большей частью рассмотрение сводится к совершенно внешним способам объяснения, например к объяснению внешней целесообразностью и т. д. Это – иной способ рассмотрения физики, чем наш, ибо в то время как у Платона еще нет достаточных эмпирических познаний, в современной физике чувствуется, наоборот, недостаток в идее. Хотя Платон кажется противоречащим нашей нынешней физике, игнорирующей понятия жизни, и хотя он продолжает по-детски говорить внешними аналогиями, он, однако, в частности высказывает очень глубокие взгляды, которые были бы достойны и нашего внимания, если бы только у наших физиков получило место рассмотрение природы, исходящее из понятия жизни. И точно так же нам тогда представлялось бы достойным внимания его связывание физиологического с психическим. Некоторые части «Тимея» содержат в себе более общие взгляды; так, например, в учении о цветах он переходит к соображениям более общего характера. А именно, приступая к этому предмету, Платон говорит о трудности различения и распознания единичного, говорит о том, что «следует различать двоякого рода причины: необходимые и божественные. Во всем мы должны отыскивать божественное ради достижения блаженной жизни» (это занятие есть самоцель, и в нем заключается блаженство), «насколько наша природа способна воспринимать это божественное. Необходимые же причины мы должны отыскивать лишь для познания божественных причин, так как без этих необходимых причин» (как условий познания) «мы не можем познавать». Рассмотрение согласно необходимости есть внешнее рассмотрение предметов, их взаимной связи, их отношений друг к другу и т. д. «Творцом божественных причин является сам бог», божественное принадлежит к первому вечному миру, но принадлежит к нему не как к потустороннему миру, а как к наличному здесь и теперь. «Порождение и устройство смертных вещей бог поручил своим помощникам (?????????)». Такова легкая манера перехода от божественного к конечному, земному. «Так как последние в самих себе получили бессмертное начало души, то они, подражая божественному, сделали смертное тело и вложили в него другую, смертную идею души. Эта смертная идея содержит в себе насильственные и необходимые страсти: удовольствие, величайшая приманка, влекущая ко злу; а затем страдания, служащие препятствием (?????) к добру; далее также безрассудную смелость (??????) и страх – неразумные советники; гнев, надежда и т. д. Все эти чувства принадлежат смертной душе. И дабы не запятнать божественного там, где это не абсолютно необходимо, низшие боги отделили это смертное от местопребывания божественного и поселили в другую часть тела. Они создали, таким образом, перешеек и границу между головой и грудью, поместив между ними шею». Чувства, страсти обитают именно в груди, в сердце (в сердце мы помещаем бессмертное), духовное же находится в голове. Но чтобы сделать это смертное возможно более совершенным, «они», например, «присоединили к воспламененному гневом сердцу мягкое и бескровное легкое, облегающее его, как обойма, и имеющее, кроме того, полые трубки, как в губке, чтобы оно, воспринимая в себя воздух и питье, охлаждало сердце и освежало его и облегчало его жар»[231 - Plat., Timaeus, p. 67–70 (p. 93–99).].
Особенно замечательно то, что Платон затем говорит о печени. «Так как неразумная часть души, вожделеющая есть и пить, не слушает разума, то бог создал природу печени, дабы эту часть души напугала сила мыслей, нисходящая в печень, как в зеркало, воспринимающее первообразы и показывающее призраки, и дабы затем, когда эта часть души снова будет смягчена, она во сне сделается причастной видениям. Ибо те, которые нас сотворили, помня о вечной заповеди отца сделать род смертных насколько возможно лучшим, устроили нашу более дурную часть так, чтобы она хотя до некоторой степени сделалась причастной истине, и дали ему пророчество». Платон, таким образом, приписывает пророчество неразумной, телесной стороне человека, и, хотя часто думают, что у Платона пророчество и т. д. приписывается разуму, это все же неверно; пророчество, говорит он, есть некий разум, но разум в неразумии. «Достаточным доказательством того, что бог дал дар пророчества именно человеческому неразумию, служит тот факт, что никакой человек, обладающий своим разумом, не делается причастным божественному и истинному пророчеству, а получает дар такого пророчества человек лишь тогда, когда или сила его ума во сне скована, или тот человек, который благодаря болезни или одержимости впал в безумие». Платон, следовательно, объявляет ясновидение более низкой способностью, чем сознательное знание. «Разумный же лишь должен объяснять и толковать такое пророчество; ибо тот, кто еще находится в состоянии сумасшествия, не может его обсудить. Хорошо поэтому было сказано еще в древние времена: делать свое и познавать самого себя свойственно лишь разумному человеку»[232 - Plat., Timaeus, p. 70–72 (p. 99 – 102).]. Платона делают патроном голой восторженности. Как видим, это совершенно неверно. Таковы главные моменты платоновской философии природы.
3. Философия духа
Что касается теоретической стороны, то отчасти мы уже рассмотрели в общих чертах как спекулятивную сущность духа, еще не получившую своей реализации, так и очень важные различия видов познания, отчасти же мы еще не находим у Платона развитого осознания организма теоретического духа. Он, правда, различает чувство, вспоминание и т. д., однако эти моменты духа он не изображает в их связи, в том отношении, в котором они находятся друг с другом согласно необходимости. Нас поэтому интересует еще в платоновской философии духа единственно лишь его представление о нравственной природе человека, и эта реальная, практическая сторона сознания представляет собою самую блестящую часть платоновской философии духа; на нее мы должны поэтому теперь обратить особое внимание. Этого не следует понимать ни в том смысле, будто Платон старался найти то, чт? теперь называют высшим моральным принципом и чт? на поверку оказывается чем-то пустым именно потому, что оно признается всеобъемлющим, ни в том смысле, будто он стремился найти какое-то естественное право, эту тривиальную абстракцию, налагаемую на реальное практическое существо, на право. В своих книгах о «Государстве» он лишь раскрывает нравственную природу человека. Нравственная природа человека кажется нам чем-то, имеющим мало касательства к государству. Уму Платона, однако, реальность духа, поскольку он противоположен природе, предстала в ее высшей правде, предстала именно организацией некоторого государства, которое, как таковое, по существу своему нравственно, и он знал, что нравственная природа (свободная воля в ее разумности) добивается подобающего ей, ее действительности, лишь среди подлинного народа.
Затем мы должны указать точнее: Платон в книгах о «Государстве» начинает исследование своего предмета с утверждения, что следует показать, чт? такое справедливость (??????????). После некоторого обсуждения и после того, как пришлось отвергнуть несколько дефиниций, предложенных участниками беседы, Платон говорит, наконец, в свойственной ему простой манере: в отношении этого исследования дело обстоит так, как если бы кому-нибудь было предложено прочесть слова, написанные мелкими буквами и находящиеся на далеком расстоянии, а затем кто-то сказал бы, что эти же самые слова находятся на более близком расстоянии, где они к тому же написаны более крупными буквами. Ведь в таком случае тот, кому следует прочесть эти слова, предпочтет прочесть их сначала там, где они написаны крупнее, а уже затем ему было бы легче прочесть и более мелкие. Точно так же он намерен поступить с вопросом о справедливости. Справедливость мы находим не только у отдельного лица, но также и в государстве, а государство больше отдельного лица. Она поэтому будет выражена в государствах более крупными чертами и ее будет легче распознать. (Это совершенно не похоже на стоические разговоры о мудреце.) Он намерен поэтому лучше рассматривать справедливость такой, какой она является в государстве[233 - Plat., De Republica, II, p. 368–369 (p. 78).]. Таким образом, делая это сравнение, Платон переводит вопрос о справедливости на вопрос о том, каковым должно быть государство. Это очень наивный, милый переход, кажущийся произвольным. Но великое чутье приводило древних философов к истине, и тот что Платон здесь выдает лишь за нечто более легкое, есть на самом деле природа самого предмета. Не соображения удобства, следовательно, ведут его к рассмотрению государства, а то обстоятельство, что осуществление справедливости возможно лишь постольку, поскольку человек есть член государства, ибо справедливость в ее реальности и истине существует только в государстве. Право, как дух, и притом как дух, не поскольку он есть познающий, а поскольку он хочет сообщить себе реальность, есть наличное бытие свободы, действительность самосознания, духовное внутри-себя и у-себя-бытие, которое деятельно: точно так же, как я, например, в собственности вкладываю свою свободу в такую-то внешнюю вещь. В свою очередь сущностью государства является объективная действительность права, реальность, в которой присутствует весь дух, а не только мое знание себя как данного отдельного человека. Ибо самоопределение свободного разумного духа представляет собою законы свободы, но последние существуют именно как государственные законы, ибо понятие государства именно и состоит в том, что существует разумная воля. В государстве, следовательно, законы обладают значимостью; эти законы суть его обычаи и нравы. Но так как в государстве существует также и произвол в его непосредственности, то эти законы суть не только нравы и обычаи, а должны вместе с тем быть силой, борющейся с произволом, каковой они являются в лице судов и правительств. Таким образом, чтобы познать черты справедливости, Платон с инстинктом разума сосредоточивает свое внимание на том характере, который она получает в государстве.
Справедливость в себе обычно изображается у нас в форме естественного права, права в естественном состоянии; но такое естественное состояние есть непосредственно нравственная бессмыслица. Существующее в себе считается чем-то естественным теми, которые не доходят до всеобщего, подобно тому как необходимые моменты духа считаются врожденными идеями. Но естественное есть, наоборот, то, чт? должно быть снято духом, и право естественного состояния может выступить лишь как абсолютная неправда духа. В сравнении с государством, как реальным духом, дух в своем простом, еще не реализованном понятии есть абстрактное «в себе»; правда, это понятие должно предшествовать построению своей реальности, и это есть то, что понимали как естественное состояние. Мы привыкли исходить из фикции некоего естественного состояния, которое, разумеется, есть состояние не духа, разумной воли, а состояние животных по отношению друг к другу. Гоббс поэтому правильно заметил, что истинное естественное состояние есть война всех против всех. Это «в-себе» духа есть вместе с тем единичный человек, ибо в представлении всеобщее отделяется вообще от единичного, как если бы единичное было само по себе то, чт? оно представляет собою, а всеобщее не делало бы его тем, чт? оно есть поистине, – следовательно, как если бы всеобщее не было его сущностью, но всего важнее было бы то, что особенного оно имеет в себе. Фикция естественного состояния начинает с единичности отдельного лица, с его свободной воли и отношения этого лица к другим лицам согласно этой свободе воли. Естественным правом называли, следовательно, то, чт? есть право отдельного лица и для отдельного лица, а состояние общества и государства признавали и допускали лишь как средство для отдельного лица, которое является основной целью. Платон, наоборот, кладет в основание субстанциальное, всеобщее, и именно так, что отдельный человек, как таковой, имеет своей целью как раз это всеобщее, и субъект стремится, действует, живет и наслаждается для государства, так что последнее есть его вторая природа, привычка и обычай. Эта нравственная субстанция, которая составляет дух, жизнь и сущность индивидуальности и представляет собою основу, систематизируется в живое органическое целое, дифференцируясь на свои члены, деятельность которых и есть порождение целого.
Это соотношение понятия и его реальности не было осознано Платоном, и, таким образом, мы у него не находим философского построения, которое показало бы нам сначала идею самое по себе, а затем показало бы в ней же самой необходимость ее реализации и самое эту реализацию. Относительно платоновского «Государства» установилось поэтому суждение, что Платон дал в нем так называемый идеал государственного устройства, которое вошло в пословицу в качестве sobriquet в том смысле, что это представление является-де химерой, которую можно, правда, мыслить в уме и которая сама по себе, как ее описывает Платон, несомненно также превосходна и истинна, даже осуществима, однако лишь при том условии, что люди будут так прекрасны, как это, может быть, бывает на луне, но которая неосуществима для людей, какими они, – ничего не поделаешь, – оказываются на нашей земле. Так как, следовательно, нужно брать людей такими, какими они являются на самом деле, то из-за их дурной природы нельзя осуществить этот идеал, и поэтому выставление такого идеала является праздным делом.
По поводу этого суждения следует, во-первых, заметить, что в христианском мире широко распространен вообще идеал совершенного человека, который, разумеется, не может найти своего воплощения в значительной части народа. Если мы находим, что этот идеал нашел свое воплощение в лице монахов или квакеров или тому подобных благочестивых людей, то горсточка таких жалких созданий не может составить народа, точно так же, как вши или паразитические растения не могли бы существовать самостоятельно, а могут существовать лишь на другом органическом теле. Если бы такие люди составили народ, то эта овечья кротость, есть тщеславие, которое занято только своей собственной персоной, только с нею носится, всегда имеет перед собою образ своего совершенства и никогда не забывает о нем, – давно бы погибла. Ибо жизнь во всеобщем и для всеобщего требует не этой паралитичной и трусливой кротости, а кротости, сочетающейся с энергией, требует, чтобы занимались не собою и своими грехами, а всеобщим и тем, что нужно сделать для него. Тот, уму которого предносится этот дурной идеал, всегда, разумеется, будет находить, что люди слабы и порочны, всегда будет находить этот идеал не осуществленным. Ибо они придают большое значение пустякам, на которые ни один разумный человек не обращает внимания, и говорят, что такие слабости и недостатки все же существуют, хотя мы их и не замечаем. Но в этой их снисходительности не следует видеть великодушия; мы должны скорее признать, что тем, что они обращают внимание на то, чт? они называют слабостью и недостатком, есть их собственная испорченность, которая только и придает им значение. Человек, грешащий этими слабостями и недостатками, непосредственно оправдывает их сам себе, поскольку он не придает им значения. Пороками они являются лишь в том случае, если они составляют существенную сторону его характера, и гибельным является придание им значения чего-то существенного, когда они в самом деле не таковы. Этот дурной идеал не должен служить для нас помехой в какой бы то ни было его форме; нам нечего считаться с ним, даже если он не получает как раз той формы, которую он принимает у монахов и квакеров, а выступает, например, в виде принципа отречения от чувственных благ и ослабления действенной энергии, каковой принцип необходимо должен уничтожать многое, что вообще признается ценным. Стремление сохранять все отношения противоречиво; во всем, чт?, вообще говоря, признается ценным, всегда найдется сторона, к которой относятся с пренебрежением. То, что я уже говорил раньше об отношении философии к государству, также показывает, что платоновский идеал нельзя понимать в этом смысле. Если известный идеал вообще обладает внутренней истиной через посредство понятия, то, именно потому, что он истинен, он не является химерой. Такой идеал поэтому не есть нечто праздное и бессильное, а, наоборот, действительное, ибо истина не есть химера. Никому, разумеется, не запрещается выражать пожелания, но если внутренне у нас имеются только благочестивые пожелания о великом и истинном, то мы безбожны. И точно так же безбожен тот, кто ничего не может делать, потому что все для него свято и ненарушимо, и не хочет быть ничем определенным, потому что все определенное имеет свои недостатки. Истинный идеал не должен быть действительным, а есть действительный, и единственно только он и действителен. Если некая идея была бы слишком хороша для существования, то это было бы скорее недостатком самого идеала, для которого действительность слишком хороша. Платоновское государство было бы, таким образом, химерой не потому, что человечеству не хватает таких превосходных свойств, какими оно должно было бы обладать, а потому, что они, эти превосходные свойства, слишком плохи для людей. Ибо то, что действительно, то разумно. Но нужно знать, чт? на самом деле действительно. В обывательской жизни все действительно, но существует различие между миром явлений и действительностью. Действительное обладает также и внешним существованием, которое являет нам произвол и случайность, подобно тому как в природе случайно получают существование дерево, дом, растение. Поверхность нравственного – поступки людей – имеет в себе много плохого, и здесь многое могло бы быть лучше; люди всегда будут порочны и испорчены, но это – не идея. Если мы познаем действительность субстанции, то мы должны проникать глубже, смотреть дальше поверхности, где возятся, дерутся между собой страсти. Временное, преходящее, конечно, существует, может наделать человеку довольно много хлопот; но, несмотря на это, оно так же мало представляет собою истинную действительность, как и частные особенности отдельного лица, его желания и склонности. В связи с этим замечанием мы должны вспомнить о том различии, которое мы проводили раньше, говоря о платоновской философии природы: вечный мир, как внутри себя блаженный бог, и есть действительность; не где-то за пределами мира, не по ту сторону его, но наличный мир, рассматриваемый в его истине, а не так, как его встречает своими органами чувств слышащий, видящий и т. п. человек, – вот этот мир есть действительность. Если мы будем таким образом рассматривать содержание платоновской идеи, то окажется, что Платон на самом деле изобразил в ней греческую нравственность со стороны ее субстанциального характера; ибо греческая государственная жизнь, – вот что составляет подлинное содержание «Государства» Платона. Платон не такой человек, чтобы барахтаться в абстрактных теориях и правилах поведения; его подлинный дух познал и изобразил подлинное; и это могло быть не чем иным, как истиной того мира, в котором он жил, истиной того единого духа, который был жив столь же в нем, сколь в Греции. Никому не дано перепрыгнуть через свое время; дух его времени есть также и его дух, но важно познать этот дух со стороны его содержания.
С другой стороны, надо иметь в виду, что конституция совершенная, поскольку дело идет об одном определенном народе, вовсе не обязательно годится для всякого другого народа. Следовательно, если говорят, что истинная конституция не годится для людей, каковы они на самом деле, то нужно принять во внимание, что как раз чем превосходнее конституция данного народа, тем более превосходным она делает также и этот народ, Но вместе с тем верно и обратное: так как нравы суть живая конституция, то конституция в ее отвлеченности не представляет собою ничего самостоятельного, а должна быть связана с данными нравами и наполнена живым духом данного народа. Нельзя поэтому и утверждать, что истинная конституция годится для каждого народа, и несомненно во всяком случае, что для людей, каковы они есть, – например, для людей, как ирокезов, русских, французов, – годится не всякая конституция. Ибо каждый народ имеет свое место в истории. Но подобно тому как отдельный человек воспитывается в государстве, т. е. в качестве единичности возводится во всеобщность, и лишь тогда превращается из ребенка в зрелого мужа, так воспитывается и каждый народ; состояние, в котором он представляет собою ребенка, или, иными словами, состояние варварства переходит в разумное состояние. Люди не только остаются такими, каковы они есть, а становятся другими, и точно так же становятся другими и их конституции. И вопрос здесь в том, какая конституция представляет собою истинную конституцию, к которой народ должен двигаться, подобно тому как можно ставить вопрос о том, какая наука есть истинная наука – математическая или какая-нибудь другая, а не о том, должны ли дети или мальчики обладать теперь же этой наукой, так как, наоборот, они должны сначала получить такое воспитание, которое сделает их способными к этой науке. Точно так же историческому народу предстоит принять истинную конституцию, так что он движется по направлению к ней. Каждый народ необходимо должен с течением времени производить такие изменения в своей наличной конституции, которые все больше и больше приближают ее к истинной конституции. Его дух сам сбрасывает с себя детские башмачки, и конституция есть осознание того, чт? он уже есть в себе, – она есть форма истины, знания о себе. Если для него уже не истинно то его «в себе», которое его конституция все еще высказывает ему как истину, если его сознание или понятие и его реальность отличны друг от друга, то народный дух представляет собою разорванное, раздвоенное существо. Тогда наступает одно из двух: народ разбивает посредством внутреннего насильственного взрыва это право, которое еще требует, чтобы его признавали, либо же он изменяет спокойнее и медленнее тот закон, который считается еще законом, но уже больше не представляет собою подлинной составной части нравов, а является теперь тем, чт? дух уже преодолел собою. Может, во-вторых, оказаться, что народ не обладает достаточным для этого умом и силой, а остается при старом, низшем законе, или же другой народ достиг своей высшей конституции, стал благодаря этому более превосходным народом, и тогда первый народ перестает быть народом и вынужден подчиниться последнему. Поэтому существенно знать, какова истинная конституция, ибо во всем том, что находится в противоречии с нею, нет прочности, истины, и оно снимается. Оно обладает временным существованием, но не может удержаться; оно обладало силой, пользовалось признанием, но не может дольше продолжать обладать силой; что оно должно быть отменено, это содержится в самой идее конституции. Понимание этого может быть достигнуто лишь посредством философии. Государственные перевороты совершаются без насильственных революций, когда это понимание становится всеобщим достоянием: учреждения спадают, как зрелый плод, исчезают неизвестно как, – каждый покоряется тому неизбежному факту, что он должен потерять свое право. Но что для этого наступило время, это должно знать правительство. Если же оно, оставаясь в неведении относительно того, чт? есть истина, привязывается к временным учреждениям, если берет под свое покровительство имеющее силу закона несущественное против существенного (а ответ на вопрос о том, что такое это существенное, уже содержится в самой идее), то оно благодаря этому низвергается напирающими духом, и распад правительства приводит к распаду и самого народа; тогда возникает новое правительство, – или же может случиться, что правительство и несущественное одерживают верх.
Главная мысль, лежащая в основе платоновского «Государства», есть как раз та самая мысль, которую мы должны рассматривать как принцип греческой нравственности; это именно та мысль, что нравственное носит вообще характер субстанциальности и, следовательно, фиксируется как божественное. Это несомненно основное определение. Определением, противоположным этому субстанциальному отношению индивидуумов к нравственности, является субъективный произвол индивидуумов, мораль. Последняя состоит в том, что отдельные лица не действуют спонтанно из уважения, благоговения к государственным, отечественным учреждениям, а принимают самостоятельное решение по собственному убеждению, после морального обдумывания и поступают согласно этому решению. Этот принцип субъективной свободы представляет собою нечто позднейшее, принцип развитой современной эпохи, который появился также и в греческом мире, но появился там как принцип, приводящий к гибели греческую государственную жизнь. Он нес с собою гибель потому, что греческий дух, его государственное устройство и его законы не были рассчитаны и не могли быть рассчитаны на то, чтобы этот принцип появился в их недрах. Так как этот принцип и греческий дух не были однородны, то греческие нравы и обычаи должны были погибнуть. Платон познал и понял подлинный дух своего мира и развил его точнее, желая, чтобы этот новый принцип сделался невозможным в его государстве. Платон, таким образом, стоит на субстанциальной точке зрения, так как в основании конструируемого им государства лежит субстанциальное его времени; но эта точка зрения лишь относительно субстанциальна, так как она есть исключительно греческая точка зрения, и позднейший принцип сознательно изгоняется. В этом состоит всеобщее платоновского идеала государства и с этой точки зрения следует его рассматривать. Исследования, основывающиеся на новейших точках зрения и с этих точек зрения ставящие вопрос, возможно ли такое государство и представляет ли оно собою наилучшее государство, лишь приводят к неправильным взглядам. В современных государствах существует свобода совести, согласно которой каждый отдельный человек может требовать, чтобы ему дали возможность следовать своим собственным интересам. Но это совершенно исключено из платоновского представления о государстве.
a. Теперь я укажу более подробно главные моменты платоновской идеи государства, поскольку они имеют философский интерес. Если Платон в действительности изображает то, что государство представляет собою в своей истине, то все же в платоновском государстве имеется некоторая ограниченность, с которой мы уже познакомились: в этом государстве отдельное лицо не противостоит – в формальном праве – всеобщности, как это имеет место в мертвенных конституциях правовых государств. Содержанием платоновского государства является лишь целое; содержанием, правда, здесь является природа индивидуума, но природа индивидуума, рефлектирующаяся во всеобщее, а не фиксированная и не имеющая сама для себя значения, так что практическая сущность – одна и та же в государстве и в отдельном лице. Так как Платон исходит из справедливости, которая заключает в себе, что справедливый существует только как нравственный член государства, то он при более подробном изложении выясняет, во-первых, организм нравственного общественного союза, т. е. выясняет различия, содержащиеся в понятии нравственной субстанции, дабы показать, каков характер этой действительности субстанциального духа. Благодаря развертыванию этих моментов она становится живой, налично сущей; но эти моменты не независимы, а даны, как содержащиеся в единстве. Платон рассматривает эти моменты нравственного организма в трех аспектах; во-первых, в том аспекте, в котором они существуют в государстве как сословия; во-вторых, как добродетели или моменты нравственного; в-третьих, как моменты отдельного субъекта эмпирической деятельности воли. Платон не проповедует морали, а показывает, как нравственное живости движется внутри себя; он, следовательно, показывает его функции, его внутренности. Ибо внутренняя систематизация, как в органическом теле, а не твердое, мертвенное единство, каковое, например, показывает нам металличность, порождается именно различенными функциями внутренностей, которые делают себя этим живым, внутри себя движущимся единством.
?. Без сословий, без этого деления на большие массы, государство не представляет собою организма; эти великие различения суть субстанциальные различения. Противоположностью, раньше всего выступающей в государстве, является противоположность между всеобщим, как государственным делом и жизнью в государстве, и единичным, как жизнью и работой для отдельного лица. Эти два занятия разделены так, что одно сословие посвящено первому занятию, а другое сословие – второму. Далее Платон выводит перед нами три системы действительности нравственного: функции ??) законодательства, совещания, вообще деятельности для пользы всеобщего и заботы о всеобщем, об интересах целого как такового; ??) функцию защиты общественного союза против внешних врагов; ??) функцию заботы о единичном, об отдельном лице, потребность, как, например, земледелие, скотоводство, изготовление одежды, постройка домов, изготовление посуды и т. д. Это в общем – совершенно правильно; эти три системы кажутся, однако, скорее, внешней необходимостью, потому что данные потребности носят у Платона характер преднайденного, а не развиты им из самой идеи духа. Далее, Платон распределяет эти различные функции между различными системами, предоставляя каждую из них такой массе индивидуумов, которая особенно предназначена для данной функции. Благодаря этому получаются различные государственные сословия, ибо Платон также является противником поверхностного представления, что один и тот же человек должен исполнять все дела. Он указывает, согласно этому, три сословия: ??) сословие правителей, ученых, образованных, ??) сословие воинов; ??) сословие доставителей предметов для удовлетворения потребностей, сословие земледельцев и ремесленников. Первое сословие он называет также сословием стражей (???????); под стражами он разумеет главным образом философски образованных государственных людей, обладающих подлинной наукой. Они имеют своими деятельными помощниками, осуществителями их планов воинов (?????????? ?? ??? ???????), но в платоновском государстве нет двух отдельных сословий, военных и гражданских чиновников, а оба сословия соединены в одно сословие[234 - Следуя этим платоновским указаниям, Гегель в своем раннем философско-правовом опыте (Werke, Bd. I, S. 380–381) объединил эти два сословия в одно, которое он позднее (Werke, Bd. VIII, S. 267) назвал всеобщим сословием. Но «другое» (как выражается Гегель в первом произведении), еще оставшееся у Платона сословие, Гегель в обоих произведениях делил на два сословия: на второе (занимающееся городскими промыслами) и третье сословие (земледельцы). (Примечание издателя.)], и старшие суть стражи[235 - Plat., De Republica, II, p. 369–376 (p. 79–93); III, p. 414 (p. 158–159).]. Хотя Платон не дедуцирует этой классификации сословий, она все же образует, таким образом, конституцию платоновского государства; и каждое государство необходимо есть в самом себе система этих систем. После этого Платон переходит к отдельным определениям, которые отчасти мелочны, и было бы лучше, если бы их не было; он, например, определяет для первого сословия особые титулы, говорит о том, как должны вести себя кормилицы, и т. д.[236 - Plat., De Republica, V, p. 463 (p. 241); p. 460 (p. 236).]
?. Затем Платон показывает нам моменты реализованными здесь в сословиях как нравственные свойства, которыми обладают отдельные лица и которые составляют сущность этих лиц; показывает нам расчлененное на свои всеобщие определенности простое нравственное понятие. Ибо как на результат этого различения сословий он указывает на то, что посредством такого организма все добродетели наличны и живы в государстве. Он различает четыре добродетели[237 - Plat., De Republica, IV, p. 427–428 (p. 179–181).], и они получили впоследствии название кардинальных добродетелей.
??. Первой добродетелью является мудрость (?????) и наука; государство, обладающее такой добродетелью, будет мудрым и хорошо разбирающимся, и таковым оно будет не благодаря имеющимся в нем многообразным знаниям, относящимся к многим единичным низким занятиям, составляющим достояние простонародья, как, например, кузнечное искусство, земледелие (ремесленные и камеральные науки, как мы выразились бы), а благодаря истинным наукам, имеющим свою реальность в том сословии начальников и правителей, которые указывают государству, как ему лучше всего вести себя внутри самого себя и в отношении других государств. Это разумение есть, собственно говоря, достояние лишь незначительнейшей части общественного союза[238 - Plat., De Republica, IV, p. 428–429 (p. 181–182).].
??. Вторую добродетель составляет мужество (??????), которое Платон определяет следующим образом: оно есть твердое отстаивание справедливого и соответствующего законам мнения о том, чего следует опасаться, и оно есть такое твердо составленное мнение, которое упрочилось в душе, так что ни вожделения, ни удовольствия не могут его поколебать. Этой добродетели соответствует сословие воинов[239 - Plat., De Republica, IV, p. 429–430 (p. 182–185).].
??. Третью добродетель составляет умеренность (?????????), власть над вожделениями и страстями, которая распространена, как некая гармония, по всему целому, так что и более сильные, и более слабые люди, будут ли они слабее или сильнее умом, физической силой, количеством, богатством или чем бы то ни было другим, действуют вместе для осуществления одной и той же цели и согласуются друг с другом. Эта добродетель, следовательно, не ограничена частями государства, подобно мудрости или богатству, а обща правителям и управляемым, распределена между ними как некая гармония, составляет добродетель всех сословий[240 - Plat., De Republica, IV p. 430–432 (p. 185–188).]. Несмотря на то, что эта умеренность есть та гармония, в которой все действуют для достижения единой цели, она все же есть, собственно говоря, добродетель третьего сословия, на долю которого выпадает доставание средств для удовлетворения потребностей и труд, хотя на первый взгляд эта добродетель как будто ему не соответствует. Но эта добродетель и состоит именно в том, что никакой момент, никакая определенность или единичность не изолируется; в частности же, в области морали эта добродетель состоит в том, что никакая потребность не превращает себя в сущность и, следовательно, не становится пороком. Труд и есть как раз этот момент деятельности, ограничивающейся единичным, которая, однако, сводится к всеобщему и существует для него. Стало быть, если эта добродетель и всеобща, то она все же более всего находит применение в отношении третьего сословия, единственно лишь которое должно быть гармонизировано, так как оно не обладает той абсолютной гармонией, которою другие сословия обладают в самих себе.
??. Четвертой добродетелью, наконец, является справедливость, о которой с самого начала шла у Платона речь. Эту добродетель мы находим в государстве (как добропорядочность), когда каждый отдельный человек печется лишь об одном имеющем отношение к государству предмете, к которому он наиболее пригоден по своим природным задаткам, так что каждый занимается не многообразными вещами, а тем, чем ему надлежит заниматься: молодые и старики, женщины, свободные, рабы, ремесленники, правители и управляемые. Относительно этого мы должны, во-первых, заметить, что Платон ставит здесь справедливость наряду с другими моментами, и она, таким образом, кажется одним из четырех определений. Но это сопоставление он берет назад своим указанием, что она именно и есть та добродетель, которая сообщает силу другим добродетелям, умеренности, мужеству и мудрости, силу, дающую им возможность возникнуть и поддержать свое существование после того, как они возникли. Поэтому он и говорит, что справедливость уже окажется самостоятельно существующей, когда будут налицо другие добродетели[241 - Plat., De Republica, IV, p. 432–433 (p. 188–199).]. Выражая это более определенно, следует сказать, что понятие справедливости есть основа, идея целого, которое разделено органически внутри себя таким образом, что каждая часть существует лишь как момент в целом и целое существует посредством нее; таким образом, в этом целом вышеуказанные сословия, или свойства, суть именно только моменты. Лишь справедливость есть это всеобщее, пронизывающее; но она, следовательно, есть вместе с тем для-себя-бытие каждой части, которой государство дает возможность проявлять себя самостоятельно.
Из этого явствует, во-вторых, что Платон понимал под справедливостью не право собственности, как это обычно имеет место в науке о праве, а понимал под нею достижение духом в его целостности права как наличного бытия своей свободы. В собственности моя личность налична в высшей степени абстрактно, налична моя совершенно абстрактная свобода. Определение этой науки о праве Платон считает в целом совершенно излишним (De Republica, IV, p. 425 Steph.; p. 176 Bekk.). Мы, правда, находим также и у него законы о собственности, полиции и т. д., «но, – говорит он, – давать законы об этих вещах благородным и прекрасным людям не стоит труда». И действительно, каким образом будем изобретать относительно этих вещей божественные законы, если этот материал сам по себе содержит в себе лишь случайности? В книгах «О законах» он также рассматривает главным образом нравственное; однако там он несколько больше уделяет внимания этим вопросам. Но так как, согласно Платону, справедливость есть скорее вся сущность, которая для отдельного лица получает тот смысл, что каждый должен наилучшим образом научиться тому и заниматься тем, к чему он предназначен от рождения, то отдельный человек достигает того, на что он имеет право, лишь как определенная индивидуальность; лишь, таким образом, он принадлежит к всеобщему духу государства и приходит в нем к своему всеобщему, как к всеобщему некоего данного человека. В то время как право есть всеобщее с некоторым определенным содержанием и оно, следовательно, представляет собой лишь формально всеобщее, здесь это содержание есть определенная полная индивидуальность; оно – не та или другая вещь, принадлежащая мне благодаря случайности владения, а моим подлинным достоянием здесь является развитое обладание и пользование моей природой. Справедливость отдает вообще должное каждому особенному определению и возвращает его вместе с тем в целое; благодаря тому, что частные свойства каждого индивидуума необходимо должны достигнуть полного развития и осуществления, каждый оказывается на своем месте и исполняет свое назначение. Справедливость, согласно ее истинному понятию, означает, следовательно, для нас свободу в субъективном смысле, потому что она означает, что разумное получает существование, а так как это право, право свободы получить существование, всеобще, то Платон ставит справедливость на самом верху, как определение целого, в том смысле, что разумная свобода получает существование посредством организма государства, – существование, которое затем, как необходимое, есть некоторый вид существования природы.
?. Особенный субъект в качестве субъекта обладает также этими свойствами в самом себе; и эти моменты субъекта соответствуют трем реальным моментам государства. Что, таким образом, в идее государства имеется ритм, тип, – это есть великая и прекрасная основа платоновского государства. Эту третью форму, в которой он обнаруживает вышеуказанные три момента, Платон определяет следующим образом. В субъекте, во-первых, появляются потребности, вожделения (?????????), как, например, голод и жажда; каждая из этих потребностей имеет своим предметом нечто определенное и хочет достигнуть только этого чего-то определенного. Труд для удовлетворения вожделений соответствует назначению третьего сословия. Но вместе с тем в сознании каждого отдельного человека находится, во-вторых, нечто другое, задерживающее и препятствующее удовлетворению этих вожделений, нечто одерживающее верх над искушением удовлетворить их; это есть разум (?????). Этому соответствует сословие правителей, мудрость государства. Кроме этих двух идей души, существует еще и нечто третье, гнев (?????), который отчасти родственен вожделениям, но вместе с тем также и ведет борьбу с последним и помогает разуму. «Иногда бывает так, что когда человек совершил несправедливость по отношению к другому человеку и этот последний заставил его выносить голод и жажду, причем он думает, что тот вправе заставлять его страдать, то чем он благороднее, тем менее он будет впадать в гнев против этого человека. Иногда же бывает и так, что если он претерпевает несправедливость, то в нем закипает гнев и он выступает на защиту того, чт? справедливо, и он терпит и побеждает голод и холод и другие неприятности, идущие против вожделений, и не отказывается от справедливого, пока он не добьется его осуществления или найдет смерть, или будет успокоен доводами, подобно тому как собаку успокаивает пастух». Гнев соответствует в государстве сословию храбрых защитников; подобно тому, как последние берутся за оружие для защиты разума государства, так и гнев оказывает помощь разуму, если он не испорчен дурным воспитанием. Таким образом, мудрость государства – та же самая, что и мудрость отдельного лица, и точно так же гнев в государстве есть тот же самый, что и гнев отдельного лица. И это верно также и относительно остальных добродетелей: умеренность есть согласие друг с другом отдельных моментов естественного; справедливость во внешних поступках есть исполнение каждым человеком того, что он должен делать; внутри же человека справедливость есть достижение должного каждым моментом духа и не вмешательство в дела других моментов, а предоставление им свободы действия[242 - Plat., De Republica, IV, p. 437–443 (p. 198–210).]. Мы имеем, таким образом, умозаключение трех моментов, в котором для себя сущий, обращенный против предметного гнев образует средний член между всеобщностью и единичностью, как возвращающаяся в себя и отрицательно деятельная свобода. И здесь также, где Платон не осознает, как в «Тимее», своей абстрактной идеи, она все же в действительности скрыто присутствует, и все формируется соответственно ей. Это – абрис того плана, согласно которому Платон ведет все свое исследование. Характер осуществления им этого плана является деталью, которая сама по себе взятая не представляет для нас интереса.
b. Во-вторых, Платон указывает затем средства к сохранению государства. Так как, вообще говоря, весь общественный союз зиждется на нравах и обычаях, как на ставшем природой духе отдельных лиц, то спрашивается именно: каким образом Платон достигает того, чтобы для каждого гражданина занятие, являющееся его назначением, стало его собственным бытием и существовало как нравственное деяние и воля индивидуума, – каким образом достигает Платон того, чтобы каждый из этих индивидуумов покорно занимал указанное ему место? Главная задача состоит в том, чтобы их к этому воспитывать. Платон хочет породить эти нравы непосредственно в индивидуумах, сначала и преимущественно – в стражах, образование которых, следовательно, составляет одну из важнейших частей всего плана и составляет основу государства. Ибо так как стражам предоставлена как раз забота о порождении этих нравов посредством сохранения закона, то в законах должно быть также обращено особенное внимание на воспитание и, значит, также и на воспитание воинов. Как будет обстоять дело с промысловым сословием, это мало заботит государство: «Ибо будут ли сапожники дурны и испорчены и лишь казаться тем, чем они должны быть, это не составляет большого несчастья для государства»[243 - Plat., De Republica, IV, p. 421 (p. 167–168).]. Но образование правителей должно состоять преимущественно в преподавании им науки философии, которая представляет собою знание всеобщего, само по себе сущего. Платон при этом обозревает отдельные образовательные средства: религию, искусство, науку. Далее он говорит подробнее также о том, в какой мере должны допускаться в качестве образовательных средств музыка и гимнастика. Но поэтов, Гомера и Гесиода, он изгоняет из своего государства, потому что он находит недостойными их представления о боге[244 - Plat., De Republica, II, p. 376 – III; p. 412 (p. 93 – 155); V, 472 – VII, fin. (p. 258–375).]. Ибо в то время начали серьезно подвергать критическому рассмотрению веру в Юпитера и гомеровские рассказы, поскольку такие частные изображения принимались как всеобщие максимы и божественные законы. На известной ступени культуры детские сказки представляют собою нечто невинное; но если требуют, чтобы они были положены в основание истинности нравственных максим в качестве закона, имеющего силу для настоящего времени (например, в писаниях израелитов, в Ветхом завете, истребление народов, представленное как масштаб в народном праве; бесчисленные позорные дела, совершенные человеком божиим Давидом; жестокости по отношению к Саулу, совершенные в лице Самуила жречеством), тогда наступает время низвести их на степень чего-то, отошедшего в прошлое, чего-то лишь исторического. Далее Платон требует таких введений в законы, в которых граждан следует увещевать выполнять свои обязанности, убеждать в правильности законов[245 - Plat., De Legibus, IV, p. 722–723 (p. 367–369).] и т. д., в необходимости выбирать наиболее превосходное, короче – в которых должен быть указан путь нравственности.
Здесь, однако, получается порочный круг: публичная государственная жизнь существует через нравы, а нравы, наоборот, существуют через учреждения. Нравы не должны быть независимы от учреждений, т. е. учреждения не должны быть направлены на создание нравов только посредством воспитательных заведений, религии. Именно учреждения должны рассматриваться как то первое, посредством чего рождаются нравы, ибо последние суть тот способ, каким учреждения существуют субъективно. Сам Платон дает понять, какое значительное несогласие он ожидает встретить. И еще в наше время видят обыкновенно недостаток его воззрения в том, что он слишком идеалистичен, однако его недостаток заключается скорее в том, что он слишком мало идеалистичен. Ибо, если разум есть всеобщая сила, а последняя существенно духовна, то в состав духовного и входит субъективная свобода, которая выступила уже в философии Сократа. Разумность, следовательно, должна быть, согласно Платону, основой закона, и она в целом и является такой основой; но, с другой стороны, совесть, собственное убеждение – кратко говоря, все формы субъективной свободы – также существенно содержатся в ней. Эта субъективность сначала противостоит законам, разуму государственного организма, как абсолютной власти, которая стремится присвоить себе представленный семьей, индивидуум, посредством внешней необходимости потребностей, в которой, однако, есть самостоятельный разум. Индивидуум исходит из субъективности свободного произвола, примыкает к целому, избирает себе сословие и порождает себя таким путем как нравственный факт. Но у Платона этот момент, это движение индивидуума, этот принцип субъективной свободы отчасти не принят во внимание, отчасти же даже намеренно нарушается, потому что субъективная свобода действовала как нечто такое, что приводило к гибели Греции; он поэтому рассматривает лишь, как наилучшим образом организовать государство, а не вопрос, как создать наилучшую субъективную индивидуальность. Перешагнув за пределы принципа греческой нравственности, которая в своей субстанциальной свободе не в силах была вынести расцвета субъективной свободы, платоновская философия вместе с тем ухватывается за этот принцип греческой нравственности и даже идет еще дальше в направлении последнего.
c. Что же касается, в-третьих, этой точки зрения исключения принципа субъективной свободы, то это одна из главных черт платоновского государства. Дух последнего состоит существенно в том, что все стороны, в которых утверждает себя единичность как таковая, растворяются во всеобщем, – все признаются лишь как всеобщие люди.
?. В соответствии с этим определением, требующим исключения принципа субъективности, Платон, во-первых, не позволяет индивидуумам избирать себе сословие, между тем как мы требуем этого как необходимой составной части свободы. Но в платоновском государстве не рождение отделяет друг от друга сословия и предназначает для них отдельных лиц, а каждый человек подвергается испытанию правителями государства, как старейшими первого сословия, которые отдают в воспитание индивидуумов, и эти правители производят отбор, смотря по тому, какими данное лицо обладает прирожденными умениями и задатками, указывая каждому определенное дело, которым он должен заниматься[246 - Plat., De Republica, III, p. 412–415 (p. 155–161).]. Это находится в полном противоречии с нашим принципом, ибо хотя мы считаем правильным, что для того, чтобы быть членом известного сословия, требуются особые соответствующие способности и умения, все же у нас остается делом склонности, в какое сословие данный человек вступит, и посредством этой склонности, как некоторого кажущегося свободным выбора, сословие создает себя для самого себя. Но мы не позволяем ни того, чтобы нам предписало этот выбор другое лицо, ни того, чтобы оно мне, например, сказало: «Так как ты ни для чего лучшего не годишься, то ты должен сделаться ремесленником». Каждый может у нас сам попробовать определить свое место; мы должны ему дозволить поставить вопрос о себе как о субъекте, а также и разрешить этот вопрос субъективно, по собственному произволу, сообразуясь, кроме того, с внешними обстоятельствами; мы не должны, следовательно, ставить ему препятствия, если он, например, скажет: «я не хочу отдаться науке».
?. Далее из этого определения вытекает, что Платон (De Republica, III, p. 416–417 Steph.; p. 162–164 Bekk.) в своем «Государстве» точно так же упраздняет вообще принцип частной собственности. Ибо в нем единичность, единичное сознание становится абсолютным, или, иными словами, лицо рассматривается как существующее в себе без всякого содержания. В праве, как таковом, я получаю признание как данное лицо, само по себе взятое. Все пользуются таким признанием, и я пользуюсь признанием лишь потому, что все пользуются признанием, или, иначе говоря, я пользуюсь признанием лишь в качестве всеобщего, но содержанием этого всеобщего служит фиксированная единичность. Если в праве дело идет о праве как таковом, если судьям при тяжбе все равно, будет ли тот или другой владеть данным домом, и тяжущимся сторонам также вовсе не важно обладание той вещью, из-за которой спорят, а важно лишь право для права (подобно тому как для морали важно исполнение долга лишь ради долга), то за эту абстракцию крепко ухватываются и абстрагируются от содержания реальности. Но для философии сущность есть не абстракция, а единство всеобщего и реальности или его содержания. Поэтому важно и значимо содержание лишь постольку, поскольку оно положено во всеобщем как отрицательное, стало быть, лишь постольку, поскольку оно возвращается, а не само по себе. Поскольку я пользуюсь вещами, – не поскольку я ими обладаю как собственностью или поскольку они мною считаются сущими, фиксированными во мне как фиксированном, – они находятся в живом отношении ко мне. У Платона второе сословие занимается ремеслами, торговлей, земледелием и доставляет все необходимое всеобщему, не приобретая собственности посредством своей работы; целое же представляет собою одну семью, в которой каждый делает указанное ему дело, но продукт работы принадлежит всем сообща, и каждый от продукта своего труда, равно как от продукта труда всех других, получает то, что ему нужно. Собственность есть некое владение, принадлежащее мне как данной личности, владение, в котором моя личность, как таковая, достигает своего осуществления, своей реальности; поэтому Платон и исключает собственность из своего государства. Но остается невыясненным, каким образом получится стимул к деятельности, необходимой для развития промыслов, если нет надежды на частную собственность; ибо в том факте, что я являюсь деятельной личностью, ведь подразумевается, наоборот, моя способность обладать собственностью. Что при отсутствии частной собственности, как утверждает Платон (De Republica, V, 464 Steph.; 243–244 Bekk.), будет положен конец всем спорам, разногласиям, вражде, корыстолюбию и т. д., это можно, в общем, легко себе представить. Но это лишь второстепенное следствие данного факта по сравнению с высшим и разумным принципом права собственности, и свобода существует лишь постольку, поскольку личность имеет право обладать собственностью. Мы видим, таким образом, что Платон сознательно сам изгоняет из своего государства субъективную свободу.
?. По той же причине Платон, наконец, упраздняет и институт брака, потому что последний есть союз, в котором два лица разных полов взаимно принадлежат навсегда друг другу также и вне чисто природной связи между ними. Платон не дает возникнуть в своем государстве семейной жизни, – не дает возникнуть тому своеобразию, благодаря которому семья составляет самостоятельное целое, – потому что семья есть лишь расширенная личность, есть лежащая внутри природной нравственности исключительная связь с другим лицом, которая хотя и есть нравственность, но такая нравственность, которая свойственна индивидууму как единичности. Но, согласно понятию субъективной свободы, семья столь же необходима индивидууму и даже можно сказать свята, как и собственность. Платон, напротив, заставляет отнять детей у матерей, тотчас же после рождения, собрать их в специально устроенном заведении, питать их молоком кормилиц, взятых из среды разрешившихся от бремени матерей, и давать им общее воспитание, причем воспитывать их следует именно так, чтобы ни одна мать не могла больше узнать своего ребенка. Свадьбы, правда, будут существовать в его государстве и каждый будет иметь свою жену, но это должно происходить так, чтобы совместная жизнь мужа и жены не предполагала взаимной личной склонности и чтобы индивидуумы предназначались друг для друга не потому, что они друг другу нравятся. Женщины должны рожать в этом государстве между двадцатью и сорока годами, а мужчины должны жениться и быть женатыми в возрасте от тридцати и до пятидесяти пяти лет, Чтобы воспрепятствовать кровосмешению, все дети, родившиеся в то время, когда данный мужчина был женат, должны называться его детьми[247 - Plat., De Republica, V, p. 457–461 (p. 230–239).]. Женщины, главным назначением которых является семейная жизнь, здесь лишены этой своей почвы. Отсюда естественное последствие в платоновском государстве: так как семья здесь уничтожена и женщины уже не ведут домашнего хозяйства, то они уже не являются также и частными лицами и принимают образ жизни мужчины, как всеобщего индивидуума в государстве. И Платон заставляет поэтому женщин исполнять, так же как и мужчин, все мужские работы и даже выступать вместе с мужчинами на войну. Таким образом, он ставит их почти на одинаковую ногу с мужчинами, но не питает, однако, большого доверия к их храбрости, ставя их лишь в задних рядах, и не как резерв, а как арьергард, чтобы вселить во врага страх, по крайней мере, своей численностью, в случае нужды также и спешить на помощь[248 - Plat., De Republica, V, p. 451–457 (p. 219–230); p. 471 (p. 257).].
Вот основные черты платоновского государства; его отличительный характер состоит в том, что в нем подавляется принцип единичности, и может казаться, что этого требует идея, что именно в этом заключается вообще противоположность между философией и обычным представлением, которое признает значение единичного и, таким образом, даже в государстве, представляющем собою реальный дух, рассматривает право собственности, защиту личности и собственности как основу целого. В том-то, однако, и состоит ограниченность платоновской идеи, что она выступает лишь как абстрактная идея. На самом же деле истинная идея именно и состоит в том, что каждый момент сполна реализуется, воплощается и делает себя самостоятельным, и в своей самостоятельности все же представляет собой для духа некое снятое. В результате этой идеи единичность необходимо должна реализоваться сполна, обладать своим особым поприщем, своей особой областью в государстве и вместе с тем все же раствориться в последнем. Элементом государства является семья, т. е. она есть природное, лишенное разума государство; этот элемент, как таковой, не должен отсутствовать. А затем идея государства, основанного на разуме, должна реализовать моменты своего понятия так, чтобы они стали сословиями, чтобы нравственная субстанция распадалась на массы, подобно тому, как телесная субстанция распадается на внутренние и внешние органы, каждый из которых живет своей особой, отличающейся своеобразием жизнью, но все вместе составляют лишь одну жизнь. Государство вообще, целое, должно, наконец, проникать собою все. Но в такой же мере формальный принцип права, как абстрактная всеобщность личности, с единичным существом как сущим содержанием, должен проникать собою все целое; однако есть одно сословие, преимущественно перед всеми другими воплощающее этот принцип. Таким образом, должно существовать сословие, у которого собственность постоянна и непосредственна, у которого владение участком земли носит такой же непосредственный и устойчивый характер, как обладание своим собственным телом; и должно существовать также и сословие, которое только приобретает собственность, для которого она представляет собою не такое непосредственное владение, а постоянно переходящее от одного к другому и меняющееся имущество. Эти два сословия народ предоставляет, как часть самого себя, принципу единичности и отдает здесь власть праву, предоставляя ему искать постоянства, всеобщего, «в себе» в том принципе, который является, наоборот, принципом подвижности. Этот принцип должен обладать всей полнотой своей реальности; он должен встречаться также и как собственность. В том-то и состоит истинно реальный дух, что каждый момент получает свою полную самостоятельность, и сам он получает свое инобытие в полном безразличии бытия. К этому природа неспособна; за исключением великих систем, она не может производить самостоятельную жизнь в своих частях и быть представительницей этой жизни[249 - Ср. Hegel, Werke, В. I, S. 383–386. Прим. издателя.]. В том-то, как мы увидим в другом месте, и заключается великий шаг вперед, сделанный современным миром по сравнению с античным, его превосходство над античным миром, что в последнем предметное получает б?льшую и даже абсолютную самостоятельность, но по этой же самой причине тем с большим трудом возвращается под единство идеи.
Отсутствие субъективности есть недостаток, присущий самой греческой нравственной идее. Принцип, выступивший впервые у Сократа, существовал до сих пор лишь как нечто подчиненное; теперь он должен стать также абсолютным принципом, необходимым моментом самой идеи. Посредством исключения собственности, семейной жизни, упразднения произвола при выборе сословия, т. е. упразднения всех тех определений, которые связаны с принципом субъективной свободы, Платон надеется закрыть доступ всем страстям. Он верно понял, что порча греческой жизни происходит от того, что индивидуумы, как таковые, стали выдвигать вперед и отстаивать свои цели, склонности и интересы и позволили им подчинить себе общий дух. Но так как христианская религия делает этот принцип необходимым, – в христианской религии душа отдельного человека является абсолютной целью и, таким образом, вступает в мир как необходимая в понятии духа, – то мы видим, что платоновское государственное устройство не могло выполнить высшего требования, предъявляемого нравственному организму. Платон не признавал знания, хотения, решения отдельного лица, не признавал за ним права стоять на собственных ногах и не умел совместить это право со своей идеей. Но справедливость столь же требует, чтобы также и этот принцип получил подобающее ему место, сколь и требует высшего растворения этого принципа и его гармонии со всеобщим. Противоположностью платоновского принципа является принцип сознательной свободной воли отдельного лица именно как отдельного лица, который в позднейшую эпоху был поставлен во главе угла в особенности Руссо, – принцип, гласящий, что необходим произвол отдельного лица, что необходимо давать каждому отдельному лицу высказаться до конца. У Руссо этот противоположный принцип доведен до крайности и выступает во всей своей односторонности. В противовес этому произволу и просвещению в себе и для себя всеобщее, мыслимое, должно существовать не как мудрый начальник и обычай, а как закон и, вместе с тем, как моя сущность и моя мысль, т. е. как субъективность и единичность. Люди со своими же интересами, со своими же страстями должны из самих себя породить разумное, и разумное на самом деле вступает в действительность благодаря крайней нужде, случайности, внешнему, поводу.
Мы можем здесь вкратце рассмотреть еще одну знаменитую сторону платоновской философия, а именно его эстетическое учение, познание сущности прекрасного. И в этой области Платон также высказал единственно истинную мысль, что сущность прекрасного интеллектуальна, что она есть идея разума. Если он говорит о духовной красоте, то это нужно понимать следующим образом: красота, как красота, есть чувственная красота, которая не находится где-то в другом, неведомом месте, а как раз то, что в чувственном называется прекрасным, именно и духовно. Здесь обстоит дело точно так же, как с его идеей вообще. Подобно тому, как сущность и вообще истина являющегося есть идея, так и истина являющегося прекрасного именно и есть идея прекрасного. Отношение к телесному как отношение вожделения или приятного и полезного не есть отношение к телесному как к прекрасному; это есть отношение к нему как к тому, что лишь чувственно, или, другими словами, отношение единичного к единичному. Но сущностью прекрасного служит только простая идея разума, наличная чувственным образом, как некая вещь; содержанием же этой вещи является не что иное, как эта идея[250 - Plat., Hippias major, p. 292 (p. 433); 295 sqq. (p. 439 sqq.); p. 302 (p. 455–456).]. Прекрасное по существу своему носит духовный характер; оно, следовательно, есть не только некоторая чувственная вещь, а действительность, подчиненная форме всеобщности, истине. Но это всеобщее также не сохраняет формы всеобщности, а всеобщее есть содержание, формой которого служит чувственный вид; и в этом и заключается определенность прекрасного. В науке всеобщее носит также и форму всеобщего или понятия; прекрасное же выступает как действительная вещь или же, когда оно выражено словами, как представление, каковое есть способ, которым материально-предметное существует в духе. Природа, сущность и содержание прекрасного познаются и оцениваются единственно лишь разумом, так как прекрасное представляет собою то же самое содержание, которым обладает философия. Но так как разум выступает в прекрасном в форме вещи, то прекрасное остается ниже познания, и Платон именно поэтому видел в познании истинное проявление разума, то его проявление, которое носит характер духовного.
Таково основное содержание платоновской философии. Фазис, представленный платоновской философией, носит следующие черты: во-первых, она излагается в случайной форме диалога, в котором благородные свободные люди ведут между собой беседу, интересуясь единственно лишь духовной жизнью теории. Во-вторых, собеседники, ведомые содержанием беседы, приходят к глубочайшим понятиям и прекраснейшим мыслям, подобно тому как можно наткнуться на драгоценные камни, если и не в пустыне, то во всяком случае двигаясь по песчаной дороге. В-третьих, в диалогах этой философии отсутствует систематическая связь, хотя все имеет своим истоком один-единственный интерес. В-четвертых, в ней недостает вообще субъективности понятия, но, в-пятых, ее основу образует все же субстанциальная идея.
Философия Платона прошла две ступени развития, после чего она необходимо должна была достигнуть завершения и подняться до более высокого принципа. Всеобщее, имеющееся в разуме, должно было, во-первых, раздвоиться, должно было распасться на две бесконечно резкие и бесконечные противоположности – на себя и на самостоятельность личного сознания, которое существует для себя (так, например, в Новой академии самосознание возвращается в себя и становится некоторого рода скептицизмом); это – отрицательный разум, который обращается вообще против всякого всеобщего и не умеет находить единства самосознания и всеобщего и поэтому застревает в первом. Но учение неоплатоников, во-вторых, представляет собою возвращение назад, единство самосознания и абсолютной сущности; для них бог непосредственно присутствует в разуме, само разумное познание есть божественный дух, и содержание этого познания есть сущность бога. Обе эти ступени мы будем рассматривать позднее.
В. Аристотель
С этим замечанием мы оставляем Платона, с которым неохотно расстаешься. Но переходя к его ученику Аристотелю, мы опасаемся, что нам придется быть еще более пространными, ибо он был одним из богатейших и глубокомысленнейших из когда – либо явившихся на арене истории научных гениев, человек, равного которому не произвела ни одна эпоха. Так как мы обладаем очень многими его произведениями, то объем материала, которым мы располагаем, еще больше; к сожалению, я, однако, не могу рассматривать Аристотеля так подробно, как он заслуживает, а должен буду ограничиваться тем, что дам общее представление о его философии и остановлюсь дольше лишь на разъяснении вопроса о том, насколько Аристотель развил дальше начатое платоновским принципом, как в отношении глубины идеи, так и в отношении широты захвата, ибо он был таким многообъемлющим и спекулятивным умом, как никто другой, хотя его метод исследования не систематичен.
Что касается общего характера аристотелевских произведений, мы должны сказать, что они охватывают весь круг человеческих представлений, что ум Аристотеля проник во все стороны и области реального универсума и подчинил понятию их разбросанное богатое многообразие. И в самом деле, большая часть философских наук обязана ему установлением своих отличительных особенностей и заложением своего начала. Но хотя наука, таким образом, всюду у него распадается на ряд рассудочных определений, определенных понятий, аристотелевская философия все же содержит в себе вместе с тем глубочайшие спекулятивные понятия. Аристотель придерживается также и по отношению к философии, взятой как целое, того же самого способа исследования, который он применяет в отдельных областях. Но общий характер его философии не являет нам систематизирующего себя посредством построения целого, порядок и связь которого также принадлежат области понятия, – наоборот, ее части заимствованы из опыта и рядоположены друг с другом, так что каждая часть как раз и познается в отдельности, как определенное понятие, не включаясь в связующее движение науки. От философии, находящейся в стадии тогдашней эпохи, нельзя требовать, чтобы она вскрыла нам необходимость. Но хотя аристотелевская система выступает перед нами не как развитая в своих частях из самого понятия, и ее части лишь стоят рядом, она все же образует целостную, по существу спекулятивную философию.
Одна из причин, заставляющих быть пространным при изложении философии Аристотеля, заключается в том, что никакой другой философ не пострадал так, как Аристотель, от несправедливости совершенно бессмысленных традиций, сохранившихся относительно его философского учения и еще и поныне не потерявших своей силы, несмотря на то, что он в продолжение многих веков был учителем всех философов; ему приписывают воззрения, составляющие прямую противоположность его действительному философскому учению. И в то время как Платона много читают, сокровища аристотелевской мысли остаются в продолжение многих веков, вплоть до новейшего времени, почти неизвестными, и об Аристотеле господствуют самые ложные предрассудки. Его спекулятивных, логических произведений почти никто не знает. К естественнонаучным его произведениям относились, правда, в новейшее время более справедливо, но не таково отношение к его философским воззрениям. Всеобщим распространением пользуется, например, мнение, что аристотелевское и платоновское философские учения прямо противоположны друг другу; последнее-де является идеализмом, а первое – реализмом и даже реализмом в самом тривиальном смысле этого слова. Именно, согласно этому мнению, Платон сделал принципом идеал, так что внутренняя идея, по его учению, черпает из самой себя. Напротив, согласно-де Аристотелю душа есть tabula rasa, она получает совершенно пассивно все свои определения из внешнего мира; его философия представляет собою поэтому эмпиризм, самое плохенькое локкианство и т. д. Но мы позднее увидим, как мало это соответствует его действительному учению. На самом деле Аристотель превосходит Платона в спекулятивной глубине, так как ему было знакомо весьма основательное умозрение, идеализм, и он остается ему верен при самом широком эмпирическом охвате. В частности, у французов существуют еще и теперь совершенно ложные воззрения относительно Аристотеля. Вот один пример, показывающий, как традиция слепо приписывает ему воззрения, не давая себе труда заглянуть в его собственные произведения, чтобы убедиться, действительно ли находится в них это воззрение: в старых эстетиках три единства драмы – единство действия, времени и места – восхваляются, как r?gles d’Aristote, la saine doctrine. Но Аристотель говорит только (Poet., с. 8 et 5)[251 - При цитировании глав Аристотеля в дальнейшем изложении нами положено в основание, как и раньше, беккеровское издание; там, где в скобках стоит другая цифра наряду с первой, эта цифра обозначает другие издания; например, по отношению к «Органону» – издание Буле, по отношению к «Никомаховой этике» – издание Целля и Михелета и т. д. Прим. издателя.] о единстве действия и мимоходом – о единстве времени; о третьем же единстве, о единстве места, он вовсе не говорит.