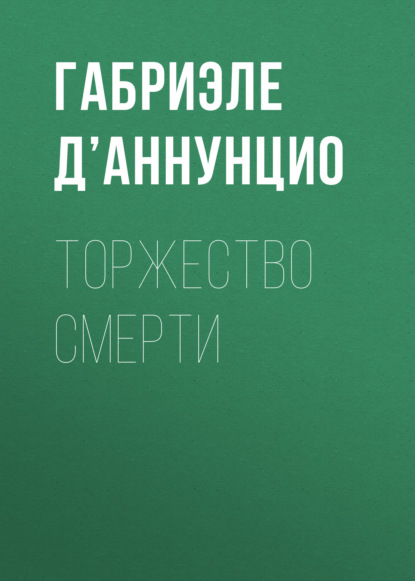По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Торжество смерти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Присутствующие с удивлением глядели на приезжего, на гостя Кандии. Они все увеличивались в числе. Некоторые сидели на усаженной акациями насыпи, другие на голых скалах.
Вдруг чей-то голос крикнул с высоты:
– Вот она!
Другие голоса присоединились к первому:
– Мать! Мать!
Все повернулись в ту сторону, откуда она должна была появиться. Некоторые сошли с насыпи и со скал. Все замолкли в ожидании. Хранитель тела покрыл труп простыней. Наступила тишина. Море слегка волновалось; в акациях шелестел легкий ветерок.
И вдруг в тишине послышались крики приближающейся матери.
Она шла вдоль берега по солнцепеку. На ней было надето вдовье платье. Она шла, сгорбившись, шаталась и кричала:
– Сын мой! Сын мой!
Она поднимала руки к небу и хлопала себя ими по бедрам.
– Сын мой!
Один из ее старших сыновей с повязанной красным платком шеей из-за какой-то болячки бежал за ней как сумасшедший, вытирая рукой слезы.
Она шла вдоль берега, сгорбившись, хлопая себя по коленям и направляясь к простыне. Из ее уст неслись нечеловеческие вопли, похожие на вой дикой собаки. Чем ближе она подходила, тем ниже она наклонялась к земле и, дойдя до трупа, со стоном бросилась на простыню.
Но она сейчас же встала, грубой и загорелой рукой, привыкшей ко всякой работе, откинула простыню и несколько секунд глядела на труп сына, точно окаменевшая. Потом несколько раз она крикнула изо всей силы резким голосом, точно хотела разбудить ребенка.
– Сын мой! Сын мой! Сын мой!
Рыдания душили ее. Она опустилась на колени и стала в остервенении хлопать себя кулаками по бедрам. Затем она с отчаянием огляделась кругом. Казалось, что она собирается с силами.
И затем началось пение.
Она пела о своем горе мерным голосом, то повышавшимся, то понижавшимся так ровно, как биение сердца.
Это был старинный напев, в котором женщины в Абруццких горах с незапамятных времен выражали свою печаль у трупов кровных родственников. Это было звучное восхваление священного горя, пробуждавшее в глубине существа этих женщин старинный напев, в котором древние матери выражали свою печаль.
Против нее стоял на коленях младший брат умершего и монотонно рыдал, время от времени оглядываясь; на лице его лежало теперь выражение равнодушия. Старший брат сидел неподалеку у скалы и изображал печаль, закрывая лицо руками. Женщины, желая утешить мать, наклонились к ней с выражением сострадания и изредка подпевали ей.
– Вставай, Рикканджела, вставай! – уговаривали ее окружавшие женщины.
Но она не слушала их.
– Сын мой может лежать так на камнях, а я не могу? Так, прямо на камнях!
– Вставай, Рикканджела, пойдем!
Она встала, еще раз с невыразимой печалью поглядела на маленькое синеватое лицо мертвеца и последний раз крикнула изо всех сил:
– Сын мой! Сын мой! Сын мой!
Затем она сама покрыла простыней несчастные останки.
Женщины окружили ее, оттащили в сторону в тень скалы, заставили ее сесть и стали стонать вместе с ней.
Понемногу зрители стали расходиться; остались только утешительницы и человек в полотняной одежде, бесстрастный хранитель тела, ожидавший судебных властей. Горячие лучи солнца накалили камни и придавали простыне ослепительную белизну. От голого скалистого извилистого мыса веяло каким-то отчаянием. Широкое, зеленое море ровно дышало. И казалось, что время невероятно тянется и этому часу не будет конца.
А под тенью скалы, у белой простыни, покрывавшей застывшее тело, мать продолжала свою заунывную песню, освященную древней и современной печалью ее народа. И казалось, что слезам ее никогда не будет конца.
9
Ипполита узнала о происшедшем, когда возвращалась из церкви. Она решила сперва отправиться в сопровождении Елены к Джиорджио на берег; но, приблизившись к месту происшествия и увидя издали белеющую на камнях простыню, она почувствовала, что силы оставляют ее, и, разрыдавшись, убежала домой. Джиорджио застал ее дома в слезах.
Она чувствовала сострадание не столько к маленькому утопленнику, сколько к себе самой, вспоминая об опасности, которой она только что избежала во время купания. В ней зародилось теперь инстинктивное, непобедимое отвращение к морю.
– Я не желаю больше купаться в море и не желаю, чтобы и ты купался, – приказала она Джиорджио почти резким тоном, проявляя твердую и непоколебимую решимость. – Я не желаю. Слышишь?
Они провели остаток воскресенья в тревожном беспокойстве, постоянно выходя на балкон поглядеть на белое пятно на лежащем внизу берегу. Джиорджио с такой живостью сохранил в памяти образ трупа, точно он постоянно находился перед его глазами.
Под вечер на берег явились судебные власти. Маленький утопленник был поднят с камней, унесен наверх и исчез. Душу раздирающие крики долетели даже до обители, затем замерли, и кругом воцарилась тишина, поднимавшаяся со спокойного моря.
Море и воздух были так спокойны, что жизнь как будто остановилась. Повсюду был разлит ровный голубой свет.
Ипполита вошла в комнату и легла на кровать. Джиорджио остался сидеть на балконе. Оба страдали, но не могли выразить друг другу свою печаль. Время шло.
– Ты звала меня? – спросил Джиорджио, которому послышалось, будто кто-то зовет его по имени.
– Нет, – ответила она.
– Что ты делаешь? Засыпаешь? Она не ответила.
Джиорджио мысленно перенесся в родные горы, вошел в старый дом, в необитаемые комнаты, переступил роковой порог, как в тот майский день. И, как в тот день, он почувствовал, что его воля находится под влиянием мрачного внушения. Близилась пятая годовщина. Каким образом он отпразднует ее?
Внезапный крик Ипполиты заставил его сильно вздрогнуть. Он вскочил на ноги и побежал к ней.
– Что с тобою?
Ипполита сидела на кровати с испуганным видом и проводила рукой по лбу и по векам, точно хотела стереть с них что-то мучившее ее. Она устремила на Джиорджио мутный взгляд своих расширенных глаз, порывисто бросилась ему на шею и стала покрывать его лицо поцелуями и слезами.
– Но что же, что же с тобой? – спрашивал он испуганно и с беспокойством.
– Ничего, ничего…
– Почему же ты плачешь?
– Мне приснилось!
– Что тебе приснилось? Скажи!
Вдруг чей-то голос крикнул с высоты:
– Вот она!
Другие голоса присоединились к первому:
– Мать! Мать!
Все повернулись в ту сторону, откуда она должна была появиться. Некоторые сошли с насыпи и со скал. Все замолкли в ожидании. Хранитель тела покрыл труп простыней. Наступила тишина. Море слегка волновалось; в акациях шелестел легкий ветерок.
И вдруг в тишине послышались крики приближающейся матери.
Она шла вдоль берега по солнцепеку. На ней было надето вдовье платье. Она шла, сгорбившись, шаталась и кричала:
– Сын мой! Сын мой!
Она поднимала руки к небу и хлопала себя ими по бедрам.
– Сын мой!
Один из ее старших сыновей с повязанной красным платком шеей из-за какой-то болячки бежал за ней как сумасшедший, вытирая рукой слезы.
Она шла вдоль берега, сгорбившись, хлопая себя по коленям и направляясь к простыне. Из ее уст неслись нечеловеческие вопли, похожие на вой дикой собаки. Чем ближе она подходила, тем ниже она наклонялась к земле и, дойдя до трупа, со стоном бросилась на простыню.
Но она сейчас же встала, грубой и загорелой рукой, привыкшей ко всякой работе, откинула простыню и несколько секунд глядела на труп сына, точно окаменевшая. Потом несколько раз она крикнула изо всей силы резким голосом, точно хотела разбудить ребенка.
– Сын мой! Сын мой! Сын мой!
Рыдания душили ее. Она опустилась на колени и стала в остервенении хлопать себя кулаками по бедрам. Затем она с отчаянием огляделась кругом. Казалось, что она собирается с силами.
И затем началось пение.
Она пела о своем горе мерным голосом, то повышавшимся, то понижавшимся так ровно, как биение сердца.
Это был старинный напев, в котором женщины в Абруццких горах с незапамятных времен выражали свою печаль у трупов кровных родственников. Это было звучное восхваление священного горя, пробуждавшее в глубине существа этих женщин старинный напев, в котором древние матери выражали свою печаль.
Против нее стоял на коленях младший брат умершего и монотонно рыдал, время от времени оглядываясь; на лице его лежало теперь выражение равнодушия. Старший брат сидел неподалеку у скалы и изображал печаль, закрывая лицо руками. Женщины, желая утешить мать, наклонились к ней с выражением сострадания и изредка подпевали ей.
– Вставай, Рикканджела, вставай! – уговаривали ее окружавшие женщины.
Но она не слушала их.
– Сын мой может лежать так на камнях, а я не могу? Так, прямо на камнях!
– Вставай, Рикканджела, пойдем!
Она встала, еще раз с невыразимой печалью поглядела на маленькое синеватое лицо мертвеца и последний раз крикнула изо всех сил:
– Сын мой! Сын мой! Сын мой!
Затем она сама покрыла простыней несчастные останки.
Женщины окружили ее, оттащили в сторону в тень скалы, заставили ее сесть и стали стонать вместе с ней.
Понемногу зрители стали расходиться; остались только утешительницы и человек в полотняной одежде, бесстрастный хранитель тела, ожидавший судебных властей. Горячие лучи солнца накалили камни и придавали простыне ослепительную белизну. От голого скалистого извилистого мыса веяло каким-то отчаянием. Широкое, зеленое море ровно дышало. И казалось, что время невероятно тянется и этому часу не будет конца.
А под тенью скалы, у белой простыни, покрывавшей застывшее тело, мать продолжала свою заунывную песню, освященную древней и современной печалью ее народа. И казалось, что слезам ее никогда не будет конца.
9
Ипполита узнала о происшедшем, когда возвращалась из церкви. Она решила сперва отправиться в сопровождении Елены к Джиорджио на берег; но, приблизившись к месту происшествия и увидя издали белеющую на камнях простыню, она почувствовала, что силы оставляют ее, и, разрыдавшись, убежала домой. Джиорджио застал ее дома в слезах.
Она чувствовала сострадание не столько к маленькому утопленнику, сколько к себе самой, вспоминая об опасности, которой она только что избежала во время купания. В ней зародилось теперь инстинктивное, непобедимое отвращение к морю.
– Я не желаю больше купаться в море и не желаю, чтобы и ты купался, – приказала она Джиорджио почти резким тоном, проявляя твердую и непоколебимую решимость. – Я не желаю. Слышишь?
Они провели остаток воскресенья в тревожном беспокойстве, постоянно выходя на балкон поглядеть на белое пятно на лежащем внизу берегу. Джиорджио с такой живостью сохранил в памяти образ трупа, точно он постоянно находился перед его глазами.
Под вечер на берег явились судебные власти. Маленький утопленник был поднят с камней, унесен наверх и исчез. Душу раздирающие крики долетели даже до обители, затем замерли, и кругом воцарилась тишина, поднимавшаяся со спокойного моря.
Море и воздух были так спокойны, что жизнь как будто остановилась. Повсюду был разлит ровный голубой свет.
Ипполита вошла в комнату и легла на кровать. Джиорджио остался сидеть на балконе. Оба страдали, но не могли выразить друг другу свою печаль. Время шло.
– Ты звала меня? – спросил Джиорджио, которому послышалось, будто кто-то зовет его по имени.
– Нет, – ответила она.
– Что ты делаешь? Засыпаешь? Она не ответила.
Джиорджио мысленно перенесся в родные горы, вошел в старый дом, в необитаемые комнаты, переступил роковой порог, как в тот майский день. И, как в тот день, он почувствовал, что его воля находится под влиянием мрачного внушения. Близилась пятая годовщина. Каким образом он отпразднует ее?
Внезапный крик Ипполиты заставил его сильно вздрогнуть. Он вскочил на ноги и побежал к ней.
– Что с тобою?
Ипполита сидела на кровати с испуганным видом и проводила рукой по лбу и по векам, точно хотела стереть с них что-то мучившее ее. Она устремила на Джиорджио мутный взгляд своих расширенных глаз, порывисто бросилась ему на шею и стала покрывать его лицо поцелуями и слезами.
– Но что же, что же с тобой? – спрашивал он испуганно и с беспокойством.
– Ничего, ничего…
– Почему же ты плачешь?
– Мне приснилось!
– Что тебе приснилось? Скажи!