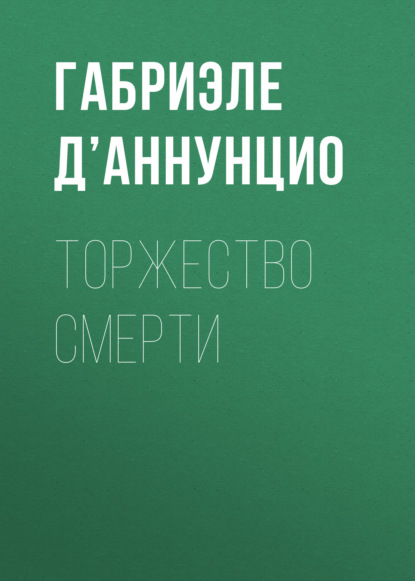По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Торжество смерти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Люди с серпами громким голосом ответили ему:
– Аминь.
Эта красивая картина не выходила из головы Джиорджио, когда он шел по тропинке домой в обитель во время чудного заката солнца, окруженный волнами звуков. «Религиозная радость жизни, – думал он, – глубокий культ матери-природы, вечной создательницы, радующейся обилию своих сил; страстное поклонение всем производительным и разрушительным силам; сильное и упорное развитие атлетического инстинкта борьбы, преобладания, властвования, гегемонии – вот что составляло непоколебимое основание, на котором держался греческий мир в период своего развития!
В каждом греке укоренилось гомерическое понимание жизни. Энергичный грек, подобно воинам, воспетым в звучных гекзаметрах и встречавшим „с одинаково радостным приветствием гром и лучи солнца“, встречал с „одинаково радостным приветствием“ и добро, и зло, стремясь только к тому, чтобы распространять свое влияние и проводить в жизнь свой инстинкт властолюбия. Грек умел относиться с искренней радостью и к ужасному происшествию, и к страданиям. Даже в заблуждении, в несчастье, в пытке он видел только торжество жизни. Страдания были для него стимулом жизни и действовали на него, как возбуждающие лекарства, ускоряющие и усиливающие отправления органов, от которых зависит сила человеческого существа. В глубине его трагического чувства не зарождалось стремление освободиться от всех ужасов и унижений, но, как понял Фридрих Ницше, стремление быть самому вечной радостью бытия, возвышающейся над всеми ужасами и унижениями: быть самому всеми радостями, не исключая даже разрушения. Единственным достойным греков философом был Гераклит Эфесский, который, подобно Сивилле, „говорил вдохновенными устами без улыбки, без украшений, без благоухания и пришел через два века, как всемогущий бог“. Идея эволюции, постоянной изменчивости вещей, бесконечных космических перемен – основная идея современной философии – блестит в его образном афоризме: „Никто никогда не попадал два раза в одно и то же течение. Даже все мимолетное не имеет повторения“. Рассматривая Вселенную, Гераклит видел, что она не находится в состоянии постоянной неподвижности, а что в ней происходит безостановочный процесс образования и преобразования, в котором нет ничего прочного, кроме огненной энергии, действующей по определенным законам.»
Джиорджио остановился на повороте тропинки, услыша чей-то звонкий приближавшийся голос. Узнав его, Джиорджио почувствовал неожиданный порыв радости. Это был голос Фаветты, молодой певуньи с ястребиными глазами – звучное сопрано, постоянно возбуждавшее в нем воспоминание о чудном майском утре, сиявшем над лабиринтом цветущего дрока, над пустынным золотым садом, где он вообразил, что он открыл тайну радости, не подозревая присутствия чужого синьора, скрытого за изгородью. Фаветта шла с высоко поднятой головой и вела за веревку корову. Они громко пела, широко раскрывая рот. Все ее лицо было освещено солнцем. Пение лилось из ее горла с хрустальной чистотой, как ключевой источник. Белоснежное животное покорно шло за ней, а подгрудок его и вымя, наполненное луговым молоком, качались при каждом ее шаге.
Увидя чужого, певунья остановилась и собралась было совсем прекратить пение.
– О, Фаветта! – воскликнул Джиорджио, подходя к ней с радостным видом, точно встречая в ней подругу счастливых времен. – Куда ты идешь?
Она покраснела при звуке своего имени и смущенно улыбнулась.
– Я веду корову домой, – сказала она.
Она сразу остановилась, и морда животного уперлась ей в спину. Ее развитый бюст возвышался между двумя высокими рогами коровы.
– Всегда-то ты поешь! – сказал Джиорджио, любуясь ею. – Всегда!
– Эх, синьор, – ответила она, улыбаясь, – если отнять у нас пение, то что же нам останется?
– Ты помнишь то утро, когда ты собирала цветы дрока?
– Цветы дрока для твоей молодой?
– Да. Ты помнишь это?
– Помню.
– Спой мне опять эту песню.
– Я не могу петь ее одна.
– Так спой мне другую.
– Так, сейчас, перед тобой? Мне стыдно. Я буду петь по дороге. Прощай, синьор.
– Прощай, Фаветта.
Она пошла дальше по тропинке, таща за собой спокойное животное. Пройдя несколько шагов, она всей мощью голоса запела песню, показываясь иногда в освещенных местах.
Необычайно яркий свет был разлит на берегу и по морю после заката солнца; огромная волна неосязаемого золота начиналась у западного края небосклона и необычайно медленно спускалась на берег. Адриатика делалась все сильнее и нежнее, окрашиваясь в нежный цвет первых ивовых листьев на молодых отпрысках. Только пурпурно-красные паруса нарушали гармонию рассеянного света.
«Это настоящий праздник! – думал Джиорджио, ослепленный красотой зрелища и чувствуя, что все окружающее проникнуто радостью жизни. – Где дышит то человеческое существо, для которого весь день от зари до заката составляет один сплошной праздник, освященный новой победой? Где живет победитель, увенчанный венком смеха, этим венком из смеющихся роз, о котором говорит Заратустра? Где живет сильный и тиранический победитель, свободный от ярма всякой фальшивой морали, уверенный в своей власти, убежденный в том, что сущность человека важнее всех окружающих ее деталей, решившийся возвыситься над добром и злом в силу своей энергичной воли, способный даже заставить жизнь сдержать свои обещания?»
Джиорджио Ауриспа вспомнил слова Заратустры: «Когда сердце ваше учащенно бьется и готово выскочить подобно реке, выходящей из берегов, которую благословляют и которой боятся прибрежные жители, – вот где источник вашей добродетели».
Сколько раз сердце Джиорджио учащенно билось? Сколько раз он чувствовал, что по всему его существу разливается волна энергии? Он припоминал далекие эпизоды, в которых ему являлся призрак подобного радостного чувства. И все его искусственные стремления к «вакхическому» идеалу и прогрессивной жизни выливались в слова ученика к учителю – творцу и разрушителю: «Правда, тысяча взглядов устремлены теперь на твою гору и на твой кедр. Горячее желание возникло и распространилось, и многие научились уже спрашивать: „Кто же Заратустра?“» И все те, в чьи души ты вливал свое пение и свой мед, все скрывшиеся, все одинокие и попарно одинокие, все внезапно спрашивают свое сердце, говоря: «Так Заратустра находится между живущими? Не стоит больше жить, все бесполезно, все напрасно, если не жить с Заратустрой.»
Чувствуя, что он погибает, Джиорджио опять призывал в своем смертельном изнеможении восхвалителя жизни. «Действительно, подобно юношескому смеху, звучащему из тысяч уст, ты, Заратустра, проникаешь во все катакомбы, смеясь над теми, которые бодрствуют по ночам у трупов и гремят связками зловещих ключей. Твой смех, о Заратустра, испугает и опрокинет их, как ветер. Их обморок и пробуждение будут доказательствами твоей власти. И в те часы, когда на нас спустятся долгие сумерки и смертельная усталость, ты не сойдешь с нашего горизонта, о Восхвалитель жизни! Ты открыл нам новые звезды и новые ночные красоты. Действительно, ты разлил над нашими головами смех, как разбивают пеструю палатку. Отныне юный смех будет раздаваться из всех гробов, торжествующий ветер будет рассеивать всякую смертельную усталость. Ты сам предвещаешь и обещаешь нам это!»
Слова Заратустры, учившего о Сверхчеловеке Гете, казались Джиорджио самыми благородными и мужественными из когда-либо произнесенных поэтами или философами за последнее время. Джиорджио был слабым, униженным, колеблющимся, больным человеком и с глубоким волнением прислушивался к этому новому голосу, который с таким сарказмом бичевал слабость, раздражительность, болезненную чувствительность, культ страдания, евангелие отречения, потребность верить, унижаться, освобождать и освобождаться, одним словом, все шаткие духовные потребности этой эпохи, смешное и жалкое расслабление европейской души, все чудовищное развитие христианской чумы в пришедших в упадок народах. Джиорджио был одиноким зрителем, бездеятельным созерцателем и со странной тревогой прислушивался к этому голосу, который утверждал жизнь, видел в страданиях дисциплину сильных, отрицал всякую веру, и особенно веру в мораль, объявлял неравенство справедливым, возбуждал сильную энергию, чувство власти, инстинкт борьбы и превосходства, развитие производительных и плодотворных сил, все качества победителя, разрушителя и творца. «Творить!» – говорил Заратустра. «Вот акт, освобождающий от страданий и уменьшающий тяжесть жизни. Но для существования творца необходима помощь страданий и некоторых метаморфоз». И Джиорджио Ауриспа не раз думал о своем болезненно развитом сознании: «Раз мне удалось путем бесчисленных страданий умножить явления своего внутреннего мира, то я должен для полноты своей жизни только отыскать средства сделать свои страдания активными. Наука о необходимом должна естественно приводить к деятельности, к творчеству». Много раз опьяненный сильными страданиями, он вспоминал короля Висвамитру, который приобрел в добровольных тысячелетних страданиях такую уверенность в своей власти и такую веру в себя самого, что собрался построить новое небо. «Но как я могу приобрести веру в самого себя? Сомнения грызут меня, сомнения гложут мою волю и рвут мои мечтания. Я готов терпеть всевозможные пытки, только бы найти в глубине какого-нибудь яда свою энергичную волю, которую я мог бы охватить, чтобы раскинуть над головой свои самые широкие мечты, подобно новому небосклону!»
Заратустра говорил: «Одним словом, я тот, который благословляет и утверждает. Я долгое время был простым атлетом, чтобы иметь, наконец, руки, свободные для благословения. И вот мое благословение: будьте прежде всего такими, как небо над вами, как непоколебимый небесный свод, голубой купол, вечная уверенность. И благословен тот, который так благословляет. Все творения крещены над купелью вечности и стоят выше добра и зла, а добро и зло суть мимолетные тени, дымки печали, туман под ветром».
Он говорил: «Случайность – вот самый древний титул благородства в мире. Я дал его всем вещам, я освободил все вещи от ярма конечности и раскинул эту небесную свободу и ясность над всеми вещами, подобно голубому куполу, утверждая, что ни над ними, ни в них не действует какая-нибудь вечная воля».
Разве в этих словах не заключался великий и чистый смысл возвышенной жизни? Разве не был пророком зари тот человек, который освобождал умы от прошлого и настоящего и толкал их по тысячам мостов и дорог к будущему, к «земле сыновей», к еще неоткрытой земле, на далекие моря, где однажды должно было появиться существо выше человека, сверхчеловеческое существо, сверхчеловек? Как же иначе, как не продолжением рода, можно было достигнуть идеальной формы, к которой стремился род человеческий в своем развитии? «Пусть звездный луч сияет в твоей любви. Да будет твоя надежда: произвести на свет сверхчеловека!»
Джиорджио Ауриспа знал, что его любовь и возбуждение бесплодны, как волнение моря, начинавшего дрожать под вечерним ветром. Ему не суждено было передать своему ребенку печать своего существа, сохранить в нем свой облик, продолжать через него прогрессивное развитие ума. Ему не суждено было выразить в каком-нибудь произведении сущность своего интеллекта, гармоническую силу своих многочисленных способностей, целиком нарисовать свое миросозерцание. Его бесплодность была неизлечима. Его существование сводилось к простому течению ощущений, эмоций, идей и было лишено всякого прочного основания. Его личная жизнь была простой временной ассоциацией явлений вокруг центра, «подобно собаке, привязанной к столбу». Он мог стремиться только к концу и, чтобы положить конец всем мечтаниям, должен был только мечтать о том, чтобы больше не желать мечтать.
Зачем же он призывал в этот летний вечер среди пения жнецов в священный праздник урожая призрак этого последнего восхвалителя жизни?
Золотой свет сумерек почти погас, и сероватый мрак спускался с неба на землю. Только на морском горизонте зеленая, как аквамарин, и необычайно чистая и светлая полоса противилась еще обесцвечивающему мраку и сияла на границе воды загадочной улыбкой. С вершины холма, куда Джиорджио забрел нечаянно, виднелись контуры мысов, казавшихся необычайно крупными во мраке и напоминавших огромное живое существо, глубоко вздыхающее, перед тем как уснуть на берегу моря.
4
Начиная с той трагической ночи, когда Кандия рассказала своим гостям про нечистую силу, державшую в своей власти рыбака Туркино с семьей, огромный белый скелет на скалах много раз привлекал их взоры и возбуждал их любопытство. Это коварное щетинистое чудовище, казалось, всегда сидело в засаде в маленькой музыкальной бухте, собираясь нарушить приятную тишину. В душные обеденные часы или в мрачные сумерки оно принимало страшный и внушительный вид. Тишина нарушалась тогда только скрипом ворота и всего скелета. В безлунные ночи красные огни факелов отражались в воде.
Однажды после обеда в час тягостного молчания Джиорджио предложил Ипполите:
– Не хочешь ли пойти к рыбакам?
– Пойдем, если хочешь, – ответила Ипполита. – Но как я перейду мост? Я уже раз пробовала…
– Я проведу тебя за руку.
– Он слишком узок.
– Попробуем.
Они пошли, спустились по тропинке и, дойдя до поворота, увидели пренеудобную лестницу, высеченную в скале и ведущую неровными ступеньками вниз к висячему мосту.
– Видишь, как мне быть? – сказала Ипполита огорченным тоном. – У меня начинает кружиться голова при одном виде этого моста.
Вначале мост состоял из одной единственной очень узкой доски, поддерживаемой укрепленными в скалах подпорками; далее он расширялся благодаря маленьким серебристо-белым поперечным дощечкам, старым, сухим, плохо сколоченным вместе и таким тонким, что, казалось, они должны сломаться под малейшим давлением.
– Хочешь попробовать? – спросил Джиорджио Ипполиту, находя странное облегчение в уверенности, что она никогда не будет в состоянии совершить опасный переход. – Видишь, кто-то идет помочь нам.
С платформы бежал полуголый мальчик, гибкий, как кошка, и смуглый, как бронзовая фигура. Дощечки только скрипели и гнулись под его верными шагами. Добежав до приезжих гостей, он оживленно стал приглашать их довериться ему, глядя на них пронизывающим взором хищной птицы.
– Хочешь попробовать? – повторил Джиорджио с улыбой.
Ипполита в нерешительности поставила ногу на качающуюся доску, поглядела на скалы и на воду и отступила назад, не будучи в состоянии побороть свое волнение.
– Я боюсь головокружения, – сказала она. – Я уверена, что упаду.
– Аминь.
Эта красивая картина не выходила из головы Джиорджио, когда он шел по тропинке домой в обитель во время чудного заката солнца, окруженный волнами звуков. «Религиозная радость жизни, – думал он, – глубокий культ матери-природы, вечной создательницы, радующейся обилию своих сил; страстное поклонение всем производительным и разрушительным силам; сильное и упорное развитие атлетического инстинкта борьбы, преобладания, властвования, гегемонии – вот что составляло непоколебимое основание, на котором держался греческий мир в период своего развития!
В каждом греке укоренилось гомерическое понимание жизни. Энергичный грек, подобно воинам, воспетым в звучных гекзаметрах и встречавшим „с одинаково радостным приветствием гром и лучи солнца“, встречал с „одинаково радостным приветствием“ и добро, и зло, стремясь только к тому, чтобы распространять свое влияние и проводить в жизнь свой инстинкт властолюбия. Грек умел относиться с искренней радостью и к ужасному происшествию, и к страданиям. Даже в заблуждении, в несчастье, в пытке он видел только торжество жизни. Страдания были для него стимулом жизни и действовали на него, как возбуждающие лекарства, ускоряющие и усиливающие отправления органов, от которых зависит сила человеческого существа. В глубине его трагического чувства не зарождалось стремление освободиться от всех ужасов и унижений, но, как понял Фридрих Ницше, стремление быть самому вечной радостью бытия, возвышающейся над всеми ужасами и унижениями: быть самому всеми радостями, не исключая даже разрушения. Единственным достойным греков философом был Гераклит Эфесский, который, подобно Сивилле, „говорил вдохновенными устами без улыбки, без украшений, без благоухания и пришел через два века, как всемогущий бог“. Идея эволюции, постоянной изменчивости вещей, бесконечных космических перемен – основная идея современной философии – блестит в его образном афоризме: „Никто никогда не попадал два раза в одно и то же течение. Даже все мимолетное не имеет повторения“. Рассматривая Вселенную, Гераклит видел, что она не находится в состоянии постоянной неподвижности, а что в ней происходит безостановочный процесс образования и преобразования, в котором нет ничего прочного, кроме огненной энергии, действующей по определенным законам.»
Джиорджио остановился на повороте тропинки, услыша чей-то звонкий приближавшийся голос. Узнав его, Джиорджио почувствовал неожиданный порыв радости. Это был голос Фаветты, молодой певуньи с ястребиными глазами – звучное сопрано, постоянно возбуждавшее в нем воспоминание о чудном майском утре, сиявшем над лабиринтом цветущего дрока, над пустынным золотым садом, где он вообразил, что он открыл тайну радости, не подозревая присутствия чужого синьора, скрытого за изгородью. Фаветта шла с высоко поднятой головой и вела за веревку корову. Они громко пела, широко раскрывая рот. Все ее лицо было освещено солнцем. Пение лилось из ее горла с хрустальной чистотой, как ключевой источник. Белоснежное животное покорно шло за ней, а подгрудок его и вымя, наполненное луговым молоком, качались при каждом ее шаге.
Увидя чужого, певунья остановилась и собралась было совсем прекратить пение.
– О, Фаветта! – воскликнул Джиорджио, подходя к ней с радостным видом, точно встречая в ней подругу счастливых времен. – Куда ты идешь?
Она покраснела при звуке своего имени и смущенно улыбнулась.
– Я веду корову домой, – сказала она.
Она сразу остановилась, и морда животного уперлась ей в спину. Ее развитый бюст возвышался между двумя высокими рогами коровы.
– Всегда-то ты поешь! – сказал Джиорджио, любуясь ею. – Всегда!
– Эх, синьор, – ответила она, улыбаясь, – если отнять у нас пение, то что же нам останется?
– Ты помнишь то утро, когда ты собирала цветы дрока?
– Цветы дрока для твоей молодой?
– Да. Ты помнишь это?
– Помню.
– Спой мне опять эту песню.
– Я не могу петь ее одна.
– Так спой мне другую.
– Так, сейчас, перед тобой? Мне стыдно. Я буду петь по дороге. Прощай, синьор.
– Прощай, Фаветта.
Она пошла дальше по тропинке, таща за собой спокойное животное. Пройдя несколько шагов, она всей мощью голоса запела песню, показываясь иногда в освещенных местах.
Необычайно яркий свет был разлит на берегу и по морю после заката солнца; огромная волна неосязаемого золота начиналась у западного края небосклона и необычайно медленно спускалась на берег. Адриатика делалась все сильнее и нежнее, окрашиваясь в нежный цвет первых ивовых листьев на молодых отпрысках. Только пурпурно-красные паруса нарушали гармонию рассеянного света.
«Это настоящий праздник! – думал Джиорджио, ослепленный красотой зрелища и чувствуя, что все окружающее проникнуто радостью жизни. – Где дышит то человеческое существо, для которого весь день от зари до заката составляет один сплошной праздник, освященный новой победой? Где живет победитель, увенчанный венком смеха, этим венком из смеющихся роз, о котором говорит Заратустра? Где живет сильный и тиранический победитель, свободный от ярма всякой фальшивой морали, уверенный в своей власти, убежденный в том, что сущность человека важнее всех окружающих ее деталей, решившийся возвыситься над добром и злом в силу своей энергичной воли, способный даже заставить жизнь сдержать свои обещания?»
Джиорджио Ауриспа вспомнил слова Заратустры: «Когда сердце ваше учащенно бьется и готово выскочить подобно реке, выходящей из берегов, которую благословляют и которой боятся прибрежные жители, – вот где источник вашей добродетели».
Сколько раз сердце Джиорджио учащенно билось? Сколько раз он чувствовал, что по всему его существу разливается волна энергии? Он припоминал далекие эпизоды, в которых ему являлся призрак подобного радостного чувства. И все его искусственные стремления к «вакхическому» идеалу и прогрессивной жизни выливались в слова ученика к учителю – творцу и разрушителю: «Правда, тысяча взглядов устремлены теперь на твою гору и на твой кедр. Горячее желание возникло и распространилось, и многие научились уже спрашивать: „Кто же Заратустра?“» И все те, в чьи души ты вливал свое пение и свой мед, все скрывшиеся, все одинокие и попарно одинокие, все внезапно спрашивают свое сердце, говоря: «Так Заратустра находится между живущими? Не стоит больше жить, все бесполезно, все напрасно, если не жить с Заратустрой.»
Чувствуя, что он погибает, Джиорджио опять призывал в своем смертельном изнеможении восхвалителя жизни. «Действительно, подобно юношескому смеху, звучащему из тысяч уст, ты, Заратустра, проникаешь во все катакомбы, смеясь над теми, которые бодрствуют по ночам у трупов и гремят связками зловещих ключей. Твой смех, о Заратустра, испугает и опрокинет их, как ветер. Их обморок и пробуждение будут доказательствами твоей власти. И в те часы, когда на нас спустятся долгие сумерки и смертельная усталость, ты не сойдешь с нашего горизонта, о Восхвалитель жизни! Ты открыл нам новые звезды и новые ночные красоты. Действительно, ты разлил над нашими головами смех, как разбивают пеструю палатку. Отныне юный смех будет раздаваться из всех гробов, торжествующий ветер будет рассеивать всякую смертельную усталость. Ты сам предвещаешь и обещаешь нам это!»
Слова Заратустры, учившего о Сверхчеловеке Гете, казались Джиорджио самыми благородными и мужественными из когда-либо произнесенных поэтами или философами за последнее время. Джиорджио был слабым, униженным, колеблющимся, больным человеком и с глубоким волнением прислушивался к этому новому голосу, который с таким сарказмом бичевал слабость, раздражительность, болезненную чувствительность, культ страдания, евангелие отречения, потребность верить, унижаться, освобождать и освобождаться, одним словом, все шаткие духовные потребности этой эпохи, смешное и жалкое расслабление европейской души, все чудовищное развитие христианской чумы в пришедших в упадок народах. Джиорджио был одиноким зрителем, бездеятельным созерцателем и со странной тревогой прислушивался к этому голосу, который утверждал жизнь, видел в страданиях дисциплину сильных, отрицал всякую веру, и особенно веру в мораль, объявлял неравенство справедливым, возбуждал сильную энергию, чувство власти, инстинкт борьбы и превосходства, развитие производительных и плодотворных сил, все качества победителя, разрушителя и творца. «Творить!» – говорил Заратустра. «Вот акт, освобождающий от страданий и уменьшающий тяжесть жизни. Но для существования творца необходима помощь страданий и некоторых метаморфоз». И Джиорджио Ауриспа не раз думал о своем болезненно развитом сознании: «Раз мне удалось путем бесчисленных страданий умножить явления своего внутреннего мира, то я должен для полноты своей жизни только отыскать средства сделать свои страдания активными. Наука о необходимом должна естественно приводить к деятельности, к творчеству». Много раз опьяненный сильными страданиями, он вспоминал короля Висвамитру, который приобрел в добровольных тысячелетних страданиях такую уверенность в своей власти и такую веру в себя самого, что собрался построить новое небо. «Но как я могу приобрести веру в самого себя? Сомнения грызут меня, сомнения гложут мою волю и рвут мои мечтания. Я готов терпеть всевозможные пытки, только бы найти в глубине какого-нибудь яда свою энергичную волю, которую я мог бы охватить, чтобы раскинуть над головой свои самые широкие мечты, подобно новому небосклону!»
Заратустра говорил: «Одним словом, я тот, который благословляет и утверждает. Я долгое время был простым атлетом, чтобы иметь, наконец, руки, свободные для благословения. И вот мое благословение: будьте прежде всего такими, как небо над вами, как непоколебимый небесный свод, голубой купол, вечная уверенность. И благословен тот, который так благословляет. Все творения крещены над купелью вечности и стоят выше добра и зла, а добро и зло суть мимолетные тени, дымки печали, туман под ветром».
Он говорил: «Случайность – вот самый древний титул благородства в мире. Я дал его всем вещам, я освободил все вещи от ярма конечности и раскинул эту небесную свободу и ясность над всеми вещами, подобно голубому куполу, утверждая, что ни над ними, ни в них не действует какая-нибудь вечная воля».
Разве в этих словах не заключался великий и чистый смысл возвышенной жизни? Разве не был пророком зари тот человек, который освобождал умы от прошлого и настоящего и толкал их по тысячам мостов и дорог к будущему, к «земле сыновей», к еще неоткрытой земле, на далекие моря, где однажды должно было появиться существо выше человека, сверхчеловеческое существо, сверхчеловек? Как же иначе, как не продолжением рода, можно было достигнуть идеальной формы, к которой стремился род человеческий в своем развитии? «Пусть звездный луч сияет в твоей любви. Да будет твоя надежда: произвести на свет сверхчеловека!»
Джиорджио Ауриспа знал, что его любовь и возбуждение бесплодны, как волнение моря, начинавшего дрожать под вечерним ветром. Ему не суждено было передать своему ребенку печать своего существа, сохранить в нем свой облик, продолжать через него прогрессивное развитие ума. Ему не суждено было выразить в каком-нибудь произведении сущность своего интеллекта, гармоническую силу своих многочисленных способностей, целиком нарисовать свое миросозерцание. Его бесплодность была неизлечима. Его существование сводилось к простому течению ощущений, эмоций, идей и было лишено всякого прочного основания. Его личная жизнь была простой временной ассоциацией явлений вокруг центра, «подобно собаке, привязанной к столбу». Он мог стремиться только к концу и, чтобы положить конец всем мечтаниям, должен был только мечтать о том, чтобы больше не желать мечтать.
Зачем же он призывал в этот летний вечер среди пения жнецов в священный праздник урожая призрак этого последнего восхвалителя жизни?
Золотой свет сумерек почти погас, и сероватый мрак спускался с неба на землю. Только на морском горизонте зеленая, как аквамарин, и необычайно чистая и светлая полоса противилась еще обесцвечивающему мраку и сияла на границе воды загадочной улыбкой. С вершины холма, куда Джиорджио забрел нечаянно, виднелись контуры мысов, казавшихся необычайно крупными во мраке и напоминавших огромное живое существо, глубоко вздыхающее, перед тем как уснуть на берегу моря.
4
Начиная с той трагической ночи, когда Кандия рассказала своим гостям про нечистую силу, державшую в своей власти рыбака Туркино с семьей, огромный белый скелет на скалах много раз привлекал их взоры и возбуждал их любопытство. Это коварное щетинистое чудовище, казалось, всегда сидело в засаде в маленькой музыкальной бухте, собираясь нарушить приятную тишину. В душные обеденные часы или в мрачные сумерки оно принимало страшный и внушительный вид. Тишина нарушалась тогда только скрипом ворота и всего скелета. В безлунные ночи красные огни факелов отражались в воде.
Однажды после обеда в час тягостного молчания Джиорджио предложил Ипполите:
– Не хочешь ли пойти к рыбакам?
– Пойдем, если хочешь, – ответила Ипполита. – Но как я перейду мост? Я уже раз пробовала…
– Я проведу тебя за руку.
– Он слишком узок.
– Попробуем.
Они пошли, спустились по тропинке и, дойдя до поворота, увидели пренеудобную лестницу, высеченную в скале и ведущую неровными ступеньками вниз к висячему мосту.
– Видишь, как мне быть? – сказала Ипполита огорченным тоном. – У меня начинает кружиться голова при одном виде этого моста.
Вначале мост состоял из одной единственной очень узкой доски, поддерживаемой укрепленными в скалах подпорками; далее он расширялся благодаря маленьким серебристо-белым поперечным дощечкам, старым, сухим, плохо сколоченным вместе и таким тонким, что, казалось, они должны сломаться под малейшим давлением.
– Хочешь попробовать? – спросил Джиорджио Ипполиту, находя странное облегчение в уверенности, что она никогда не будет в состоянии совершить опасный переход. – Видишь, кто-то идет помочь нам.
С платформы бежал полуголый мальчик, гибкий, как кошка, и смуглый, как бронзовая фигура. Дощечки только скрипели и гнулись под его верными шагами. Добежав до приезжих гостей, он оживленно стал приглашать их довериться ему, глядя на них пронизывающим взором хищной птицы.
– Хочешь попробовать? – повторил Джиорджио с улыбой.
Ипполита в нерешительности поставила ногу на качающуюся доску, поглядела на скалы и на воду и отступила назад, не будучи в состоянии побороть свое волнение.
– Я боюсь головокружения, – сказала она. – Я уверена, что упаду.