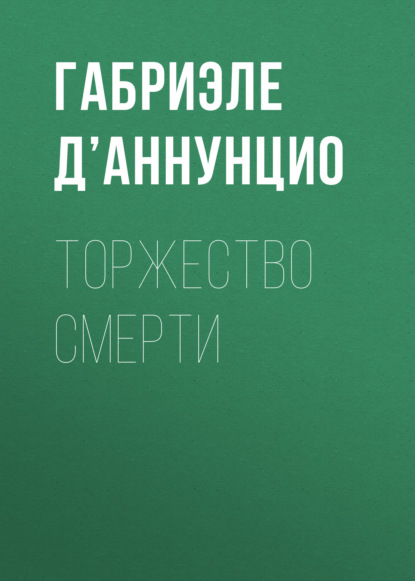По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Торжество смерти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она старалась быть веселой, желая развеселить его, спустила окно и высунула голову наружу.
– Вечер холодный, но приятный. Вставай, мой друг! Сегодня годовщина, и мы должны быть веселыми.
При звуке ее нежного и сильного голоса он отогнал от себя гадкие мысли и, выйдя на свежий воздух, скоро успокоился.
Ясный вечер спустился на насыщенную влагой местность. В прозрачном воздухе блестели последние лучи света. Звезды одна за другой зажигались на небе, как бы на невидимых висячих канделябрах, парящих в воздухе.
– Мы должны быть счастливыми! – Джиорджио повторял про себя слова подруги, и его сердце наполнялось несбыточными мечтами. Тихая комната, зажженный камин и белая постель показались ему слишком ничтожными элементами счастья в эту тихую и торжественную ночь.
– Сегодня годовщина. Мы должны быть счастливыми. – Что он делал и думал два года тому назад в это время? Он бесцельно бродил по улицам, инстинктивно стремясь достигнуть чего-то возвышенного и тем не менее направляя шаги в людные места, где его гордость и счастье казались ему возвышенными перед контрастом обыденной жизни. А городской шум, окружавший его, долетал до его слуха, точно издалека.
5
От старой гостиницы Людовика Тоньи веяло чуть не монастырской тишиной. Длинный вход был отделан под мрамор, и стены на лестничных площадках были покрыты многочисленными досками с надписями. Каждая вещь носила отпечаток старины. Старомодные формы кроватей, стульев, кресел, диванов, комодов совершенно вышли из употребления. В середине потолков на светло-желтом или голубом фоне красовались гирлянды роз и разные символические изображения – лиры, факелы, колчаны. Цветы на коврах и бумажных обоях побледнели и почти исчезли. Скромные, белые тюлевые занавески у окон висели на потерявших позолоту карнизах. Старинные картины в выцветших рамках, отражавшиеся в зеркалах в стиле рококо, имели мрачный и унылый вид.
– Как мне здесь нравится! – говорила Ипполита, поддаваясь тишине окружавшей обстановки. Она уселась в большое мягкое кресло и прислонилась головой к спинке, на которую была наброшена скромная, белая вязаная салфеточка в виде полумесяца. – Мне даже не хочется двигаться с места.
Она вспомнила свою тетю Джиованну и далекое детство.
Я помню, что у бедной тети был дом, похожий на этот, где мебель веками стояла на одном месте. Я никогда не забуду ее отчаяния, когда я сломала ей стеклянный колпак, знаешь, над искусственными цветами… Я помню, как плакала бедная старушка, и, как сейчас, вижу ее в черной кружевной наколке с белыми локонами на висках…
Она говорила тихим голосом и часто останавливалась, глядя на пылающий огонь и улыбаясь Джиорджио. Под ее усталыми глазами вырисовывались черные круги. С улицы долетал до них ровный непрерывный стук мостивших улицу рабочих.
– В доме был большой чердак с двумя или тремя окошечками, населенный голубями. Туда взбирались по маленькой крутой лестнице. На стенах чердака висели сухие заячьи шкурки с шерстью, натянутые на палках. Я ежедневно ходила кормить голубей. Заслыша мои шаги, они слетались к двери, а когда я входила, они осаждали меня. Я садилась на пол и разбрасывала им принесенный ячмень. Голуби окружали меня; все были белые. Я глядела, как они клюют ячмень. Из соседнего дома слышались звуки флейты – все одна и та же мелодия в один и тот же час. Эта музыка казалась мне очаровательной. Я слушала с открытым ртом, подняв голову в сторону окна, и упивалась звуками. Иногда в окошечко влетал запоздавший голубь, задевая крыльями за мою голову и оставляя у меня в волосах два-три пера. А невидимая флейта играла и играла… Эта мелодия до сих пор не выходит у меня из головы; я могла бы даже пропеть ее. В это время, среди голубей, у меня зародилась страсть к музыке…
Она говорила тихим голосом и часто останавливалась, глядя расширенными глазами на разгоревшийся огонь: казалось, что он притягивал и начинал гипнотизировать ее. А с улицы доносился ровный и однообразный стук мостивших улицу рабочих.
6
Однажды они возвратились немного усталые с прогулки на озеро Неми. Они позавтракали в вилле Чезарини под тенью роскошных цветущих камелий и с чувством людей, разглядывающих что-то в высшей степени таинственное, полюбовались зеркалом Дианы, холодным и непроницаемым для взгляда, подобно голубому льду.
Придя домой, они по обыкновению заказали чай. Ипполита, рывшаяся в своем чемодане, вдруг обернулась в сторону Джиорджио, показывая ему перевязанный ленточкой пакетик.
– Погляди-ка! Твои письма… Я всегда вожу их с собой. Джиорджио воскликнул с видимым удовольствием:
– Все? Ты все сохраняешь?
– Да, все. Тут и записки, и телеграммы. Не достает только одной записки, которую я бросила в огонь, чтобы она не попала в руки моего мужа. Но я храню обгоревшие кусочки; некоторые слова можно разобрать.
– Покажи мне! – попросил Джиорджио.
Она ревнивым жестом спрятала пакет и, видя, что Джиорджио с улыбкой подходит к ней, убежала в соседнюю комнату.
– Нет, нет, ничего не увидишь; я не хочу.
Она противилась, отчасти шутя, отчасти потому, что ревниво оберегала эти письма, подобно тайному сокровищу, с гордостью и со страхом, и не хотела, чтобы их видел даже тот, кто написал их.
– Пожалуйста, покажи их мне! Мне очень любопытно перечитать письма, написанные два года тому назад. Что я писал тебе?
– Огненные вещи.
– Пожалуйста, покажи.
Она, наконец, согласилась, уступая настойчивым ласкам друга.
– Так подождем, пока подадут чай, и тогда перечитаем их вместе. Не хочешь ли затопить камин?
– Нет, сегодня ведь почти жаркий день.
День был ясный, и серебристый свет разливался в неподвижном воздухе. Дневной свет становился мягче, проникая в комнату через тюлевые занавеси. Свежие фиалки, набранные в вилле Чезарани, наполняли всю комнату своим благоуханием.
– Вот и Панкрацио, – сказала Ипполита, услышав стук в дверь.
Добрый слуга Панкрацио вошел с неизменной улыбкой на губах, поставил поднос на стол, обещал на вечерний обед ранние плоды и вышел из комнаты быстрыми прыгающими шажками.
Ипполита налила чай в чашки; они задымились, подобно кадилам. Затем она развязала пакет; письма лежали в порядке, разделенные на мелкие связки.
– Какое множество! – воскликнул Джиорджио.
– Не так уж много. Здесь двести девяносто четыре письма, а два года состоят из семисот тридцати дней.
Оба улыбнулись и, усевшись рядом за стол, начали чтение. Перед этими документами своей любви Джиорджио почувствовал какое-то странное, нежное и в то же время сильное волнение. Первые письма привели его ум в замешательство. Душевное состояние, проглядывавшее в этих письмах, показалось ему сначала непонятным. Некоторые возвышенные лирические фразы поразили его, а пыл юношеской страсти буквально ошеломил его в окружавшей мирной обстановке тихой и скромной гостиницы. Одно письмо гласило: «Сколько раз мое сердце стремилось к тебе сегодня ночью! Тяжелое тревожное чувство мучила меня даже в краткие промежутки сна, и я открывал глаза, чтобы отогнать призраки, поднимавшиеся из самой глубины моей души. Одна только мысль не покидает и постоянно терзает меня; это мысль о том, что ты можешь уехать далеко. Возможность этого никогда еще так не ужасала меня и не причиняла мне таких безумных страданий, как теперь. В настоящий момент я имею твердую, ясную и очевидную уверенность, что без тебя жизнь для меня невозможна. Когда тебя нет, дневной свет меркнет в моих глазах и земля кажется мне бездонной могилой – я вижу смерть». В другом письме, написанном вскоре после отъезда Ипполиты, стояло: «Я делаю страшные усилия, чтобы держать перо. Силы совершенно оставили меня; я стал безволен и чувствую себя настолько подавленным, что не испытываю к жизни ничего, кроме отвращения. Сегодня душный, невыносимый, почти убийственный день. Время тянется медленно, и мои страдания растут с каждой минутой и становятся все тяжелее и ужаснее. Мне кажется, что в моих жилах течет какая-то ядовитая и безжизненная жидкость. Какие это страдания – нравственные или физические? Я не знаю. Я сижу равнодушный и неподвижный под гнетом тяжести, которая давит, но не убивает меня». В третьем письме он писал: «Я наконец получил твое письмо сегодня в четыре часа, как раз, когда пришел в полное отчаяние. Я много раз перечитывал его, стараясь в нем найти то, чего ты не могла выразить словами, тайну своей души, что-то более живое и нежное, чем слова, написанные на безжизненной бумаге. Я страшно стремлюсь к тебе, но напрасно ищу на бумаге следы твоего прикосновения, дыхания, взгляда. Я не знаю, что бы я дал, чтобы иметь по крайней мере иллюзию твоего присутствия. Пришли мне цветок, который ты долго целовала, или нарисуй круг, к которому ты долго прижималась губами, одним словом, сделай, чтобы я насладился в воображении лаской, присланной мне тобой издалека… Издалека! Издалека! Сколько времени я уже не целую и не обнимаю тебя и ты не бледнеешь в моих объятиях? Год? Или целый век? Где ты теперь? За далекими морями! Я провожу время, ничего не делая, и только думаю. Моя комната стала мрачной, как подземная часовня. Иногда я вижу себя лежащим в гробу, я гляжу на себя, мертвенно-неподвижного. И после этого видения я успокаиваюсь». Подобные крики и стоны вылетали из писем, лежавших на столе, покрытом рукодельной салфеткой, а тут же рядом дымились простые чашечки с невинным напитком.
– Помнишь? – сказала Ипполита. – Это было, когда я в первый раз уехала из Рима всего на две недели.
Джиорджио углубился в воспоминания о своих безумных волнениях, старался восстановить их в своей памяти и понять их. Но окружающая мирная обстановка не благоприятствовала внутренним усилиям, которые он делал. Чувство уютности и спокойствия теснило его ум, подобно мягкой повязке. Теплый чай, мягкий свет, запах фиалок.
«Неужели я так далек теперь от прежних волнений? – думал он. – Здесь видны только мои отчаянные страдания и пылкая страсть. Но где же мои нежные чувства? Где же мое сложное и возвышенное печальное настроение и глубокие огорчения, в которых душа терялась, как в лабиринте». Он с сожалением убеждался в том, что в его письмах не хватает наиболее возвышенных проявлений его души, которые он всегда лелеял с большой заботливостью. Углубляясь понемногу в чтение, он пропускал тирады чистого красноречия и искал в письмах указания на мелкие факты, подробности разных событий и памятные происшествия.
В одном письме он нашел: «Около десяти часов я явился машинально в укромный уголок в саду Мортео, где я столько раз видел тебя по вечерам. Последние тридцать пять минут перед твоим отъездом показались мне страшно тягостными. Ты уезжала, и я не мог видеть тебя, покрыть твое лицо поцелуями и повторить тебе последний раз: „Помни, помни!“ Около одиннадцати часов я инстинктивно обернулся. Твой муж входил в сад со знакомой дамой и с приятелем. Они, очевидно, возвращались с вокзала, проводив тебя. Болезненные судороги свели мое тело; я был вынужден встать и уйти. Присутствие этих троих людей, болтавших и смеявшихся, как будто ничего не случилось, приводило меня в полное отчаяние. Они подтверждали мне своим присутствием, что ты действительно уехала».
Он вспомнил, как в летние вечера Ипполита сидела за столом с мужем, капитаном пехоты и маленькой неуклюжей дамой. Он не знал никого из этих трех лиц, но каждый их жест, манера держать себя и вся их вульгарная внешность раздражали его! Он представлял себе их идиотские речи, к которым изящное сострадание, казалось, прислушивалось с постоянным вниманием.
– Вот письмо из Венеции…
Они стали читать вместе; оба дрожали. «Я в Венеции с 9-го числа, plus trist que jamais. Венеция душит меня. Мои прежние мечты не могут сравняться по красоте с мечтами, которые теперь поднимаются из моря. Я умираю от грусти и стремления к тебе. Почему тебя нет здесь? О, если бы ты приехала, как собиралась! Может быть, нам удалось бы вырваться на один час из-под бдительного надзора, и среди наших многочисленных воспоминаний это было бы самое божественное…» На другой странице стояло: «Странная мысль мелькает иногда у меня в голове и глубоко волнует меня; это безумная мысль, мечта. Мне приходит в голову, что ты могла бы внезапно приехать в Венецию одна и быть моей, исключительно моей!» И далее: «Красота Венеции представляется в моих глазах естественным фоном для твоей красоты. Твой богатый и теплый румянец, состоящий из бледного янтаря, матового золота и начавшей отцветать розы, лучше всех цветов гармонирует с венецианским воздухом. Я не знаю, как выглядела Катерина Корнаро, королева Кипра, но почему-то мне думается, что она была похожа на тебя. Вчера я проезжал по Канале Гранде мимо великолепного дворца королевы Кипра. Поэтическое чувство охватило меня. Не жила ли ты когда-нибудь в этом королевском дворце и не смотрела ли с балкона, как солнечные лучи играют в воде? Прощай, Ипполита, у меня нет мраморного дворца на Канале Гранде, достойного твоего царствования, и ты не вольна в своей судьбе». Далее он писал: «Здесь пользуется большим почетом Паоло Веронезе. Одна картина его напомнила мне на днях наше паломничество в Римини, в церковь Сан-Джулиано. Мы были страшно печальны тогда. По выходе из церкви мы пошли в поле по берегу реки, направляясь в сторону далекой группы высоких деревьев. Помнишь, это был последний раз, что мы виделись и разговаривали. Последний раз! А что, если ты внезапно приедешь в Венецию из Виньолы?»
– Да, это было постоянное утонченное искушение, которому я не могла противостоять, – сказала Ипполита.
– Ты не можешь себе представить моих мучений. Я не спала по ночам, придумывая способ уехать одна, не возбудив подозрений в душе моих хозяев. Это было чудо ловкости с моей стороны; я не помню теперь, как я действовала… Когда я осталась с тобой наедине в гондоле на Канале Гранде на заре сентябрьского утра, я не верила, что это правда. Помнишь, как я разрыдалась и не могла произнести ни слова.
– Но я ожидал тебя. Я был твердо убежден в том, что ты приедешь ко мне во что бы то ни стало.
– Это была первая неосторожность.
– Это правда.
– Что же из этого? Разве так не лучше? Разве не лучше, что я теперь принадлежу исключительно тебе? Я не раскаиваюсь ни в чем.
– Вечер холодный, но приятный. Вставай, мой друг! Сегодня годовщина, и мы должны быть веселыми.
При звуке ее нежного и сильного голоса он отогнал от себя гадкие мысли и, выйдя на свежий воздух, скоро успокоился.
Ясный вечер спустился на насыщенную влагой местность. В прозрачном воздухе блестели последние лучи света. Звезды одна за другой зажигались на небе, как бы на невидимых висячих канделябрах, парящих в воздухе.
– Мы должны быть счастливыми! – Джиорджио повторял про себя слова подруги, и его сердце наполнялось несбыточными мечтами. Тихая комната, зажженный камин и белая постель показались ему слишком ничтожными элементами счастья в эту тихую и торжественную ночь.
– Сегодня годовщина. Мы должны быть счастливыми. – Что он делал и думал два года тому назад в это время? Он бесцельно бродил по улицам, инстинктивно стремясь достигнуть чего-то возвышенного и тем не менее направляя шаги в людные места, где его гордость и счастье казались ему возвышенными перед контрастом обыденной жизни. А городской шум, окружавший его, долетал до его слуха, точно издалека.
5
От старой гостиницы Людовика Тоньи веяло чуть не монастырской тишиной. Длинный вход был отделан под мрамор, и стены на лестничных площадках были покрыты многочисленными досками с надписями. Каждая вещь носила отпечаток старины. Старомодные формы кроватей, стульев, кресел, диванов, комодов совершенно вышли из употребления. В середине потолков на светло-желтом или голубом фоне красовались гирлянды роз и разные символические изображения – лиры, факелы, колчаны. Цветы на коврах и бумажных обоях побледнели и почти исчезли. Скромные, белые тюлевые занавески у окон висели на потерявших позолоту карнизах. Старинные картины в выцветших рамках, отражавшиеся в зеркалах в стиле рококо, имели мрачный и унылый вид.
– Как мне здесь нравится! – говорила Ипполита, поддаваясь тишине окружавшей обстановки. Она уселась в большое мягкое кресло и прислонилась головой к спинке, на которую была наброшена скромная, белая вязаная салфеточка в виде полумесяца. – Мне даже не хочется двигаться с места.
Она вспомнила свою тетю Джиованну и далекое детство.
Я помню, что у бедной тети был дом, похожий на этот, где мебель веками стояла на одном месте. Я никогда не забуду ее отчаяния, когда я сломала ей стеклянный колпак, знаешь, над искусственными цветами… Я помню, как плакала бедная старушка, и, как сейчас, вижу ее в черной кружевной наколке с белыми локонами на висках…
Она говорила тихим голосом и часто останавливалась, глядя на пылающий огонь и улыбаясь Джиорджио. Под ее усталыми глазами вырисовывались черные круги. С улицы долетал до них ровный непрерывный стук мостивших улицу рабочих.
– В доме был большой чердак с двумя или тремя окошечками, населенный голубями. Туда взбирались по маленькой крутой лестнице. На стенах чердака висели сухие заячьи шкурки с шерстью, натянутые на палках. Я ежедневно ходила кормить голубей. Заслыша мои шаги, они слетались к двери, а когда я входила, они осаждали меня. Я садилась на пол и разбрасывала им принесенный ячмень. Голуби окружали меня; все были белые. Я глядела, как они клюют ячмень. Из соседнего дома слышались звуки флейты – все одна и та же мелодия в один и тот же час. Эта музыка казалась мне очаровательной. Я слушала с открытым ртом, подняв голову в сторону окна, и упивалась звуками. Иногда в окошечко влетал запоздавший голубь, задевая крыльями за мою голову и оставляя у меня в волосах два-три пера. А невидимая флейта играла и играла… Эта мелодия до сих пор не выходит у меня из головы; я могла бы даже пропеть ее. В это время, среди голубей, у меня зародилась страсть к музыке…
Она говорила тихим голосом и часто останавливалась, глядя расширенными глазами на разгоревшийся огонь: казалось, что он притягивал и начинал гипнотизировать ее. А с улицы доносился ровный и однообразный стук мостивших улицу рабочих.
6
Однажды они возвратились немного усталые с прогулки на озеро Неми. Они позавтракали в вилле Чезарини под тенью роскошных цветущих камелий и с чувством людей, разглядывающих что-то в высшей степени таинственное, полюбовались зеркалом Дианы, холодным и непроницаемым для взгляда, подобно голубому льду.
Придя домой, они по обыкновению заказали чай. Ипполита, рывшаяся в своем чемодане, вдруг обернулась в сторону Джиорджио, показывая ему перевязанный ленточкой пакетик.
– Погляди-ка! Твои письма… Я всегда вожу их с собой. Джиорджио воскликнул с видимым удовольствием:
– Все? Ты все сохраняешь?
– Да, все. Тут и записки, и телеграммы. Не достает только одной записки, которую я бросила в огонь, чтобы она не попала в руки моего мужа. Но я храню обгоревшие кусочки; некоторые слова можно разобрать.
– Покажи мне! – попросил Джиорджио.
Она ревнивым жестом спрятала пакет и, видя, что Джиорджио с улыбкой подходит к ней, убежала в соседнюю комнату.
– Нет, нет, ничего не увидишь; я не хочу.
Она противилась, отчасти шутя, отчасти потому, что ревниво оберегала эти письма, подобно тайному сокровищу, с гордостью и со страхом, и не хотела, чтобы их видел даже тот, кто написал их.
– Пожалуйста, покажи их мне! Мне очень любопытно перечитать письма, написанные два года тому назад. Что я писал тебе?
– Огненные вещи.
– Пожалуйста, покажи.
Она, наконец, согласилась, уступая настойчивым ласкам друга.
– Так подождем, пока подадут чай, и тогда перечитаем их вместе. Не хочешь ли затопить камин?
– Нет, сегодня ведь почти жаркий день.
День был ясный, и серебристый свет разливался в неподвижном воздухе. Дневной свет становился мягче, проникая в комнату через тюлевые занавеси. Свежие фиалки, набранные в вилле Чезарани, наполняли всю комнату своим благоуханием.
– Вот и Панкрацио, – сказала Ипполита, услышав стук в дверь.
Добрый слуга Панкрацио вошел с неизменной улыбкой на губах, поставил поднос на стол, обещал на вечерний обед ранние плоды и вышел из комнаты быстрыми прыгающими шажками.
Ипполита налила чай в чашки; они задымились, подобно кадилам. Затем она развязала пакет; письма лежали в порядке, разделенные на мелкие связки.
– Какое множество! – воскликнул Джиорджио.
– Не так уж много. Здесь двести девяносто четыре письма, а два года состоят из семисот тридцати дней.
Оба улыбнулись и, усевшись рядом за стол, начали чтение. Перед этими документами своей любви Джиорджио почувствовал какое-то странное, нежное и в то же время сильное волнение. Первые письма привели его ум в замешательство. Душевное состояние, проглядывавшее в этих письмах, показалось ему сначала непонятным. Некоторые возвышенные лирические фразы поразили его, а пыл юношеской страсти буквально ошеломил его в окружавшей мирной обстановке тихой и скромной гостиницы. Одно письмо гласило: «Сколько раз мое сердце стремилось к тебе сегодня ночью! Тяжелое тревожное чувство мучила меня даже в краткие промежутки сна, и я открывал глаза, чтобы отогнать призраки, поднимавшиеся из самой глубины моей души. Одна только мысль не покидает и постоянно терзает меня; это мысль о том, что ты можешь уехать далеко. Возможность этого никогда еще так не ужасала меня и не причиняла мне таких безумных страданий, как теперь. В настоящий момент я имею твердую, ясную и очевидную уверенность, что без тебя жизнь для меня невозможна. Когда тебя нет, дневной свет меркнет в моих глазах и земля кажется мне бездонной могилой – я вижу смерть». В другом письме, написанном вскоре после отъезда Ипполиты, стояло: «Я делаю страшные усилия, чтобы держать перо. Силы совершенно оставили меня; я стал безволен и чувствую себя настолько подавленным, что не испытываю к жизни ничего, кроме отвращения. Сегодня душный, невыносимый, почти убийственный день. Время тянется медленно, и мои страдания растут с каждой минутой и становятся все тяжелее и ужаснее. Мне кажется, что в моих жилах течет какая-то ядовитая и безжизненная жидкость. Какие это страдания – нравственные или физические? Я не знаю. Я сижу равнодушный и неподвижный под гнетом тяжести, которая давит, но не убивает меня». В третьем письме он писал: «Я наконец получил твое письмо сегодня в четыре часа, как раз, когда пришел в полное отчаяние. Я много раз перечитывал его, стараясь в нем найти то, чего ты не могла выразить словами, тайну своей души, что-то более живое и нежное, чем слова, написанные на безжизненной бумаге. Я страшно стремлюсь к тебе, но напрасно ищу на бумаге следы твоего прикосновения, дыхания, взгляда. Я не знаю, что бы я дал, чтобы иметь по крайней мере иллюзию твоего присутствия. Пришли мне цветок, который ты долго целовала, или нарисуй круг, к которому ты долго прижималась губами, одним словом, сделай, чтобы я насладился в воображении лаской, присланной мне тобой издалека… Издалека! Издалека! Сколько времени я уже не целую и не обнимаю тебя и ты не бледнеешь в моих объятиях? Год? Или целый век? Где ты теперь? За далекими морями! Я провожу время, ничего не делая, и только думаю. Моя комната стала мрачной, как подземная часовня. Иногда я вижу себя лежащим в гробу, я гляжу на себя, мертвенно-неподвижного. И после этого видения я успокаиваюсь». Подобные крики и стоны вылетали из писем, лежавших на столе, покрытом рукодельной салфеткой, а тут же рядом дымились простые чашечки с невинным напитком.
– Помнишь? – сказала Ипполита. – Это было, когда я в первый раз уехала из Рима всего на две недели.
Джиорджио углубился в воспоминания о своих безумных волнениях, старался восстановить их в своей памяти и понять их. Но окружающая мирная обстановка не благоприятствовала внутренним усилиям, которые он делал. Чувство уютности и спокойствия теснило его ум, подобно мягкой повязке. Теплый чай, мягкий свет, запах фиалок.
«Неужели я так далек теперь от прежних волнений? – думал он. – Здесь видны только мои отчаянные страдания и пылкая страсть. Но где же мои нежные чувства? Где же мое сложное и возвышенное печальное настроение и глубокие огорчения, в которых душа терялась, как в лабиринте». Он с сожалением убеждался в том, что в его письмах не хватает наиболее возвышенных проявлений его души, которые он всегда лелеял с большой заботливостью. Углубляясь понемногу в чтение, он пропускал тирады чистого красноречия и искал в письмах указания на мелкие факты, подробности разных событий и памятные происшествия.
В одном письме он нашел: «Около десяти часов я явился машинально в укромный уголок в саду Мортео, где я столько раз видел тебя по вечерам. Последние тридцать пять минут перед твоим отъездом показались мне страшно тягостными. Ты уезжала, и я не мог видеть тебя, покрыть твое лицо поцелуями и повторить тебе последний раз: „Помни, помни!“ Около одиннадцати часов я инстинктивно обернулся. Твой муж входил в сад со знакомой дамой и с приятелем. Они, очевидно, возвращались с вокзала, проводив тебя. Болезненные судороги свели мое тело; я был вынужден встать и уйти. Присутствие этих троих людей, болтавших и смеявшихся, как будто ничего не случилось, приводило меня в полное отчаяние. Они подтверждали мне своим присутствием, что ты действительно уехала».
Он вспомнил, как в летние вечера Ипполита сидела за столом с мужем, капитаном пехоты и маленькой неуклюжей дамой. Он не знал никого из этих трех лиц, но каждый их жест, манера держать себя и вся их вульгарная внешность раздражали его! Он представлял себе их идиотские речи, к которым изящное сострадание, казалось, прислушивалось с постоянным вниманием.
– Вот письмо из Венеции…
Они стали читать вместе; оба дрожали. «Я в Венеции с 9-го числа, plus trist que jamais. Венеция душит меня. Мои прежние мечты не могут сравняться по красоте с мечтами, которые теперь поднимаются из моря. Я умираю от грусти и стремления к тебе. Почему тебя нет здесь? О, если бы ты приехала, как собиралась! Может быть, нам удалось бы вырваться на один час из-под бдительного надзора, и среди наших многочисленных воспоминаний это было бы самое божественное…» На другой странице стояло: «Странная мысль мелькает иногда у меня в голове и глубоко волнует меня; это безумная мысль, мечта. Мне приходит в голову, что ты могла бы внезапно приехать в Венецию одна и быть моей, исключительно моей!» И далее: «Красота Венеции представляется в моих глазах естественным фоном для твоей красоты. Твой богатый и теплый румянец, состоящий из бледного янтаря, матового золота и начавшей отцветать розы, лучше всех цветов гармонирует с венецианским воздухом. Я не знаю, как выглядела Катерина Корнаро, королева Кипра, но почему-то мне думается, что она была похожа на тебя. Вчера я проезжал по Канале Гранде мимо великолепного дворца королевы Кипра. Поэтическое чувство охватило меня. Не жила ли ты когда-нибудь в этом королевском дворце и не смотрела ли с балкона, как солнечные лучи играют в воде? Прощай, Ипполита, у меня нет мраморного дворца на Канале Гранде, достойного твоего царствования, и ты не вольна в своей судьбе». Далее он писал: «Здесь пользуется большим почетом Паоло Веронезе. Одна картина его напомнила мне на днях наше паломничество в Римини, в церковь Сан-Джулиано. Мы были страшно печальны тогда. По выходе из церкви мы пошли в поле по берегу реки, направляясь в сторону далекой группы высоких деревьев. Помнишь, это был последний раз, что мы виделись и разговаривали. Последний раз! А что, если ты внезапно приедешь в Венецию из Виньолы?»
– Да, это было постоянное утонченное искушение, которому я не могла противостоять, – сказала Ипполита.
– Ты не можешь себе представить моих мучений. Я не спала по ночам, придумывая способ уехать одна, не возбудив подозрений в душе моих хозяев. Это было чудо ловкости с моей стороны; я не помню теперь, как я действовала… Когда я осталась с тобой наедине в гондоле на Канале Гранде на заре сентябрьского утра, я не верила, что это правда. Помнишь, как я разрыдалась и не могла произнести ни слова.
– Но я ожидал тебя. Я был твердо убежден в том, что ты приедешь ко мне во что бы то ни стало.
– Это была первая неосторожность.
– Это правда.
– Что же из этого? Разве так не лучше? Разве не лучше, что я теперь принадлежу исключительно тебе? Я не раскаиваюсь ни в чем.