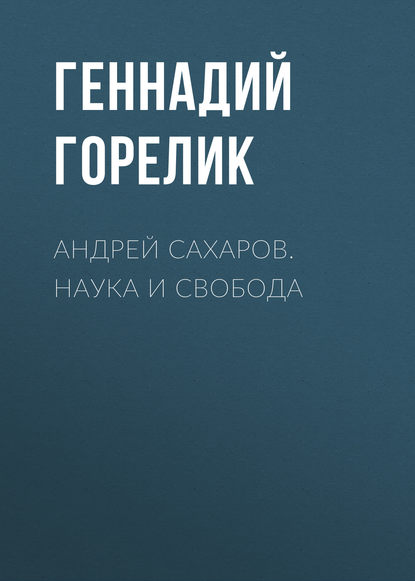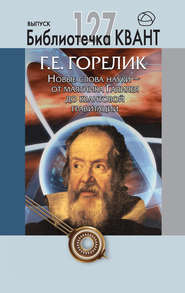По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Андрей Сахаров. Наука и Свобода
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Безо всякой симпатии относясь к большевизму, Вернадский, однако, увидел, что в стране разбужена мощная социальная энергия, и существенную ее часть власть направляет на развитие науки. А для Вернадского история человечества – прежде всего история науки и техники. Это было основой его сотрудничества с властью, но не туманило его взгляд на реальность. Свои социальные наблюдения Вернадский не боялся заносить в дневник с точностью естествоиспытателя. Его свидетельства о жестокой эпохе и о наступлении ядерной эры мы еще услышим – и еще вернемся к его взгляду на историю.
Наследники Лебедева в Москве
С тех пор, как по воле Петра Великого возникла новая столица России, взаимоотношение двух столиц было важным элементом культурной жизни страны. В Петербурге рядом с учреждениями государственной власти располагалась Императорская Академия наук, в которой доминировали петербуржцы и гуманитарии. Для москвича и физика Петра Лебедева места в Академии не нашлось, что не мешало московской физике заметно опережать петербургскую по научным достижениям.
Положение изменилось после ухода Лебедева из Московского университета. По свидетельству тогдашнего студента, а впоследствии президента Академии наук Сергея Вавилова: «Московский университет на долгие годы, до революции, остался без своей коренной профессуры. Вместо выдающихся ученых были приглашены случайные люди. Научная жизнь университета за эти годы замерла и захирела»[18 - Вавилов С. И. Тридцать лет советской науки. М.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 17.].
Вместе с Лебедевым университет покинули и его ученики. Ближайший ученик Петр Лазарев за год до того сообщил в очередном письме-отчете о делах в лаборатории: «Недавно заявился новый аспирант Сахаров; он очень хорошо выполнил работу [в мастерской]. Я его узнал еще ранее, в начале этого года, когда он слушал мой курс, и разговоры с ним показали, что он и читал порядочно, и соображает хорошо. Мне кажется, что было бы поэтому хорошо его пристроить с осени у нас, тем более, что тема о диффузии еще никому не дана, и для процессов в нервах она очень важна»[19 - Научная переписка Лебедева. М., Наука, 1990. с. 319. Слово «аспирант» здесь имеет не нынешнее значение (для которого тогда употреблялось длинное: «оставленный для подготовки к профессорскому званию»), а «кандидат» (в группу Лебедева).].
Речь идет об отце Андрея Сахарова. Дмитрий Иванович начал учебу в университете с медицинского факультета, перейдя через год на физико-математический. Это могло дополнительно расположить к нему Лазарева, медика по первому своему образованию. Лазарев занимался биофизикой, но не только поэтому не мог заменить Лебедева – тот превосходил всех своих учеников и научной широтой, и яркостью таланта, и силой личности. Однако после безвременной смерти учителя Лазареву все-таки пришлось занять его место: в 1916 году он стал директором только что построенного Физического института, а в 1917-м его избрали академиком – решающий голос в его поддержку, можно сказать, подал из могилы Лебедев.
Институт создавался на средства частного фонда, однако советская власть отменила частную собственность, и в новом государстве надо было искать новое место. Лазарев нашел такое место под крышей Наркомата здравоохранения, где он стал заведовать рентгеновским отделом. В названии института появились слова «биологическая физика», и в 1922 году там прошел рентгеновское обследование сам Ленин.
Институт помог своим сотрудникам пережить трудное послереволюционное время, однако из его стен не выходили научные результаты, сопоставимые с работами Лебедева или ленинградских физиков. Лазарев умел находить задачи народно-хозяйственного звучания, но ему не хватало глубины и научного запала, чтобы создать первоклассный институт.
А как же Московский университет, откуда Лазарев ушел вместе с Лебедевым в 1911 году? После революции Лазарев туда не вернулся, но не потому, что не хотел преподавать. В университет его не пускал другой ученик Лебедева – Аркадий Тимирязев, захватив фактическое руководство физическим факультетом. Сын выдающегося биолога был заурядным физиком с незаурядными амбициями. Как и его отец, он безоговорочно поддержал советскую власть. Скорее из-за отцовского имени, чем за собственные заслуги, его в 1921 году приняли в Партию специальным решением ЦК, после чего его ввели в редколлегию журнала «Под знаменем марксизма», где он успел заслужить похвалу Ленина[20 - Ленин В. И. О значении воинствующего материализма // «Под Знаменем Марксизма» № 3, март 1922.].
Однако Тимирязеву-младшему не хватало признания власти – он стремился к в научной славе. Претендуя на роль главного ученика Лебедева, в историю советской физики он вошел прежде всего как борец с теорией относительности. Как такое могло случиться с учеником Лебедева?
Аркадий Тимирязев окончил университет в 1904 году, за год до рождения теории относительности. Освоить ее самостоятельно не сумел, и… вступил в действие закон истории науки, открытый Максом Планком, основоположником квантовой физики: новые идеи входят в науку не потому, что их противники признают свою неправоту; просто противники эти постепенно вымирают, а подрастающее поколение усваивает новые понятия с самого начала.
Представители «вымирающего поколения» ведут себя, однако, по-разному в зависимости от способностей, темперамента и… этических устоев. Одни (к ним относился и Планк) молча переживают внутреннюю драму, мучаясь тем, что их научные идеалы обнаружили свою ограниченность. Другие, не в силах отказаться от привычных идей, стараются разубедить своих коллег. Третьи, самые творчески сильные, осмысливая «старую» физику и критически анализируя «новую», делают первую еще более классической и проясняют вторую; пример – Эйнштейн в последние десятилетия его жизни.
Однако приверженность образу мысли, приобретенному в юности, может проявиться и совсем иначе. Обнаружив, что научных аргументов не хватает, и не в силах признать свой отрыв от переднего края науки, ученые мужи иногда расширяют свой арсенал, беря на вооружение вненаучные ресурсы современного им общества. В нацистской Германии нашлись физики, которые отвергали теорию относительности как неарийскую, как проявление «азиатского духа». А в советской России физик Тимирязев отвергал теорию относительности как нематериалистическую, как порождение буржуазного Запада.
В студенческие годы Аркадий Тимирязев освоил молекулярную физику газов. Ее он и преподавал представителям подрастающего поколения, именуя торжественно «кинетической теорией материи», чтобы укрепить их материализм.[21 - Тимирязев А. К. Кинетическая теория материи. Учпедгиз, М., 1939.] Его «добротные, но скучноватые лекции» слушал и Сахаров, вспоминавший: «Тимирязев был поразительно похож на своего отца и тем самым на его памятник, установленный у Никитских ворот. Мы, студенты, за глаза звали Тимирязева «сын памятника»».
Непочтительные юнцы не подозревали, насколько точным было это прозвище. Их профессор был подкидышем – и только «по Высочайшему повелению Самодержца Всероссийского, нисходя на всеподданнейшее прошение Ординарного Профессора, Статского Советника Климента Аркадьевича Тимирязева» в 1888 году было дозволено восьмилетнему «воспитаннику его Аркадию принять фамилию его воспитателя, отчество по его имени и пользоваться правами Личного Дворянства»[22 - Центральный исторический архив Москвы 418-314-827, л. 3.].
Так что выдающийся биолог не отвечал за своего приемного сына биологически. А совершил ли он педагогические ошибки, вряд ли можно узнать. То ли он «мало порол» своего воспитанника, помня несчастные обстоятельства его появления на свет, то ли слишком его опекал, пристраивая в хорошие – лебедевские – руки и не соразмеряя это с природными задатками приемыша. Масштаб личности отца мог раздуть амбиции сына – неважно, приемного или родного, но не слишком одаренного.
А как же «поразительное» сходство, о котором пишет Сахаров? Когда смотришь на фотографии обоих Тимирязевых, единственное видимое сходство – профессорская бородка. Борода не выделяла старшего Тимирязева на фоне профессоров его поколения, а младшего выделяла весьма, напоминая о памятнике недалеко от университета.
Амбиции Тимирязева-сына требовали большего, чем преподавание теории газов. Прежде всего удержать в своих руках наследство Лебедева – физический факультет Московского университета. Отсутствие научного авторитета А. Тимирязев возмещал маневрами. Только в 1930 году его лишили административной власти.
Вскоре после этого арестовали академика Лазарева. Через несколько недель он признал себя виновным в том, что «информировал иностранцев по ряду вопросов, связанных с наукой», в частности, – «о предполагаемых конференциях». В итоге, обвиненного в шпионаже Лазарева сослали на три года в Свердловск, где впрочем, дали ему возможность преподавать. В феврале следующего года приговор отменили, и Лазарев вернулся в Москву[23 - Савина Г. А. Написано в подвалах ОГПУ (Публикация: П. П. Лазарев. Мое политическое кредо) // Вестник РАН 1995, т. 65, № 5, с. 452–460. Архив КГБ. Дело № Р 30067. ЛЛ. 7. 50, 88.].
Этому аресту объяснения пока нет. Результат ли это интриг высокопартийного не-академика А. Тимирязева против беспартийного академика Лазарева, в отместку за свое административное низвержение, или всего лишь совпадение во времени? Общая репутация А. Тимирязева такому предположению не противоречит. Архивы сохранили его доносы на других потенциальных врагов советской власти. И, можно думать, не только звуковое остроумие Маяковского стояло за его ответом «Тимерзяев» на просьбу М. Булгакова придумать «профессорскую» фамилию для сатирического персонажа.
Так или иначе, в лазаревском институте разместили некий «Физико-химический институт спецзаданий», директор которого был в родстве с главой НКВД. Совершенно неизвестно, для каких спецзаданий больше трех лет служило здание, спроектированное для П. Н. Лебедева. Физика и историческая справедливость вернулись туда в 1934 году, когда по решению правительства Академия наук переехала из Ленинграда в Москву. В августе в здание вселился Физический институт Академии наук, родившийся незадолго до того в Ленинграде; в декабре ему было присвоено имя П. Н. Лебедева. В миру институт этот более всего известен сокращенным названием – ФИАН.
Но как же этот, во многих смыслах московский, институт родился в Ленинграде?
Отец и отчим ФИАНа: Георгий Гамов и Сергей Вавилов
Ленинград был научной столицей страны до 1934 года, пока там оставалась – с царских времен, – Академия наук. Столицу советского государства правительство переместило в Москву еще в 1918 году, но Академию оставили на старом месте. Не сразу поняли, как управиться с этим заведением, привыкшим к изрядной автономии. Только к началу 1930-х годов правительство установило контроль над Академией, опираясь и на ученых, искренне сочувствующих социализму, и на беспартийных карьеристов. При этом действовали и кнутом, и пряником – арестами и средствами на развитие науки.
Российская физика жила вне Академии наук с ее хилым Физико-математическим институтом, или ФМИ,[24 - Вавилов С. И. Физический кабинет – Физическая лаборатория – Физический институт АН СССР // УФН 1946. Т. 28. С. 1–50.] когда осенью 1931 года там появился новый сотрудник – Георгий Гамов. Он вернулся в Ленинград после трехлетнего пребывания в мировых столицах физики. Вернулся с мировой славой, объяснив альфа-распад – то был самый первый успех теоретической ядерной физики. А начало отечественной славы Гамова положил пролетарский поэт Демьян Бедный, сообщивший о его успехе в главной советской газете:
До атомов добрались
СССР зовут страной убийц и хамов.
Недаром. Вот пример: советский парень Гамов,
– Чего хотите вы от этаких людей?! –
Уже до атомов добрался, лиходей!
Мильоны атомов на острие иголки!
А он – ведь до чего механика хитра! –
В отдельном атоме добрался до ядра!
Раз! Раз! И от ядра осталися осколки!
Советский тип – (Сигнал для всех Европ!) –
Кощунственно решил загадку из загадок!
Ведь это что ж? прямой подкоп
Под установленный порядок?
Подкоп иль не подкоп, а, правду говоря,
В науке пахнет тож кануном Октября.
Этому шедевру предпослан эпиграф, взятый из газетной новости:
«Командированный полгода назад в Копенгаген для работы в институте одного из крупнейших физиков современности – Нильса Бора, 24-летний аспирант ленинградского университета Г. А. Гамов сделал открытие, произведшее огромное впечатление в международной физике. Молодой ученый разрешил проблему атомного ядра. Известно значение атомного ядра, как области, где сокрыты гигантские запасы энергии и возможности искусственного превращения элементов. Каждый новый шаг в раскрытии его строения представляет, следовательно, совершенно исключительный научный интерес»[25 - Демьян Бедный, «До атомов добрались» // «Правда», 25 ноября 1928. Бедный Д. Полн. собр. соч. Т. 14. Л., 1930. С. 52.].
Газетчик изложил суть работы Гамова ненамного точнее, чем поэт. Но то был действительно огромный успех – объяснение радиоактивности на основе только что созданной квантовой механики.
Проведя три года в «лучших домах» европейской физики, в СССР Гамов обнаружил острую нехватку научных кадров. Его приняли на работу сразу в три учреждения: Физико-математический институт Академии наук, Радиевый институт и Ленинградский университет. Согласно заполненной им анкете, немецким, английским и датским языками он владел свободно, а по-древнеегипетски читал и переводил со словарем. Без Европы за плечами он вряд ли позволил бы себе такую вольность в обращении с отделом кадров.
С собой он привез приглашение на первый Международный конгресс по ядерной физике в Риме осенью 1931 года. В повестке Конгресса значилось: «Гамов (СССР). Квантовая теория строения ядра», и он не видел причин, которые помешали бы ему сделать один из центральных докладов. Но за три года его отсутствия на родине произошли большие перемены. Началось ударное строительство сталинского социализма, централизация охватывала все новые сферы общественной жизни, включая и науку. Совершенно неожиданно для Гамова его поездка, обещавшая стать триумфом, застряла в бюрократических закоулках. И это было не единственное приглашение, которым Гамову не дали воспользоваться: приглашал Бор на конференцию в свой институт, приглашали Институт Пуанкаре в Париже и Мичиганский университет…
Научная жизнь, конечно, не сводится к международным конференциям. Теоретику для работы важнее повседневный круг общения. Особенно близко, еще со студенческих лет, Гамов общался с молодыми теоретиками из Физико-технического института – Львом Ландау и Матвеем Бронштейном. В ходу были их студенческие прозвища – Джони, Дау и Аббат, – и название их компании – «Джаз-банд». Уже самостоятельные исследователи, не нуждающиеся в научном руководстве, они хотели заниматься физикой на мировом уровне. Творческое свободолюбие плюс молодость (старшему из них – Гамову – было двадцать семь) толкали к действиям, от которых старшее поколение чувствовало себя неуютно.
Одна из импровизаций «Джаз-банда» и привела к рождению ФИАНа. Впрочем, Гамов и его друзья имели в виду другое – они хотели создать небольшой Институт теоретической физики. Это почти не требовало затрат – теоретику для работы достаточно бумаги и карандаша. Были и стены, в которых институт мог поселиться. В конце 1931 года Гамов подал докладную записку с предложением разделить Физико-математический институт Академии наук на два – Математический и Физический, «придавши Физическому институту роль всесоюзного теоретического центра, потребность какового резко ощущается в последнее время». Первой задачей будущего института Гамов назвал разработку «вопросов теоретической физики и смежных дисциплин (астро- и геофизики) на основе диалектико-материалистической методологии…»[26 - Архив РАН 2-1/1932-6, л. 52.] Последние слова написаны поверх зачеркнутых «в согласии с современным материалистическим мировоззрением» – Гамову, видно, объяснили, что он отстал от политической терминологии текущего момента.
События развивались энергично и на высшем академическом уровне. Директор Физико-математического института, академик А. Н. Крылов, поддержал идею Гамова. Нашлись, однако, и противники: камнем преткновения стало то, что для Гамова и его товарищей было краеугольным камнем – сосредоточить институт на теоретической физике.
В ходе централизации советской науки росло влияние руководителей. Хотя в 30-е годы это были в основном подлинные ученые, преданные науке, непомерное их влияние действовало порой негативно. Крупнейшими физическими институтами тогда руководили академики-экспериментаторы Иоффе и Рождественский, но эксперимент с Институтом теоретической физики у обоих не вызывал никакого сочувствия. Их многое различало, но не взгляды на соотношение теории и эксперимента.
Не помогло даже то, что в разгар баталий Гамова избрали в Академию наук. Чтобы ощутить напор «Джаз-банда» на академических «зубров», прочтем письмо, которое в ноябре 1931 года Ландау написал Петру Капице[27 - П. Л. Капица, член-корреспондент Советской и Британского Королевского общества, работал тогда в Англии. Письмо Ландау от 25. 11. 1931 из архива П. Л. Капицы любезно предоставил П. Е. Рубинин.]:
«Дорогой Петр Леонидович,
Необходимо избрать Джони Гамова академиком. Ведь он бесспорно лучший теоретик СССР. По этому поводу Абрау (не Дюрсо, а Иоффе) из легкой зависти старается оказывать противодействие. Нужно обуздать распоясавшегося старикана, возомнившего о себе бог знает что. Будьте такой добренький, пришлите письмо на имя непременного секретаря Академии наук, где как член-корреспондент Академии восхвалите Джони; лучше пришлите его на мой адрес, чтобы я мог одновременно опубликовать таковое в «Правде» или «Известиях» вместе с письмами Бора и других».
Больше, однако, помог другой отечественный «старикан», директор Радиевого института В. И. Вернадский, рекомендовавший Гамова в Академию.[28 - Архив ГРИ 315-2-90, л. 6.] И 29 февраля 1932 года его избрали в членкоры.
За день до того общее собрание Академии постановило разделить ФМИ на два самостоятельных института – Институт математики и Институт физики. Гамов набросал план нового института, согласно которому: «Ин-т теор. физики является центральным учреждением, занимающимся разработкой основных проблем современной теоретической физики на основе материалистического мировоззрения».
План направили на отзыв академикам-физикам. Иоффе решительно возражал против создания института теоретической физики вместо «в основном экспериментального института, связанного четкими взаимоотношениями с Физико-техническим институтом как безусловно ведущим институтом Союза». Рождественский также считал, что «устройство в СССР специально теоретического института вредно, так как теоретики должны работать в больших физических институтах (Физико-технический, Оптический) рядом с многочисленными экспериментаторами, способствуя их работе и получая от них стимулы к своим изысканиям…»
Поворотным стало совещание 29 апреля, на котором Рождественский «предлагает просить Президиум созвать пленарное совещание в количестве 7 академиков-физиков в ближайшее время до лета и высказывает предположение, что академик Вавилов тоже заинтересован вопросом о Физическом ин-те в связи с возможным его избранием директором ин-та…. Увеличение штата теоретиков нецелесообразно, надо главным образом, усилить экспериментальную часть».
Ландау попытался спасти дело, возразив, что «теоретическая физика в организуемом институте должна играть большую роль и не являться чем-то придаточным…. Это важно тем более, что она играет большую роль и для экспериментальной физики, примером чего может служить разработка вопроса о тонкослойной изоляции, которая проводилась без учета теоретических данных, в результате чего потрачено много средств, не давших никакого результата».
Наследники Лебедева в Москве
С тех пор, как по воле Петра Великого возникла новая столица России, взаимоотношение двух столиц было важным элементом культурной жизни страны. В Петербурге рядом с учреждениями государственной власти располагалась Императорская Академия наук, в которой доминировали петербуржцы и гуманитарии. Для москвича и физика Петра Лебедева места в Академии не нашлось, что не мешало московской физике заметно опережать петербургскую по научным достижениям.
Положение изменилось после ухода Лебедева из Московского университета. По свидетельству тогдашнего студента, а впоследствии президента Академии наук Сергея Вавилова: «Московский университет на долгие годы, до революции, остался без своей коренной профессуры. Вместо выдающихся ученых были приглашены случайные люди. Научная жизнь университета за эти годы замерла и захирела»[18 - Вавилов С. И. Тридцать лет советской науки. М.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 17.].
Вместе с Лебедевым университет покинули и его ученики. Ближайший ученик Петр Лазарев за год до того сообщил в очередном письме-отчете о делах в лаборатории: «Недавно заявился новый аспирант Сахаров; он очень хорошо выполнил работу [в мастерской]. Я его узнал еще ранее, в начале этого года, когда он слушал мой курс, и разговоры с ним показали, что он и читал порядочно, и соображает хорошо. Мне кажется, что было бы поэтому хорошо его пристроить с осени у нас, тем более, что тема о диффузии еще никому не дана, и для процессов в нервах она очень важна»[19 - Научная переписка Лебедева. М., Наука, 1990. с. 319. Слово «аспирант» здесь имеет не нынешнее значение (для которого тогда употреблялось длинное: «оставленный для подготовки к профессорскому званию»), а «кандидат» (в группу Лебедева).].
Речь идет об отце Андрея Сахарова. Дмитрий Иванович начал учебу в университете с медицинского факультета, перейдя через год на физико-математический. Это могло дополнительно расположить к нему Лазарева, медика по первому своему образованию. Лазарев занимался биофизикой, но не только поэтому не мог заменить Лебедева – тот превосходил всех своих учеников и научной широтой, и яркостью таланта, и силой личности. Однако после безвременной смерти учителя Лазареву все-таки пришлось занять его место: в 1916 году он стал директором только что построенного Физического института, а в 1917-м его избрали академиком – решающий голос в его поддержку, можно сказать, подал из могилы Лебедев.
Институт создавался на средства частного фонда, однако советская власть отменила частную собственность, и в новом государстве надо было искать новое место. Лазарев нашел такое место под крышей Наркомата здравоохранения, где он стал заведовать рентгеновским отделом. В названии института появились слова «биологическая физика», и в 1922 году там прошел рентгеновское обследование сам Ленин.
Институт помог своим сотрудникам пережить трудное послереволюционное время, однако из его стен не выходили научные результаты, сопоставимые с работами Лебедева или ленинградских физиков. Лазарев умел находить задачи народно-хозяйственного звучания, но ему не хватало глубины и научного запала, чтобы создать первоклассный институт.
А как же Московский университет, откуда Лазарев ушел вместе с Лебедевым в 1911 году? После революции Лазарев туда не вернулся, но не потому, что не хотел преподавать. В университет его не пускал другой ученик Лебедева – Аркадий Тимирязев, захватив фактическое руководство физическим факультетом. Сын выдающегося биолога был заурядным физиком с незаурядными амбициями. Как и его отец, он безоговорочно поддержал советскую власть. Скорее из-за отцовского имени, чем за собственные заслуги, его в 1921 году приняли в Партию специальным решением ЦК, после чего его ввели в редколлегию журнала «Под знаменем марксизма», где он успел заслужить похвалу Ленина[20 - Ленин В. И. О значении воинствующего материализма // «Под Знаменем Марксизма» № 3, март 1922.].
Однако Тимирязеву-младшему не хватало признания власти – он стремился к в научной славе. Претендуя на роль главного ученика Лебедева, в историю советской физики он вошел прежде всего как борец с теорией относительности. Как такое могло случиться с учеником Лебедева?
Аркадий Тимирязев окончил университет в 1904 году, за год до рождения теории относительности. Освоить ее самостоятельно не сумел, и… вступил в действие закон истории науки, открытый Максом Планком, основоположником квантовой физики: новые идеи входят в науку не потому, что их противники признают свою неправоту; просто противники эти постепенно вымирают, а подрастающее поколение усваивает новые понятия с самого начала.
Представители «вымирающего поколения» ведут себя, однако, по-разному в зависимости от способностей, темперамента и… этических устоев. Одни (к ним относился и Планк) молча переживают внутреннюю драму, мучаясь тем, что их научные идеалы обнаружили свою ограниченность. Другие, не в силах отказаться от привычных идей, стараются разубедить своих коллег. Третьи, самые творчески сильные, осмысливая «старую» физику и критически анализируя «новую», делают первую еще более классической и проясняют вторую; пример – Эйнштейн в последние десятилетия его жизни.
Однако приверженность образу мысли, приобретенному в юности, может проявиться и совсем иначе. Обнаружив, что научных аргументов не хватает, и не в силах признать свой отрыв от переднего края науки, ученые мужи иногда расширяют свой арсенал, беря на вооружение вненаучные ресурсы современного им общества. В нацистской Германии нашлись физики, которые отвергали теорию относительности как неарийскую, как проявление «азиатского духа». А в советской России физик Тимирязев отвергал теорию относительности как нематериалистическую, как порождение буржуазного Запада.
В студенческие годы Аркадий Тимирязев освоил молекулярную физику газов. Ее он и преподавал представителям подрастающего поколения, именуя торжественно «кинетической теорией материи», чтобы укрепить их материализм.[21 - Тимирязев А. К. Кинетическая теория материи. Учпедгиз, М., 1939.] Его «добротные, но скучноватые лекции» слушал и Сахаров, вспоминавший: «Тимирязев был поразительно похож на своего отца и тем самым на его памятник, установленный у Никитских ворот. Мы, студенты, за глаза звали Тимирязева «сын памятника»».
Непочтительные юнцы не подозревали, насколько точным было это прозвище. Их профессор был подкидышем – и только «по Высочайшему повелению Самодержца Всероссийского, нисходя на всеподданнейшее прошение Ординарного Профессора, Статского Советника Климента Аркадьевича Тимирязева» в 1888 году было дозволено восьмилетнему «воспитаннику его Аркадию принять фамилию его воспитателя, отчество по его имени и пользоваться правами Личного Дворянства»[22 - Центральный исторический архив Москвы 418-314-827, л. 3.].
Так что выдающийся биолог не отвечал за своего приемного сына биологически. А совершил ли он педагогические ошибки, вряд ли можно узнать. То ли он «мало порол» своего воспитанника, помня несчастные обстоятельства его появления на свет, то ли слишком его опекал, пристраивая в хорошие – лебедевские – руки и не соразмеряя это с природными задатками приемыша. Масштаб личности отца мог раздуть амбиции сына – неважно, приемного или родного, но не слишком одаренного.
А как же «поразительное» сходство, о котором пишет Сахаров? Когда смотришь на фотографии обоих Тимирязевых, единственное видимое сходство – профессорская бородка. Борода не выделяла старшего Тимирязева на фоне профессоров его поколения, а младшего выделяла весьма, напоминая о памятнике недалеко от университета.
Амбиции Тимирязева-сына требовали большего, чем преподавание теории газов. Прежде всего удержать в своих руках наследство Лебедева – физический факультет Московского университета. Отсутствие научного авторитета А. Тимирязев возмещал маневрами. Только в 1930 году его лишили административной власти.
Вскоре после этого арестовали академика Лазарева. Через несколько недель он признал себя виновным в том, что «информировал иностранцев по ряду вопросов, связанных с наукой», в частности, – «о предполагаемых конференциях». В итоге, обвиненного в шпионаже Лазарева сослали на три года в Свердловск, где впрочем, дали ему возможность преподавать. В феврале следующего года приговор отменили, и Лазарев вернулся в Москву[23 - Савина Г. А. Написано в подвалах ОГПУ (Публикация: П. П. Лазарев. Мое политическое кредо) // Вестник РАН 1995, т. 65, № 5, с. 452–460. Архив КГБ. Дело № Р 30067. ЛЛ. 7. 50, 88.].
Этому аресту объяснения пока нет. Результат ли это интриг высокопартийного не-академика А. Тимирязева против беспартийного академика Лазарева, в отместку за свое административное низвержение, или всего лишь совпадение во времени? Общая репутация А. Тимирязева такому предположению не противоречит. Архивы сохранили его доносы на других потенциальных врагов советской власти. И, можно думать, не только звуковое остроумие Маяковского стояло за его ответом «Тимерзяев» на просьбу М. Булгакова придумать «профессорскую» фамилию для сатирического персонажа.
Так или иначе, в лазаревском институте разместили некий «Физико-химический институт спецзаданий», директор которого был в родстве с главой НКВД. Совершенно неизвестно, для каких спецзаданий больше трех лет служило здание, спроектированное для П. Н. Лебедева. Физика и историческая справедливость вернулись туда в 1934 году, когда по решению правительства Академия наук переехала из Ленинграда в Москву. В августе в здание вселился Физический институт Академии наук, родившийся незадолго до того в Ленинграде; в декабре ему было присвоено имя П. Н. Лебедева. В миру институт этот более всего известен сокращенным названием – ФИАН.
Но как же этот, во многих смыслах московский, институт родился в Ленинграде?
Отец и отчим ФИАНа: Георгий Гамов и Сергей Вавилов
Ленинград был научной столицей страны до 1934 года, пока там оставалась – с царских времен, – Академия наук. Столицу советского государства правительство переместило в Москву еще в 1918 году, но Академию оставили на старом месте. Не сразу поняли, как управиться с этим заведением, привыкшим к изрядной автономии. Только к началу 1930-х годов правительство установило контроль над Академией, опираясь и на ученых, искренне сочувствующих социализму, и на беспартийных карьеристов. При этом действовали и кнутом, и пряником – арестами и средствами на развитие науки.
Российская физика жила вне Академии наук с ее хилым Физико-математическим институтом, или ФМИ,[24 - Вавилов С. И. Физический кабинет – Физическая лаборатория – Физический институт АН СССР // УФН 1946. Т. 28. С. 1–50.] когда осенью 1931 года там появился новый сотрудник – Георгий Гамов. Он вернулся в Ленинград после трехлетнего пребывания в мировых столицах физики. Вернулся с мировой славой, объяснив альфа-распад – то был самый первый успех теоретической ядерной физики. А начало отечественной славы Гамова положил пролетарский поэт Демьян Бедный, сообщивший о его успехе в главной советской газете:
До атомов добрались
СССР зовут страной убийц и хамов.
Недаром. Вот пример: советский парень Гамов,
– Чего хотите вы от этаких людей?! –
Уже до атомов добрался, лиходей!
Мильоны атомов на острие иголки!
А он – ведь до чего механика хитра! –
В отдельном атоме добрался до ядра!
Раз! Раз! И от ядра осталися осколки!
Советский тип – (Сигнал для всех Европ!) –
Кощунственно решил загадку из загадок!
Ведь это что ж? прямой подкоп
Под установленный порядок?
Подкоп иль не подкоп, а, правду говоря,
В науке пахнет тож кануном Октября.
Этому шедевру предпослан эпиграф, взятый из газетной новости:
«Командированный полгода назад в Копенгаген для работы в институте одного из крупнейших физиков современности – Нильса Бора, 24-летний аспирант ленинградского университета Г. А. Гамов сделал открытие, произведшее огромное впечатление в международной физике. Молодой ученый разрешил проблему атомного ядра. Известно значение атомного ядра, как области, где сокрыты гигантские запасы энергии и возможности искусственного превращения элементов. Каждый новый шаг в раскрытии его строения представляет, следовательно, совершенно исключительный научный интерес»[25 - Демьян Бедный, «До атомов добрались» // «Правда», 25 ноября 1928. Бедный Д. Полн. собр. соч. Т. 14. Л., 1930. С. 52.].
Газетчик изложил суть работы Гамова ненамного точнее, чем поэт. Но то был действительно огромный успех – объяснение радиоактивности на основе только что созданной квантовой механики.
Проведя три года в «лучших домах» европейской физики, в СССР Гамов обнаружил острую нехватку научных кадров. Его приняли на работу сразу в три учреждения: Физико-математический институт Академии наук, Радиевый институт и Ленинградский университет. Согласно заполненной им анкете, немецким, английским и датским языками он владел свободно, а по-древнеегипетски читал и переводил со словарем. Без Европы за плечами он вряд ли позволил бы себе такую вольность в обращении с отделом кадров.
С собой он привез приглашение на первый Международный конгресс по ядерной физике в Риме осенью 1931 года. В повестке Конгресса значилось: «Гамов (СССР). Квантовая теория строения ядра», и он не видел причин, которые помешали бы ему сделать один из центральных докладов. Но за три года его отсутствия на родине произошли большие перемены. Началось ударное строительство сталинского социализма, централизация охватывала все новые сферы общественной жизни, включая и науку. Совершенно неожиданно для Гамова его поездка, обещавшая стать триумфом, застряла в бюрократических закоулках. И это было не единственное приглашение, которым Гамову не дали воспользоваться: приглашал Бор на конференцию в свой институт, приглашали Институт Пуанкаре в Париже и Мичиганский университет…
Научная жизнь, конечно, не сводится к международным конференциям. Теоретику для работы важнее повседневный круг общения. Особенно близко, еще со студенческих лет, Гамов общался с молодыми теоретиками из Физико-технического института – Львом Ландау и Матвеем Бронштейном. В ходу были их студенческие прозвища – Джони, Дау и Аббат, – и название их компании – «Джаз-банд». Уже самостоятельные исследователи, не нуждающиеся в научном руководстве, они хотели заниматься физикой на мировом уровне. Творческое свободолюбие плюс молодость (старшему из них – Гамову – было двадцать семь) толкали к действиям, от которых старшее поколение чувствовало себя неуютно.
Одна из импровизаций «Джаз-банда» и привела к рождению ФИАНа. Впрочем, Гамов и его друзья имели в виду другое – они хотели создать небольшой Институт теоретической физики. Это почти не требовало затрат – теоретику для работы достаточно бумаги и карандаша. Были и стены, в которых институт мог поселиться. В конце 1931 года Гамов подал докладную записку с предложением разделить Физико-математический институт Академии наук на два – Математический и Физический, «придавши Физическому институту роль всесоюзного теоретического центра, потребность какового резко ощущается в последнее время». Первой задачей будущего института Гамов назвал разработку «вопросов теоретической физики и смежных дисциплин (астро- и геофизики) на основе диалектико-материалистической методологии…»[26 - Архив РАН 2-1/1932-6, л. 52.] Последние слова написаны поверх зачеркнутых «в согласии с современным материалистическим мировоззрением» – Гамову, видно, объяснили, что он отстал от политической терминологии текущего момента.
События развивались энергично и на высшем академическом уровне. Директор Физико-математического института, академик А. Н. Крылов, поддержал идею Гамова. Нашлись, однако, и противники: камнем преткновения стало то, что для Гамова и его товарищей было краеугольным камнем – сосредоточить институт на теоретической физике.
В ходе централизации советской науки росло влияние руководителей. Хотя в 30-е годы это были в основном подлинные ученые, преданные науке, непомерное их влияние действовало порой негативно. Крупнейшими физическими институтами тогда руководили академики-экспериментаторы Иоффе и Рождественский, но эксперимент с Институтом теоретической физики у обоих не вызывал никакого сочувствия. Их многое различало, но не взгляды на соотношение теории и эксперимента.
Не помогло даже то, что в разгар баталий Гамова избрали в Академию наук. Чтобы ощутить напор «Джаз-банда» на академических «зубров», прочтем письмо, которое в ноябре 1931 года Ландау написал Петру Капице[27 - П. Л. Капица, член-корреспондент Советской и Британского Королевского общества, работал тогда в Англии. Письмо Ландау от 25. 11. 1931 из архива П. Л. Капицы любезно предоставил П. Е. Рубинин.]:
«Дорогой Петр Леонидович,
Необходимо избрать Джони Гамова академиком. Ведь он бесспорно лучший теоретик СССР. По этому поводу Абрау (не Дюрсо, а Иоффе) из легкой зависти старается оказывать противодействие. Нужно обуздать распоясавшегося старикана, возомнившего о себе бог знает что. Будьте такой добренький, пришлите письмо на имя непременного секретаря Академии наук, где как член-корреспондент Академии восхвалите Джони; лучше пришлите его на мой адрес, чтобы я мог одновременно опубликовать таковое в «Правде» или «Известиях» вместе с письмами Бора и других».
Больше, однако, помог другой отечественный «старикан», директор Радиевого института В. И. Вернадский, рекомендовавший Гамова в Академию.[28 - Архив ГРИ 315-2-90, л. 6.] И 29 февраля 1932 года его избрали в членкоры.
За день до того общее собрание Академии постановило разделить ФМИ на два самостоятельных института – Институт математики и Институт физики. Гамов набросал план нового института, согласно которому: «Ин-т теор. физики является центральным учреждением, занимающимся разработкой основных проблем современной теоретической физики на основе материалистического мировоззрения».
План направили на отзыв академикам-физикам. Иоффе решительно возражал против создания института теоретической физики вместо «в основном экспериментального института, связанного четкими взаимоотношениями с Физико-техническим институтом как безусловно ведущим институтом Союза». Рождественский также считал, что «устройство в СССР специально теоретического института вредно, так как теоретики должны работать в больших физических институтах (Физико-технический, Оптический) рядом с многочисленными экспериментаторами, способствуя их работе и получая от них стимулы к своим изысканиям…»
Поворотным стало совещание 29 апреля, на котором Рождественский «предлагает просить Президиум созвать пленарное совещание в количестве 7 академиков-физиков в ближайшее время до лета и высказывает предположение, что академик Вавилов тоже заинтересован вопросом о Физическом ин-те в связи с возможным его избранием директором ин-та…. Увеличение штата теоретиков нецелесообразно, надо главным образом, усилить экспериментальную часть».
Ландау попытался спасти дело, возразив, что «теоретическая физика в организуемом институте должна играть большую роль и не являться чем-то придаточным…. Это важно тем более, что она играет большую роль и для экспериментальной физики, примером чего может служить разработка вопроса о тонкослойной изоляции, которая проводилась без учета теоретических данных, в результате чего потрачено много средств, не давших никакого результата».