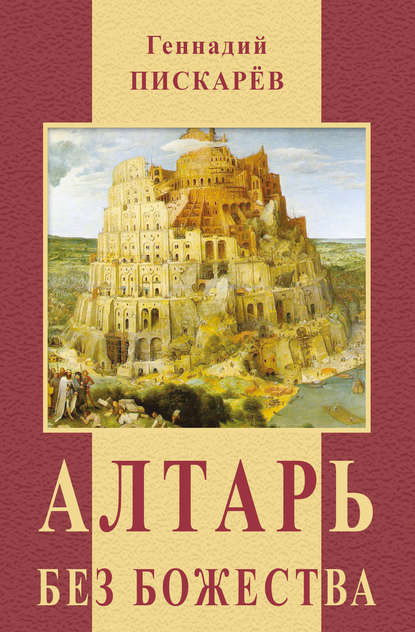По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Алтарь без божества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Неспешность Гены гневила редактора. В конце концов он не выдерживал и грохал кулаком по столу:
– Да ты пойдешь в командировку или нет!?
Видя, что ничего «не выгорит», Харлампиев понуро плелся к двери.
Гену в редакцию взяли за стихотворство, а так до этого, числился он разнорабочим на мебельной фабрике. Помню, обмывали его вхождение в творческий, богемный коллектив. Выпили, что было – не хватило. «Гена, беги». Магазин напротив редакции. По типу сельмага продается в нем одним продавцом все имеющиеся товары – от керосина, гвоздей, сигарет и спичек до хлеба, сахара и вина. Рядом с торговой точкой райком партии. И надо же было случиться: в то самое время, когда снарядили мы Гену за водкой, в лавку заглянул первый секретарь РК КПСС Виктор Степанович Анискевич: кончились у него папиросы. Люди, стоявшие в очереди, кто за чем, почтительно расступились, что возмутило нашего нетерпеливого работягу-гонца, болтавшегося в конце и не знавшего, увы, в лицо главного районного начальника. Гена поднял, что называется, «хай». Анискевич оторопел:
– Я штучный товар беру: папиросы, – как-то обескуражено стал он оправдываться.
– Мне тоже штучный товар нужен – бутылка, – моментально дерзко парировал глашатай справедливости.
– Ну, что же, берите, а я потом, – Анискевич виновато попятился от прилавка.
Чем правдоруб Гена незамедлительно воспользовался, чуть ли не вырвав из рук у растерявшегося продавца злополучную поллитровку.
Только мы разлили ее, как у Кузькина зазвонил телефон. Звонил первый (он проследил, что было нетрудно, куда шмыгнул нахаленок):
– Михаил, это у тебя, что ли работает рыжий черт?
Да-а-а… Пассаж. Оргпоследствий, тем не менее, из всего этого не последовало. «Отец Виктор» – так звали в народе первого секретаря Виктора Анискевича (между прочим жил в Медыни еще один «Отец Виктор» – тезка партбосса – настоятель местного храма), знал натуру людей, с коими вместе шел в светлое будущее, знал, и палки в работе с ними не перегибал. На этом уровне партия и народ были в ту пору едины все-таки. Можно назвать сие как угодно – всепрощением, вседозволенностью, но…Начав свое повествование с размышлений о пристрастии советских людей к «горячительному», начав, как говорится за упокой, и продолжив будто бы за здравие – обязан заметить, что пили наши люди на том этапе развития своего, в отличие от нынешних времен, не от отчаяния, не от жестоких проявлений постоянно преследующей всех и вся катастрофы, а от избытка жизненной энергии, внутренней уверенности: живется не плохо, а вскоре станет – лучше. То было наше время и кругом находились в основном наши люди.
Затем, когда грянула черным громом беда – катастройка, люди, помня, как налаживали они гармонию в душе посредством потребления хмельного, попытались тем же самым образом вернуть ее, убегающую теперь, назад. Но на дворе стояло другое время, плескались другие напитки, галдели другие люди – выпивка не грела душу. Несмотря на все увеличиваемые дозы, она сушила сердца, ожесточала их, убивала тело. Началось национальное бедствие, всеобщее помутнение разума, добровольное сумасшествие.
Пытаясь восстановить в памяти происшедшее в жизни за последние двадцать пять лет, ловлю себя на мысли: они все перемешались в кишащем «броуновском» движении, беспрестанном кровавом кроссе, слились в жуткое темное пятно, нечто вроде малевичевского черного квадрата.
«Тайна – творение знака, а знак реальный вид тайны, в котором постигается таинство нового…. Служитель (нового – Г.П.)… образует возле и кругом себя пустыню, многие боясь пустыни, бегут еще дальше в глушь сутолоки!» Это, между прочим, слова самого Малевича, неплохо, кстати, характеризующие устремления «квадратного» художника-демократа, востребованного нынешними передельщиками в качестве разрушителя жизни, артиллерийского залпа, заставляющего обстреливаемых людей вжаться в землю своего окопа и сидеть там, скрючившись, не поднимая головы.
И странно, но прямо-таки безобидными выглядят сейчас почему-то события давних лет, те же проделки, творимые нами, когда бывали «навеселе», когда, не боясь ни райкома, ни райисполкома, писали в той же газете, что на душе лежало. И встают перед глазами те годы стройной, четкой и ясной чередой, не свиваясь в червивый, грязный комок теперешних дней.
…Иван Иванович Сорокин, директор совхоза «Мятлевский» – ярый в районе антикукурузник. Совещание в райсельхозуправлении. Реплика из зала: «Иван Иванович кок-сагыз у себя сеять готов, лишь бы не кукурузу». Хохот неимоверный.
Надо сказать, что совхоз «Мятлевский» специализируется на выращивании овощей: томатов, огурцов. К концу лета, в начале осени жители Медыни, в том числе и местные начальники, норовят про запас, на засолку прикупить по низким ценам у Ивана Ивановича классные огурчики, кабачки, патиссоны. Пытаются они через некоторое время после злополучного совещания осуществить овощные закупки и ныне. Но Сорокин суров: «Нету у меня овощей. Кок-сагыз только».
Святые наивные души…. Виктор Леонов, главный агроном одного из хозяйств, организатор в районе первых безнарядных звеньев. Беру у него интервью, которое ставим в номер спустя после встречи с агрономом через несколько дней. Но, чтобы подчеркнуть столь любимую нами, газетчиками, оперативность, предваряем беседу словами: «Вчера вечером наш корреспондент встретился с Виктором Леоновым». Наутро газету несут в киоски, подписчикам, но в первую очередь в РК КПСС. Там местную прессу штудируют – будь здоров, в чем, на сей раз, мы очень заинтересованы: прочтут материал о безнарядке, разумеется, отреагируют, отметят творческий коллектив. И «реакция» грянула.
– Где это встретился вчера вечером ваш корреспондент с Леоновым? В вытрезвителе, что ли? – гремел гневно в трубке редактора, лишь только появился он у себя в кабинете, голос первого секретаря.
Вот те на! Прославляемый нами новатор вчера, как выяснилось, лихо погулял в райцентре, попался в руки милицейскому патрулю. Понятно, о выходках уважаемого, но непотребно пьяного товарища доложили куда следует. Мы на свою беду о злоключениях агронома знать не знали. Выдали оду ему в печатном органе и насмешили народ, прогневив высокое начальство.
…Николай Стариков, столяр с мебельной фабрики порезал фрезой пальцы на левой руке. Левая – не правая, решили лекари из фабричной медсанчасти и бюллетень пострадавшему не дали. Стариков, молодой горячий парень – к нам в газету. Мы тоже, молодые и горячие, быстренько выдаем «на гора» фельетон о бездушии эскулапов, отказавших в больничном листе пострадавшему труженику. Сатирическую направленность выступления усиливаем саркастическим эпиграфом, который звучит внутренним монологом незадачливых медиков:
Хороша штучка,
Болит ручка.
Есть, пить можно –
Работать – нет.
Медицина повержена. Мы – на коне. Автору любовь и признание простого народа.
Через несколько дней после этого, шагая вальяжно до хаты довольно поздно, наскочил я на толпу медынских ухарей-ребят. Им чего-то не понравился мой трезвый вид и приличный прикид. По всем признакам бузотерам очень хотелось почесать об меня свои руки. Наверное, это произошло бы, не раздайся вдруг зычный голос:
– О-О-О! Никак сам корреспондент, что Кольку Старикова защитил, нам повстречался.
Даже в вечерней мгле было видно, как обомлели, расплылись в улыбках подгулявшие парни, разом превратились из кичливых забияк в милых добродушных ребят. Ватагой весело, дружно проводили меня до самого крыльца дома, где доводилось снимать мне угол.
Ох, чего только не случалось тогда. Гена Харлампиев, укоренившись в редакции, мечтает вступить в партию, зазывает редактора в гости к себе, угощает. Жена Гены Юля, крупная, полная женщина хлопочет около стола. Кузькин в поэтическом настроении декламирует вдохновенно:
Сижу ли я, брожу ли я –
Все Юлия да Юлия.
Гена считает пора о деле начинать разговор. Но Гаврилыч, помня об инциденте молодого сотрудника с первым секретарем, неподкупно прерывает желание Гены: «Только через мой труп».
А через день, надо же случиться, в редакцию, проезжая из Юхнова в Москву, заскочил столичный поэт Левашов. Понятно, накрыли мы стол, взяли для публикации стихи у москвича. Тот в ответ, подобревший и разомлевший, в свою очередь попросил почитать ему наши произведения. Кое-какие из них взял с собой. В том числе стихотворение Харлампиева о Медыни, в котором рефреном, как песенный припев, звучала строка: «Мед, Медынь, Медынка, медоносы».
Не помню, через месяц или два после заезда к нам Левашова, слушаем мы по Всесоюзному радио концерт, транслируемый из московского Колонного зала Дома Союзов. Объявление ведущего: «Песня о Медыни. Слова Геннадия Харлампиева, исполняет Владимир Трошин!»
Немая сцена в гоголевском «Ревизоре» – ничто по сравнению с тем, что отпечаталось после сего объявления в нашем творческом коллективе. Гром среди ясного неба поразил, думается, всех медынцев, что слушали данный концерт.
«Песня о Медыни», записанная на пленку корреспондентами районного радиовещания, стала впоследствии лирическим гимном города, она предваряла все местные радиопередачи. А Кузькин, припертый к стенке безвыходностью обстоятельств, вынужден был сказать сокрушенно:
– Придется, видимо, брать Геннадия в нашу партию.
Интересные же встречи с интересными людьми продолжали иметь место и в дальнейшем. В один прекрасный вечер, после подписания номера в печать, сидим мы в кабинете редактора, толкуем о том, о сем. Глядь: под окнами тормозит белая «Волга». С обкомовскими номерами! Представительный, средних лет мужчина, с дипломатом в руках выскакивает с переднего сиденья, направляется в сторону редакции. И вот он на нашем пороге:
– Николай, – называет свое имя вошедший. Представляется по чину: – Помощник министра культуры СССР. – Поясняет: – Будучи в облцентре по делам, вспомнил, извините, поэта Алешкина, что был у меня перед командировкой. Заскочи, посоветовал он, в Медынь, к Кузькину, не пожалеешь. Видите, заскочил.
– М-да, – Кузькин делает кивок головой в мою сторону. Вскакиваю с места и – к двери. Николай, вероятно, понял, куда поспешил я, останавливает:
– Я прихватил тут кое-что, – открывает дипломат, в котором квакают пара бутылок сухого.
– Несерьезно, – кривится Михаил Гаврилович. Я убегаю и скоренько возвращаюсь с водкой и колбасой.
Чокнулись, выпили, перешли на ты. Прямо, отцы русской демократии. Заговорили легко и свободно, словно старые «дружбаны». Решили выехать на природу, к озеру.
Шумели прибрежные ивы, березы, тихо плескалась зеленая вода у разутых ног, солнце клонилось к западу, рассыпаясь розовыми блестками на ласковых волнах.
Мы читали стихи, в промежутках провозглашая пышные тосты друг за друга. Женщина, пасшая недалеко корову, заслушалась, не вытерпела, подошла к нам:
– Ребята, как вы хорошо говорите-то. Не чета мужикам нашим. Напьются – мат-перемат.
Окрыленные народным признанием и любовью, поднимаем заздравную чашу в очередной раз. Но для Николая, не привыкшего, похоже, к возлияниям в таком количестве, чаша сия становится роковой. Он обмякает.
В гостиницу из машины заносим его на руках. Благо служители двора постоялого хорошо нам знакомы, укладываем высокого гостя без хлопот в кровать.
Рано-рано утром, до начала работы, Кузькин примчался ко мне. Распоряжается:
– Дуй за Колей, опохмелить надо.
Бегу. Встретившаяся дежурная умеряет мой пыл сообщением:
– Да ты пойдешь в командировку или нет!?
Видя, что ничего «не выгорит», Харлампиев понуро плелся к двери.
Гену в редакцию взяли за стихотворство, а так до этого, числился он разнорабочим на мебельной фабрике. Помню, обмывали его вхождение в творческий, богемный коллектив. Выпили, что было – не хватило. «Гена, беги». Магазин напротив редакции. По типу сельмага продается в нем одним продавцом все имеющиеся товары – от керосина, гвоздей, сигарет и спичек до хлеба, сахара и вина. Рядом с торговой точкой райком партии. И надо же было случиться: в то самое время, когда снарядили мы Гену за водкой, в лавку заглянул первый секретарь РК КПСС Виктор Степанович Анискевич: кончились у него папиросы. Люди, стоявшие в очереди, кто за чем, почтительно расступились, что возмутило нашего нетерпеливого работягу-гонца, болтавшегося в конце и не знавшего, увы, в лицо главного районного начальника. Гена поднял, что называется, «хай». Анискевич оторопел:
– Я штучный товар беру: папиросы, – как-то обескуражено стал он оправдываться.
– Мне тоже штучный товар нужен – бутылка, – моментально дерзко парировал глашатай справедливости.
– Ну, что же, берите, а я потом, – Анискевич виновато попятился от прилавка.
Чем правдоруб Гена незамедлительно воспользовался, чуть ли не вырвав из рук у растерявшегося продавца злополучную поллитровку.
Только мы разлили ее, как у Кузькина зазвонил телефон. Звонил первый (он проследил, что было нетрудно, куда шмыгнул нахаленок):
– Михаил, это у тебя, что ли работает рыжий черт?
Да-а-а… Пассаж. Оргпоследствий, тем не менее, из всего этого не последовало. «Отец Виктор» – так звали в народе первого секретаря Виктора Анискевича (между прочим жил в Медыни еще один «Отец Виктор» – тезка партбосса – настоятель местного храма), знал натуру людей, с коими вместе шел в светлое будущее, знал, и палки в работе с ними не перегибал. На этом уровне партия и народ были в ту пору едины все-таки. Можно назвать сие как угодно – всепрощением, вседозволенностью, но…Начав свое повествование с размышлений о пристрастии советских людей к «горячительному», начав, как говорится за упокой, и продолжив будто бы за здравие – обязан заметить, что пили наши люди на том этапе развития своего, в отличие от нынешних времен, не от отчаяния, не от жестоких проявлений постоянно преследующей всех и вся катастрофы, а от избытка жизненной энергии, внутренней уверенности: живется не плохо, а вскоре станет – лучше. То было наше время и кругом находились в основном наши люди.
Затем, когда грянула черным громом беда – катастройка, люди, помня, как налаживали они гармонию в душе посредством потребления хмельного, попытались тем же самым образом вернуть ее, убегающую теперь, назад. Но на дворе стояло другое время, плескались другие напитки, галдели другие люди – выпивка не грела душу. Несмотря на все увеличиваемые дозы, она сушила сердца, ожесточала их, убивала тело. Началось национальное бедствие, всеобщее помутнение разума, добровольное сумасшествие.
Пытаясь восстановить в памяти происшедшее в жизни за последние двадцать пять лет, ловлю себя на мысли: они все перемешались в кишащем «броуновском» движении, беспрестанном кровавом кроссе, слились в жуткое темное пятно, нечто вроде малевичевского черного квадрата.
«Тайна – творение знака, а знак реальный вид тайны, в котором постигается таинство нового…. Служитель (нового – Г.П.)… образует возле и кругом себя пустыню, многие боясь пустыни, бегут еще дальше в глушь сутолоки!» Это, между прочим, слова самого Малевича, неплохо, кстати, характеризующие устремления «квадратного» художника-демократа, востребованного нынешними передельщиками в качестве разрушителя жизни, артиллерийского залпа, заставляющего обстреливаемых людей вжаться в землю своего окопа и сидеть там, скрючившись, не поднимая головы.
И странно, но прямо-таки безобидными выглядят сейчас почему-то события давних лет, те же проделки, творимые нами, когда бывали «навеселе», когда, не боясь ни райкома, ни райисполкома, писали в той же газете, что на душе лежало. И встают перед глазами те годы стройной, четкой и ясной чередой, не свиваясь в червивый, грязный комок теперешних дней.
…Иван Иванович Сорокин, директор совхоза «Мятлевский» – ярый в районе антикукурузник. Совещание в райсельхозуправлении. Реплика из зала: «Иван Иванович кок-сагыз у себя сеять готов, лишь бы не кукурузу». Хохот неимоверный.
Надо сказать, что совхоз «Мятлевский» специализируется на выращивании овощей: томатов, огурцов. К концу лета, в начале осени жители Медыни, в том числе и местные начальники, норовят про запас, на засолку прикупить по низким ценам у Ивана Ивановича классные огурчики, кабачки, патиссоны. Пытаются они через некоторое время после злополучного совещания осуществить овощные закупки и ныне. Но Сорокин суров: «Нету у меня овощей. Кок-сагыз только».
Святые наивные души…. Виктор Леонов, главный агроном одного из хозяйств, организатор в районе первых безнарядных звеньев. Беру у него интервью, которое ставим в номер спустя после встречи с агрономом через несколько дней. Но, чтобы подчеркнуть столь любимую нами, газетчиками, оперативность, предваряем беседу словами: «Вчера вечером наш корреспондент встретился с Виктором Леоновым». Наутро газету несут в киоски, подписчикам, но в первую очередь в РК КПСС. Там местную прессу штудируют – будь здоров, в чем, на сей раз, мы очень заинтересованы: прочтут материал о безнарядке, разумеется, отреагируют, отметят творческий коллектив. И «реакция» грянула.
– Где это встретился вчера вечером ваш корреспондент с Леоновым? В вытрезвителе, что ли? – гремел гневно в трубке редактора, лишь только появился он у себя в кабинете, голос первого секретаря.
Вот те на! Прославляемый нами новатор вчера, как выяснилось, лихо погулял в райцентре, попался в руки милицейскому патрулю. Понятно, о выходках уважаемого, но непотребно пьяного товарища доложили куда следует. Мы на свою беду о злоключениях агронома знать не знали. Выдали оду ему в печатном органе и насмешили народ, прогневив высокое начальство.
…Николай Стариков, столяр с мебельной фабрики порезал фрезой пальцы на левой руке. Левая – не правая, решили лекари из фабричной медсанчасти и бюллетень пострадавшему не дали. Стариков, молодой горячий парень – к нам в газету. Мы тоже, молодые и горячие, быстренько выдаем «на гора» фельетон о бездушии эскулапов, отказавших в больничном листе пострадавшему труженику. Сатирическую направленность выступления усиливаем саркастическим эпиграфом, который звучит внутренним монологом незадачливых медиков:
Хороша штучка,
Болит ручка.
Есть, пить можно –
Работать – нет.
Медицина повержена. Мы – на коне. Автору любовь и признание простого народа.
Через несколько дней после этого, шагая вальяжно до хаты довольно поздно, наскочил я на толпу медынских ухарей-ребят. Им чего-то не понравился мой трезвый вид и приличный прикид. По всем признакам бузотерам очень хотелось почесать об меня свои руки. Наверное, это произошло бы, не раздайся вдруг зычный голос:
– О-О-О! Никак сам корреспондент, что Кольку Старикова защитил, нам повстречался.
Даже в вечерней мгле было видно, как обомлели, расплылись в улыбках подгулявшие парни, разом превратились из кичливых забияк в милых добродушных ребят. Ватагой весело, дружно проводили меня до самого крыльца дома, где доводилось снимать мне угол.
Ох, чего только не случалось тогда. Гена Харлампиев, укоренившись в редакции, мечтает вступить в партию, зазывает редактора в гости к себе, угощает. Жена Гены Юля, крупная, полная женщина хлопочет около стола. Кузькин в поэтическом настроении декламирует вдохновенно:
Сижу ли я, брожу ли я –
Все Юлия да Юлия.
Гена считает пора о деле начинать разговор. Но Гаврилыч, помня об инциденте молодого сотрудника с первым секретарем, неподкупно прерывает желание Гены: «Только через мой труп».
А через день, надо же случиться, в редакцию, проезжая из Юхнова в Москву, заскочил столичный поэт Левашов. Понятно, накрыли мы стол, взяли для публикации стихи у москвича. Тот в ответ, подобревший и разомлевший, в свою очередь попросил почитать ему наши произведения. Кое-какие из них взял с собой. В том числе стихотворение Харлампиева о Медыни, в котором рефреном, как песенный припев, звучала строка: «Мед, Медынь, Медынка, медоносы».
Не помню, через месяц или два после заезда к нам Левашова, слушаем мы по Всесоюзному радио концерт, транслируемый из московского Колонного зала Дома Союзов. Объявление ведущего: «Песня о Медыни. Слова Геннадия Харлампиева, исполняет Владимир Трошин!»
Немая сцена в гоголевском «Ревизоре» – ничто по сравнению с тем, что отпечаталось после сего объявления в нашем творческом коллективе. Гром среди ясного неба поразил, думается, всех медынцев, что слушали данный концерт.
«Песня о Медыни», записанная на пленку корреспондентами районного радиовещания, стала впоследствии лирическим гимном города, она предваряла все местные радиопередачи. А Кузькин, припертый к стенке безвыходностью обстоятельств, вынужден был сказать сокрушенно:
– Придется, видимо, брать Геннадия в нашу партию.
Интересные же встречи с интересными людьми продолжали иметь место и в дальнейшем. В один прекрасный вечер, после подписания номера в печать, сидим мы в кабинете редактора, толкуем о том, о сем. Глядь: под окнами тормозит белая «Волга». С обкомовскими номерами! Представительный, средних лет мужчина, с дипломатом в руках выскакивает с переднего сиденья, направляется в сторону редакции. И вот он на нашем пороге:
– Николай, – называет свое имя вошедший. Представляется по чину: – Помощник министра культуры СССР. – Поясняет: – Будучи в облцентре по делам, вспомнил, извините, поэта Алешкина, что был у меня перед командировкой. Заскочи, посоветовал он, в Медынь, к Кузькину, не пожалеешь. Видите, заскочил.
– М-да, – Кузькин делает кивок головой в мою сторону. Вскакиваю с места и – к двери. Николай, вероятно, понял, куда поспешил я, останавливает:
– Я прихватил тут кое-что, – открывает дипломат, в котором квакают пара бутылок сухого.
– Несерьезно, – кривится Михаил Гаврилович. Я убегаю и скоренько возвращаюсь с водкой и колбасой.
Чокнулись, выпили, перешли на ты. Прямо, отцы русской демократии. Заговорили легко и свободно, словно старые «дружбаны». Решили выехать на природу, к озеру.
Шумели прибрежные ивы, березы, тихо плескалась зеленая вода у разутых ног, солнце клонилось к западу, рассыпаясь розовыми блестками на ласковых волнах.
Мы читали стихи, в промежутках провозглашая пышные тосты друг за друга. Женщина, пасшая недалеко корову, заслушалась, не вытерпела, подошла к нам:
– Ребята, как вы хорошо говорите-то. Не чета мужикам нашим. Напьются – мат-перемат.
Окрыленные народным признанием и любовью, поднимаем заздравную чашу в очередной раз. Но для Николая, не привыкшего, похоже, к возлияниям в таком количестве, чаша сия становится роковой. Он обмякает.
В гостиницу из машины заносим его на руках. Благо служители двора постоялого хорошо нам знакомы, укладываем высокого гостя без хлопот в кровать.
Рано-рано утром, до начала работы, Кузькин примчался ко мне. Распоряжается:
– Дуй за Колей, опохмелить надо.
Бегу. Встретившаяся дежурная умеряет мой пыл сообщением: