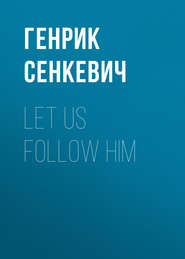По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Их рассказы подтвердили то, что было уже известно Хмельницкому о силах молодого Стефана Потоцкого; кроме того, он узнал, что предводителями казаков, плывших вместе с немецкой пехотой на байдаках, были старый Барабаш и Кшечовский.
Услышав последнюю фамилию, Хмельницкий вскочил с места.
– Кшечовский? Полковник реестровых переяславских казаков?!
– Он самый, ясновельможный гетман! – отвечали драгуны.
Хмельницкий обратился к окружающим его полковникам.
– Вперед! – скомандовал он громовым голосом.
Не прошло и часа, как войско двинулось в путь, хотя солнце уже заходило и ночь не обещала быть погожей. С запада шли какие-то страшные рыжие тучи, похожие на драконов, левиафанов, что надвигались друг на друга, словно готовясь вступить в борьбу.
Отряд направлялся в левую сторону, к берегу Днепра. Теперь он уже шел молча, без песен и звона литавр, и настолько быстро, насколько позволяла трава, которая была местами так высока, что в ней тонули целые полки, а разноцветные хоругви, казалось, сами плыли по степи. Огромная красная луна медленно выплыла на небо, но ее заслоняли каждую минуту тучи, и она гасла, как лампа, задуваемая ветром.
Было уже далеко за полночь, когда глазам казаков и татар предстала огромная черная масса, отчетливо вырисовывавшаяся на темном фоне неба.
Это были стены Кудака.
Разведчики, скрытые темнотой ночи, приближались к замку осторожно и тихо, точно волки или ночные птицы. А что, если можно будет неожиданно завладеть сонной крепостью?
Но вдруг на крепостном валу молния взрезала воздух и рассеяла темноту; страшный гул потряс днепровские скалы, и огромный шар, описав на небе яркую дугу, упал на степную траву.
Мрачный циклоп Гродзицкий дал знать, что он не спит.
– Пес одноглазый, – шепнул Хмельницкий Тугай-бею, – видит и ночью.
Казаки миновали замок, о взятии которого они не могли и думать в минуту, когда им навстречу шли коронные войска, и двинулись далее. Но пан Гродзицкий продолжал палить им вслед так, что крепостные стены тряслись; он не столько хотел причинить им вред (они шли на довольно значительном расстоянии), сколько предупредить войска, которые плыли Днепром и могли находиться уже недалеко.
Но прежде всего звук кудакских пушек отдался в сердце и ушах пана Скшетуского. Молодой рыцарь, которого, по приказанию Хмеля, везли при казацком отряде, на другой же день тяжело заболел. В битве под Хортицей он, правда, не получил ни одной смертельной раны, но зато потерял столько крови, что в нем еле теплилась жизнь. Раны его, перевязанные по-казацки старым старшиной, открылись вновь, у него началась лихорадка, и он в ту ночь лежал в полузабытьи в казацкой телеге, ничего не сознавая. Очнулся он только от грохота кудакских пушек. Открыл глаза, приподнялся на возу и стал озираться по сторонам. Казацкий табор крался в темноте, как хоровод теней, а замок гремел и озарялся розоватым дымом; огненные ядра скакали по степи, хрипя и ворча, как разъяренные псы; Скшетуским, при виде этого, овладело такое отчаяние, такая тоска, что он готов был умереть хоть сейчас, только бы душой быть со своими. Война, война! А он в отряде врагов, безоружный, больной, не может и подняться с телеги. Речь Посполитая в опасности, а он не летит спасать ее. А там, в Лубнах, войска, верно, уже выступают! Князь, сверкая глазами, носится перед рядами и, куда ни укажет булавою, туда сейчас же ударит триста копий, как триста громов. Перед глазами наместника стали вставать все знакомые лица: маленький Володыевский несется во главе драгун со своей тоненькой саблей в руках, но ведь он боец из бойцов, с кем он скрестит свою саблю, тот уж погиб наверняка; а там пан Подбипента поднимает свой чудовищный меч! Срубит ли он три головы или нет? Ксендз Яскульский крестит хоругви и молится, подняв руки к небу, – это бывший солдат, порой он не выдержит и крикнет: «Бей!» А вот панцирные несутся вперед, полки наезжают, гонят врагов; битва, смятение!
Вдруг видение меняется. Перед наместником стоит Елена, бледная, с распущенными волосами, и кричит: «Спасай меня, за мной гонится Богун!» Пан Скшетуский срывается с телеги, но вдруг чей-то голос, теперь уже наяву, говорит ему:
– Лежи смирно, детына, не то свяжу!
Это есаул Захар, которому Хмельницкий приказал беречь наместника как зеницу ока; он укладывает его опять в телегу, закрывает лошадиной шкурой и спрашивает:
– Що с тобой?
Скшетуский окончательно приходит в себя. Видения исчезают. Возы идут по самому берегу Днепра. С реки долетает холодный ветер, ночь бледнеет. Речные птицы поднимают свой утренний крик.
– Слушай, Захар! Мы уже миновали Кудак? – спрашивает Скшетуский.
– Миновали! – отвечает запорожец.
– А куда мы едем?
– Не знаю. Битва, каже, буде, але не знаю…
При этих словах радостно забилось сердце пана Скшетуского. Он думал, что Хмельницкий будет осаждать Кудак и с этого начнется война. Но поспешность, с какой казаки двигались вперед, давала возможность предполагать, что коронные войска уже близко и что Хмельницкий миновал крепость, чтобы избегнуть сражения под обстрелом ее пушек. «Может быть, еще сегодня я буду свободен», – подумал наместник, с благодарностью поднимая к небу глаза.
XIV
Грохот кудакских пушек слышали также и войска, плывшие на байдаках по воде, под предводительством старого Барбаша и Кшечовского.
Они состояли из шести тысяч реестровых казаков и одного полка отборной немецкой пехоты под начальством полковника Ганса Флика.
Пан Николай Потоцкий долго колебался, прежде чем отправить казаков против Хмельницкого, но так как Кшечовский имел на них огромное влияние, а Кшечовскому гетман безгранично доверял, то он велел казакам принести присягу и отправил их с Богом.
Кшечовский, опытный воин, прославившийся в прежних войнах, был обязан Потоцким и чином полковника, и шляхетством, которое они выхлопотали ему на сейме и, наконец, обширными имениями, лежавшими при слиянии Днестра и Лядавы, которые были в пожизненном его владении.
Его соединяли с Речью Посполитой и Потоцкими такие тесные узы, что даже тень подозрения не могла зародиться в душе гетмана. Притом это был человек в цвете лет (ему не было еше пятидесяти), а услуги, оказанные им стране, открывали перед ним блестящую будущность. Многие видели в нем преемника Стефана Хмельницкого, который начал свою службу простым степным казаком, а закончил ее воеводой киевским и сенатором Речи Посполитой. От Кшечовского зависело пойти этой дорогой, на которую его толкали и мужество, и дикая энергия, и необузданное честолюбие, одинаково жадное и к богатству, к почестям. Из-за этого честолюбия он всячески добивался литинского староства; а когда наконец староство получил вместо него Корибут, он глубоко затаил в сердце обиду и почти заболел от досады и зависти. Теперь судьба, казалось, снова улыбнулась ему; получив от великого гетмана такое важное назначение, он смело мог рассчитывать, что имя его будет известно королю. А это было очень важно, так как тогда ему стоило только поклониться королю, чтобы получить грамоту с дорогими шляхетскому сердцу словами: «Бил нам челом и просил… «щоб его подарыты», «а мы, памятуя его заслуги, даем ему», и т. д. Этим путем добивались на Руси богатства и почестей; этим же путем переходили в частные руки огромные пространства степи, принадлежавшей раньше Богу да Речи Посполитой; этим же путем простой холоп превращался в пана и льстил себя надеждой, что его потомки будут заседать в сенате.
Кшечовского грызло только то, что, исполняя волю Потоцкого, он должен был делить власть с Барабашем, хотя это разделение власти было фиктивным. В действительности старый черкасский полковник особенно за последнее время так постарел и осунулся, что жил на земле одним только телом, душа же и разум находились в состоянии постоянного оцепенения и угасания, которые обыкновенно предшествуют полной смерти. В начале похода он как бы очнулся и начал энергично распоряжаться, казалось, будто при звуках военных труб быстрее текла старая солдатская кровь – в свое время это был славный рыцарь и степной вождь, – но, как только они двинулись, его усыпили песни казаков и мягкое движение байдаков и он забыл обо всем на свете. Кшечовский всем распоряжался и заведовал сам; Барабаш просыпался только для еды; наевшись, он по привычке спрашивал о том о сем и, получив кое-какой ответ, вздыхал и говорил: «Ох, рад бы я лечь в могилу на другой войне, да уж, видно, воля Божья».
Между тем связь с коронным войском, шедшим под предводительством Стефана Потоцкого, была сразу порвана. Кшечовский ворчал, что гусары и драгуны идут слишком медленно, что у молодого гетманского сына нет военной опытности, но, несмотря на это, велел всем своим людям грести и подвигаться вперед.
Байдаки плыли вдоль берега Днепра к Кудаку, все больше удаляясь от коронных войск.
Наконец как-то ночью послышался грохот пушек.
Барабаш спал и не проснулся, зато Флик, который ехал впереди, пересел в челн и подгреб к Кшечовскому.
– Мосци-полковник, – сказал он, – это кудакские пушки! Что нам делать?
– Остановите байдаки… Проведем ночь в тростниках!
– Хмельницкий, видно, осаждает крепость. По моему мнению, надо бы отрезать его!
– Я не спрашиваю вашего мнения, а только приказываю. Командую я!
– Мосци-полковник!
– Стоять и ждать! – сказал Кшечовский.
Но, видя, что энергичный немец щиплет свою рыжую бороду и уступать без резона не думает, прибавил мягче:
– Может быть, завтра к утру подоспеет каштелян со своей конницей, а крепость за одну ночь не возьмут.
– А если не подойдет?
– Будем ждать хоть два дня. Вы не знаете Кудака: они поломают себе зубы о него, а без каштеляна я не пойду, да и права не имею. Это его дело.
Кшечовский был, по-видимому, прав, и Флик, не настаивая больше, вернулся к своим немцам.
Байдаки вскоре подошли к правому берегу и стали прятаться в тростник, на целые версты покрывавший широко разливавшуюся в этом месте реку. Наконец плеск весел утих, лодки совсем скрылись, и река, казалось, была совсем пуста. Кшечовский запретил разводить огонь, петь песни и разговаривать; кругом залегла глубокая тишина, прерываемая только далеким отголоском кудакских пушек.
Но на лодках никто, кроме Барабаша, не сомкнул глаз. Флик, как рыцарь, жаждущий битвы, птицей полетел бы под Кудак. Казаки тихо спрашивали друг у друга, что может случиться с крепостью? Выдержит она или нет? А между тем гул орудий все усиливался. Все были уверены, что замок отражает горячий штурм.