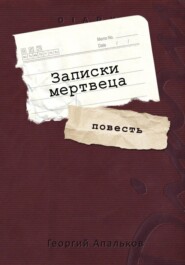По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Утренний приём пищи по форме номер «ноль»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хуи-новат!
Я был очень рад, что после своего пассажа он не удостоил меня испытующим взглядом. Иначе я был бы уничтожен.
Максимушин знакомился с ротой, пока я стоял на тумбе, а двое других дневальных шуршали мётлами и швабрами где-то в районе комнаты досуга с ударением на первый слог. Дело было после завтрака. Максимушин ходил по центральному проходу взад-вперёд, заложив руки за спину и выгнув грудь колесом, и вещал о недалёком будущем.
– Имейте в виду, ёптеть. Скоро у вас присяга. Через три недели. Где-то в середине января. Важнейший момент в вашей уёбищной жизни, ёптеть. Приедут ваши мамки-шмамки, будут на вас смотреть. И если вы не сможете торжественным маршем пройти как положено, вы опозорите не только себя как военнослужащих, но и всю часть. За такое кара будет жестокой. Это понятно?
– Так точно! – отозвался строй.
– Хуёчно, ёптеть!
После этой пламенной речи и ещё нескольких других пламенных речей Максимушина, учебная рота отправилась сбивать ноги о плац до самого обеда. Максимушин тоже ушёл, и в расположении остался только наряд во главе с дежурным Брусом. В помещениях был наведён полный порядок, и настало время нам делать вид, будто мы чем-то заняты. Другой свободный дневальный и я взяли с собой одну метлу на двоих и спрятались в спальном расположении. Там мы сидели на прикроватных табуретах и ловили момент.
– Триста пятьдесят шесть.
– Ага.
– Даже по сути триста пятьдесят пять: сегодня можно уже не считать.
– Ага.
– Быстро всё-таки в наряде время пролетело.
– Угу.
– Как-то даже и не заметил. Хопс, и уже обед. А там и ужин. А там и отбой.
– Н-да.
– Завтра втухать на строевой будем.
– М-де.
– В наряде по сравнению с этим ништяк, всё-таки. Весь день в тепле, одеваться-раздеваться не надо. Строем в столовку даже не надо ходить!
– Ага.
– Да чё ты всё «ага» да «ага»?
– Не знаю. Тоскливо мне как-то.
– Накатило?
– Ну.
– Бывает. На меня тоже иногда накатывает.
– Да на всех накатывает, я думаю. Даже вон, на Батонова. Но ничё. Дослужить-то уж надо, раз начали.
– Ага.
В шесть часов вечера наш наряд закончился. На наше место заступили трое других ребят, сумевших выучить обязанности, а Бруса на посту дежурного по роте сменил рядовой Зублин.
Во время вечернего перекура после ужина мы почувствовали себя настоящими звёздами. Все сгрудились вокруг нас, точно паства вокруг прорицателей, желая узнать подробности о наряде. Что это вообще? Как это? Что нужно делать? Легко ли? Каково стоять с Брусом? И всё такое. Мы отвечали на всё, едва успевая курить.
Я обратил внимание на Голецкого, который всё это время стоял в стороне. Ему, похоже, наша мудрость была до фонаря, и разбираться он ни в чём не желал.
По возвращении в роту мы снова были усажены в комнате досуга для занятия всякой хренотенью и выслушивания историй рядового Зублина, который вместо того, чтобы нести службу в наряде как положено, предпочитал провести время в нашем обществе.
– Ну чё, пацаны, сколь до дома?
«Ну, начинается», – думали на это мы.
И так весь вечер.
Перед отбоем нас ждало необычное мероприятие. К нам должна была прийти медсестра и осмотреть нас, раздетых по пояс, на предмет чего-нибудь нездорового. Когда она вошла, мы уже стояли разомкнутым строем на центральном проходе. Она мерила нам температуру электронным термометром и осматривала наши тела. Мы осматривали её. Она даже пахла по-другому: я бы назвал это запахом жизни. Она улыбалась, и лицо её было полно участия.
– Ну что, ребята, жалобы какие-то есть? – спросила она, закончив своё дефиле с градусником.
Мы молчали. Неловко как-то вот так сразу, хором, сказать «Никак нет». Вдруг у кого-то что-то всё-таки…
– Товарищ сержант, разрешите обратиться из строя, рядовой Голецкий.
Как по команде мы повернули лысые головы и в двадцать пар глаз посмотрели на Голецкого.
– Да, что такое?
– У меня живот болит последнее время. Есть не могу. Тяжело. Всё назад лезет.
Пока медсестра трогала живот Голецкого и спрашивала его о характере болей, мы глотали слюну и завидовали ему, мечтая прямо сейчас, вот в эту секунду оказаться на его месте. В воздухе пахло спермой. Огромное пахучее белое облако нависло над расположением роты, накрыв нас с головой и спрятав нас всех друг от друга. Сквозь эту туманность вечного стояка путеводной звездой виднелась лишь жопа медички-сержанта. Всё остальное меркло и растворялось. «Какой же мудак! Ну мудак…», – думали мы про Голецкого, полагая, будто он всё это нарочно подстроил, чтобы медсестра потрогала его сначала под рёбрами, а потом у самого низа живота. Но лишь на следующий день мы осознали, что план Голецкого был куда глубже.
– Здесь болит?
– Так точно.
– А здесь?
– Да, так точно.
– Хм… Давай, может, я тебе уголёчку дам? До утра потерпишь? А завтра, если болеть будет, попросишь, чтобы привели ко мне, хорошо?
– Хорошо. Так точно, товарищ сержант.
«Ну мудак!..» – думали мы.
На следующий день осмотр проводил уже капитан Максимушин. Утренний осмотр личного состава – это последнее, что должен был сделать на своём посту ответственный по подразделению. Дальше он вверял здоровых, бодрых и сытых солдат уже новому ответственному.
– Жалобы есть, товарищи солдаты? – чисто формально спросил Максимушин: жалобы выслушивать он был не намерен.