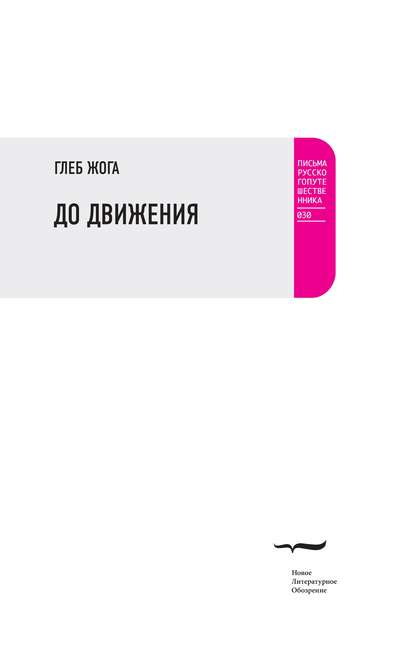По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
До движения (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пора.
Три балтийские трапезы
Тине
Люблю, когда в путешествии есть «проводник». Вариантов его воплощения множество: это может быть приятель, который вводит в местную среду; художественное произведение или творец, чья история связана с пространством путешествия; конкретная достопримечательность или мероприятие. Так, в мой первый – совсем краткий – визит в Одессу проводником была песня Игоря Ганькевича «Прогулки по Одессе». Когда через десять лет я снова поехал в этот город, то меня вели рассказы Исаака Бабеля. А в недавнем итальянском путешествии проводником стал просто повод поездки – свадьба друзей, отметить которую они решили на вилле «Ноццоле» в Тоскане.
«Реализация миссии» проводника вовсе не обязательно становится главным впечатлением путешествия. Например, моим проводником в Дрезден было намерение разыскать скотобойню-5, на которой в 1945 году несколько месяцев провел пленный Курт Воннегут. Там он пережил ковровую бомбардировку города англо-американской авиацией, и это воспоминание легло в основу его самого известного романа. Бойню я нашел (нынче там Дрезденская ярмарка) – место отдаленное и совершенно нетуристическое, его поиск оказался немалым приключением. Однако самым мощным дрезденским впечатлением той поездки стало посещение Цвингера и, в частности, Галереи старых мастеров.
Если проводника не оказывается или он выбирается недостаточно искренне (надумывается), то по окончании поездки не возникает чувства полноты и завершенности. Будто бы прошатался все время под ярко наштукатуренными на утеху туристам фасадами, а во двор так и не заглянул. Не говоря уже о том, чтоб оказаться причастным к чьей-нибудь местной трапезе.
Моим самым первым осознанным проводником стало желание побывать на зимнем море. Для меня, выросшего на Урале, море многие годы ассоциировалось исключительно с летним отпуском и каникулами, с пляжем, купанием и многочисленными курортниками (Петербург приморским городом я почему-то не считал). В какой-то момент мне стало жутко интересно: а как это – побережье зимой? И было решено в один из январей съездить в Прибалтику.
На электричке из Риги мы приехали в Юрмалу и пошли по центральной улице Йомас. Глядя на заснеженные вывески, поняли, что летом она оживленный торгово-развлекательный курортный променад, но в то утро на ней никого не было: январь был серым, пасмурным и ветреным, хотя и не морозным. Вид пустого приморского городка в несезон мне нравился: рекламный лоск был крепко засыпан снегом, наружу выступали настоящие юрмальские порядки. Их во всей красе явили три местные русско-латышские пары средних лет, которые встретились нам в одном из немногих открытых заведений общепита, куда мы заглянули погреться перед визитом к бушующему морю. Юрмальчане опохмелялись темным пивом и завтракали пирожками со шпеком. За едой они устраивали картельный сговор: договаривались о ценах, по которым собираются сдавать в аренду домики грядущей весной.
Присутствие моря ощущалось везде и постоянно. Особенно отчетливо – ушами. С Балтики дул сильный ветер, и высокие юрмальские сосны ровно и громко шумели. Наверное, поэтому пляж от населенной части города оказался отделен песчаным валом – чтобы спасаться от постоянного ветра.
Мы вышли на пляж, из глаз мгновенно полились слезы. И не только в сбивающем с ног ветре дело, волнующаяся Балтика ошарашивала: это была чистая дикая бесчеловечная энергия, недружественная и невраждебная – не замечающая тебя; бесцельная. Казалось бы, серое равномерно свинцовое небо, серая клокочущая вода, серый песок и серые отсыревшие строения, но картины ярче я не могу припомнить. Находиться на пляже больше пятнадцати минут было невозможно, но расстаться с переживанием этого шторма было невозможно: мы несколько раз прятались за песчаный вал, чтобы перевести дух, и снова выбегали на пляж. Окончательно продрогнув и промокнув, мы вернулись на улицы Юрмалы и обнаружили, что ушли по кромке берега далеко на запад и найти здесь открытое заведение для возвращения телу нормальной температуры будет затруднительно. Мы понуро побрели, дергая задрогшими руками двери попадавшихся на пути кафе – всё без толку.
Наконец мы наткнулись на раскрашенный в кислотные цвета коктейль-бар. Ставни были подняты, а дверь открытой. Вошли – в помещении пусто и тихо. Мы громко поздоровались по-английски – из подсобной комнаты вышел парень лет тридцати. Он был в куртке и вязаной шапке и вежливо сообщил нам, что заведение вообще-то закрыто. Однако, приблизившись и разглядев двух дрожащих и зареванных посетителей, улыбнулся, пригласил нас в зал, скинул верхнюю одежду и запустил кофемашину прогреваться.
Мы устроились за столом у батареи, обвились вокруг больших горячих кружек с кофе и стали расширять сосуды Рижским бальзамом. Услышав, что между собой мы говорим по-русски, хозяин обратился к нам на нашем языке. Он рассказал, что нам надо было сразу говорить на родном, ибо англичан (да и северных европейцев вообще) в Юрмале недолюбливают: те устраивают в недорогую Латвию алкогольно-развратные туры, и их бесчинства порядком поднадоели местным. Завязался разговор о жизни курортного города.
Дзинькнул колокольчик на входной двери, и в бар вошла молодая женщина. С порога она громко по-латышски обратилась к нашему собеседнику. Тот ответствовал, указуя рукой на нас. Дама, не проходя в зал, выглянула из-за гардеробной стойки с вешалками-плечиками, отгораживавшей прихожую от основного пространства, развернулась и вышла. Через минуту вернулась, держа в руках автомобильную люльку-переноску. Спящего ребенка она разместила на стойке рядом с отцом, не снимая верхней одежды, нагребла себе из холодильника в чайную чашку мороженого и уселась с ним чуть поодаль. В беседе участия она не приняла – не говорила по-русски.
В тот балтийский заезд мы предприняли краткую вылазку в Таллин. Теперь на море стоял занудный штиль, и почти все три дня мы провели в кружении по средневековому старому городу. Почти сразу мы приглядели недорогую кафешку в центре (а Таллин, стоит признать, ощутимо дороже Риги), где перекусывали высокоуглеводными блюдами, делая паузы в длительных прогулках.
В один из вечеров мы оказались вдалеке от привычного места питания, а голод уже давал о себе знать. Есть известный критерий: если в путешествии тебя вдруг стало все раздражать и нестерпимо хочется домой – поешь. Сникшие, мы угрюмо плелись по слякоти ночных таллинских улиц от ресторана к ресторану: тот слишком туристический, этот беспричинно дорогой, там просто неуютно, а тут только китайская лапша… Наконец, измаявшись от нерешительности, мы сказали себе, что сядем в первое попавшееся заведение и съедим там хоть что-нибудь.
Скоро попался вход в подвальчик, около лесенки стояло освещенное большой свечкой меню, не глядя на него, мы спустились. Стены ресторанчика были отделаны грубой штукатуркой и выбелены, а под потолком тянулись крашенные в синий деревянные полки, уставленные бутылками, – что-то греческое, решили мы. Не обнаружив никого в прихожей-гардеробной, мы прошли в обеденный зал и громко поздоровались в пустоту. Из кухни вышел индус, потом еще один. Казалось, они были удивлены нам еще больше, чем мы им – индусам в греческом ресторане посреди зимнего Таллина. Можно ли поужинать, осведомились мы. Чуть помешкав, хозяева предложили нам усаживаться. Один подал нам столовые приборы, другой удалился в кухню узнать, что у них осталось из съестного к столь позднему часу. Раздобыли овощей, рису и два карри, куриный и рыбный. Мы принялись подкрепляться, в кафе спустились еще несколько человек. Все они были индийцами и вели себя по-свойски, не как посетители, – дружески здоровались со встретившими нас обитателями кухни, исчезали в подсобных помещениях, что-то бурно обсуждали за стоящим на барной стойке компьютером. На нас внимания никто не обращал.
С овощами мы разделались в два счета, куриный карри одолели вприхлебку с холодной водой, а вот с рыбным до конца так и не справились – даже зимняя Прибалтика не сгладила остроты индийских блюд. По-моему, это расстроило обслуживавшего нас парня. Кофе оказался хорош.
В Риге мы познакомились с британцем неопределенного возраста, которого звали не то Джек, не то Джон – я так и не запомнил. Да и не только я: непривычные к западным именам восточные европейцы вечно путались. «Да какой я тебе Джек (Джон)! – негодовал он. – Я Джон (Джек)! Я же ирландец, а не fucking американец!» Кажется, за плечами у него был кое-какой опыт скитания по свету; теперь же он служил управляющим в хостеле и держал в том же здании небольшой бар для бэкпэкеров. Рюкзаков в ту поездку у нас еще не было, да и остановились мы в просторных съемных апартаментах, но выпивать в этом крошечном заведении нам понравилось.
Придя в один из вечеров в полюбившийся бар, мы застали его неожиданно пустым, за стойкой скучала неизвестная девица.
– Где все? – без лишней вежливости полюбопытствовали мы.
– Утром из хостела съехала большая группа.
– А где Джон?
– Ушел на какой-то концерт и попросил меня подежурить. Садитесь, может, дождетесь его.
Мы сели. Я попросил стаканчик виски. Девушка переспросила – я ткнул пальцем в бутылку с желаемым напитком. Она сняла ее с полки и стала озираться в поисках посуды – извлекла из-под стойки типичный икеевский стакан и опрокинула в него бутылку. Последняя была снабжена насадкой для сдерживания струи, и жидкость лилась медленно. Когда уровень виски превысил половину стакана, Джонова заместительница обратила внимание на мою вытягивающуюся в изумлении физиономию.
– Я что-то не то делаю, да? – спохватилась она.
– Да в общем-то… Вот только обычно наливают чуть меньшими дозами.
– Ой, извините! Ну я не знаю, я в баре не работала никогда…
Джона мы в тот вечер так и не дождались, хотя сидели за стойкой его бара довольно долго. За это время я осушил-таки поданный мне стакан-переросток. А потом даже настоял, чтоб с меня взяли плату хотя бы как за двойную порцию – не хотел портить карму, наживаясь на чужой неопытности. И мы направились домой. К тому моменту на Прибалтику налетел теплый воздух; на нетрезвых ногах мы бежали в зимних пуховиках под проливным дождем по спящим рижским улицам и громко хохотали.
* * *
Тарту, середина марта, позднее утро. Ночью был сильный снегопад, и уставшие дворники только-только заканчивают разгребать улицы. А небо само справилось: расчистилось и стало ясным, ярким и очень высоким. Подтопленные солнцем снежные шапки на крышах тяжелеют, соскальзывают и шлепаются на дорожки – брызги. Какой день недели? Не знаю. Мы в отпуске, и совсем скоро нам предстоит уехать из этого города.
Мы на пешеходной улице Рюйтли – главном променаде городка. Не жалея перчаток, расчистили себе лавку с высокой спинкой и уселись. Стали лениво глазеть по сторонам: на прохожих, на окошко керамической мастерской, в котором выставлены премилые глиняные бесполезицы. На усиливающуюся капель с крыши дома напротив. До нашего автобуса в Нарву еще много времени, а заранее приходить на вокзал совсем не хочется. Может, купить себе крохотную рукодельную эстонскую чашечку? На память, да и для чаепитий сгодится. Хотя далась она мне…
С перпендикулярного проулка на Рюйтли вывернула ясельная процессия. Шествие прелюбопытно организовано: центральная роль в нем отдана длинной (метра два) игрушечной сороконожке, которую за голову и хвост несут две воспитательницы, а их малолетние подопечные идут, держась за торчащие в стороны сороконожьи ноги. Движется эта конструкция очень медленно: дети совсем маленькие, смешно укутанные – ручки-ножки слушаются плохо. К тому же если кто-то из десяти-двенадцати мелких вдруг запинается и валится (а происходит это часто), то тянет за собой вниз всю гусеницу. Приходится останавливаться, подниматься при помощи взрослого на все (сколько их там?) ноги и лишь тогда продолжать движение.
Пока мы дивились организационной находке для выгула молодого поколения, из-за высокой спинки нашей лавки выплыла еще одна процессия с многоногим крокодилом во главе; направлялись они навстречу гусенице. Наблюдать стало интересней, и даже потенциальный керамический сувенир вылетел из головы. Наконец процессии поравнялись: воспитательницы выпустили из рук головы и хвосты плюшевых проводников и стали приветствовать друг друга объятиями. Дети моментально воспользовались случившейся свободой, и обе группы, отпустив системообразующие ноги, дружно свалились в одну кучу.
Коротко поболтав, взрослые стали разбираться с воспитанниками. Растащили одну кучу на две примерно равные, установили каждого детеныша с четырех конечностей на две задние, прицепили всех к соответствующим тотемным животным. Огляделись – хохотнули. Отняли от гусеницы и от крокодила по ребенку и поменяли их местами. Попрощались и поковыляли в прежних направлениях.
Мы сидели и думали: а если они не все ошибки при пересборке устранили? Живо представили сценку: приходит вечером родитель мелкого домой забирать, а воспитка ему такая и говорит: «Ой, вы знаете, ваш Андрес сегодня в соседнем садике в паре кварталов отсюда, вы не могли бы туда зайти?» А если они и после обеда гулять выходили и снова перепутались, но уже с третьей группой? Тогда во втором садике могут еще раз перенаправить – это ж целый квест получается. В прочем, ничего страшного: Эстония маленькая – вся страна по численности меньше нашего Екатеринбурга, а Тарту так совсем крошечный по этим меркам. Все всех знают – никто не пропадет.
Про Берлин
«Приключений хватает, город в очередной раз мне не дается. Кажется, планировать поездку в Берлин – гиблое дело. Сюда надо не с заранее составленным планом ехать, а с открытыми глазами и ориентироваться на местности. Мне это нелегко», – ответил я обстоятельной эсэмэской на вопрос приятеля о ходе моих берлинских каникул.
Оказавшись в Берлине впервые, я растерялся. Никаких привычных европейских древностей там не наблюдалось, не было и знакомой мне радиально-кольцевой планировки со старым городом в центре. Зато было отчетливо ясно, что город постоянно меняется: куда ни глянь, всюду на горизонте торчал строительный кран, а автомобильные дороги и метрошные рельсы обязательно оказывались перекопанными в самых неподходящих местах. Кстати, именно инфраструктурные задачи мне более всего запомнились из того визита: для русского провинциала с неуклюжим чемоданом на колесиках и небольшим опытом загранпоездок передвижение по кипучему Берлину стало серьезным испытанием.
В следующий раз транспортные передряги начались еще в Екатеринбурге: конец апреля, мы собираемся в Германию на грядущие длинные выходные. За день до вылета погода из состояния солнечно-бодренько безумным рывком перескакивает в разряд мрак-дубак: температура пляшет около нуля, небо из накативших свинцовых туч извергает снежные ливни. Внимательно следим за электронным табло аэропорта: полеты выполняются более-менее по расписанию. Да и правда: снега мы, что ли, не видали, сугробами нас напугать решили? Подумаешь, в конце апреля… Самолеты ведь из зимней в летнюю резину не переобуваются. Так что радуемся, что скоро вырвемся из очередного климатического издевательства уральской весны, и собираем рюкзаки.
Ночь перед вылетом: температура опускается ниже нуля, а к непрекращающимся снежным испражнениям добавляется шквалистый ветер. На такси, которое еле ползло по заснеженному гололеду, приезжаем в порт. Досмотр, чашка кофе в чистой зоне. Наш рейс, который должен был вылететь из Кольцово в 6:15 до питерского Пулково, оказывается первым, который отложили по погодным условиям. Для екатеринбургского аэропорта начинается один из самых крупных метеосбоев, которые случались на моей памяти: часов двадцать аэропорт не принимал и не отправлял воздушные суда (было лишь одно исключение – самолет из Бишкека, над которым потешался весь порт), число задержанных рейсов исчислялось десятками.
Мы провели в здании аэровокзала двенадцать часов. Рейсы откладывались постепенно, на час-полтора, видимо, авиаторы лелеяли надежду, что стихия уймется. Но та и не думала. Только когда очередной наш предполагаемый вылет перенесли на шесть вечера и мы поняли, что пропускаем все разумные пересадки в Петербурге до Берлина, мы поехали спать домой. В общей сумме мы потеряли около 35 часов от первоначального плана. Произошедшее, разумеется, не берлинская вина, но впечатление от Берлина как своевольного города лишь подчеркивает.
Но если отбросить планирование и стать более открытым к тому, что Вселенная предлагает здесь и сейчас, если почувствовать волну городского настроения и отдаться ей, то Берлин сам будет тебя вести. Причем делает он это на удивление вежливо и аккуратно, без крайностей. Дело в том, что Берлин хоть и своевольный организм, но не капризный: у него слишком сложная судьба. Этот нестарый по европейским меркам город в последние полтора века его жизни столько раз перекраивали, рушили, восстанавливали, объединяли, разъединяли и снова соединяли, что смирение и терпение не могли здесь не появиться хотя бы в качестве иммунитета к вечным (часто насильственным) переменам. Оттого известная берлинская бесшабашность редко когда уходит в полный отрыв.
При этом Берлин, храня память о произошедшем, умело держит баланс. С одной стороны, не впадает в советский обезличенный гигантизм, когда конкретные жизненные истории конкретных людей подменяются обобщенным бездушным изваянием. Есть, конечно, в городе советские памятники, например в Тиргартене и в Трептов-парке, но это не правило. С другой стороны, свои рубцы Берлин не выпячивает, не жалуется и не ноет. Последним, скажем, грешит Варшава, где и шагу не ступить, не нарвавшись на табличку а-ля «Здесь гитлеровцы постреляли таких-то поляков» или просто стену с заботливо не заделанными пулевыми отверстиями в штукатурке. Память эта необходимая, понимаю, но настроение у фланёра невольно случается тоскливое. Даже самый известный берлинский шрам сейчас все чаще подается как энтертейнмент, а не как незаживающая рана, коей он, безусловно, является.
Есть разряд книг, которые я называю философией для одноклеточных. Снобизм снобизмом, но некоторые из них я все же почитываю. В одной такой читателю предлагалось выполнить упражнение под названием «Карта зависти» – перечислить, кому и почему он завидует. В качестве примера давалась такая строка: «Кому завидую – Иосиф Бродский; почему завидую – великий поэт». Этот пример мне запомнился, и я стал думать, завидую ли Бродскому. На первый взгляд вроде бы нет. В том, что он гениальный поэт, уж точно. Однако после пары дней раздумий в фоновом режиме я обнаружил, что все же кое в чем завидую: у Бродского был его Питер, поэт в нем родился, боготворил его и пронес это чувство к родному городу через всю жизнь. А мне такого чувства суждено не было. Всю жизнь я живу на Урале: родился и вырос на западном склоне хребта, последние годы живу на восточном. Оба города, которые я называю родными, никогда не вызывали у меня особенных чувств. Хорошо ли мне в них живется? Не знаю. Я эти города не чувствую, я просто в них обитаю, потому что такова данность: судьбой было решено, чтобы я родился именно тут. И я завидую Иосифу Бродскому в том, что ему посчастливилось (удалось?) почувствовать и полюбить свой город, а я этого не сумел.
Первым городом, который продемонстрировал мне, что между человеком и местом может обретаться глубинная связь, стал Берлин. Я почувствовал это еще в первой поездке: уже тогда мне отчетливо захотелось вернуться, хотя я долго не мог расшифровать почему. Мой интерес и тяга к городу не были предметными, Берлин не очаровывает какой-то одной своей стороной. Как, например, очаровывает имперской музейностью Вена (вот она, кстати, капризная – пережиток долгого царствования), как очаровывают картинной уютностью альпийские городки Швейцарии и Словении; как обволакивает кулинарными ароматами курортное Средиземноморье. Что-то похожее на берлинский магнетизм я ощутил еще раз лишь однажды – в Одессе, однако между этими стремлениями проявилась заметная разница: в Одессе хотелось пожить (отмеренный период), в Берлине же – жить (без заданного ощущения конечности).
Теперь я хочу понять, взаимно ли это влечение.
Штрихи к портрету уездного города К.[1 - Опубликовано в журнале «Эксперт Урал». № 27 (651). 29 июня 2015.]
Я стою в метре от дождя. Он всегда идет в этой комнате: из углов сводчатого потолка летят крупные капли, даже если на небе ни облачка. Это прошлогодний дождь. Тяну руку, ловлю влагу, подношу к лицу – вода настоящая. Она оказывается холодной, чистой, без примесей, цвета и привкуса – короче говоря, совершенно обыкновенной; разглядеть в ней прошлое мне никак не удается. Поэтому мой интерес угасает: история не существует вне индивидуальностей, будучи отфильтрованной и генерализованной, она становится прозрачной и совершенно безвкусной.
Мы в Эфирном гроте Кунгурской ледяной пещеры. Капе?ль здесь не прекращается тысячелетиями, вода падает из так называемых органных труб – специфических образований в сводах. Толща породы над нашими головами около 60 метров, и воде, чтобы просочиться сквозь этот гипс в грот, требуется 300 с лишним дней. Вдоволь нарадоваться прошлогодним осадкам удается не всем: весной поток желающих ознакомиться с карстовым чудом природы особенно интенсивный, экскурсионные группы следуют одна за другой вплотную. И мы спешим за нашим проводником к Большому подземному озеру знакомиться с крангониксами Хлебникова – пещерными рачками-бокоплавами.
Еще в поезде перед Кунгуром мы принялись гуглить уютное место, в котором можно было бы перевести дух по приезде, пополнить баланс глюкозы и кофеина в организме и скорректировать дальнейшие планы. Обнаружилась милая кофеенка – арт-чердак одного из особняков; за стойкой владелец – атлетический мужчина раннесредних лет, с модной стрижкой. Кофе подал недурной. По стенам помещения развешаны фото: на одной – цветные изображения всевозможных климатических зон и природных чудес (сняты хозяином заведения в путешествиях), на другой – черно-белые снимки из истории Кунгура. Я приметил знакомый вид, в кадре вековой давности он был торжественней:
Три балтийские трапезы
Тине
Люблю, когда в путешествии есть «проводник». Вариантов его воплощения множество: это может быть приятель, который вводит в местную среду; художественное произведение или творец, чья история связана с пространством путешествия; конкретная достопримечательность или мероприятие. Так, в мой первый – совсем краткий – визит в Одессу проводником была песня Игоря Ганькевича «Прогулки по Одессе». Когда через десять лет я снова поехал в этот город, то меня вели рассказы Исаака Бабеля. А в недавнем итальянском путешествии проводником стал просто повод поездки – свадьба друзей, отметить которую они решили на вилле «Ноццоле» в Тоскане.
«Реализация миссии» проводника вовсе не обязательно становится главным впечатлением путешествия. Например, моим проводником в Дрезден было намерение разыскать скотобойню-5, на которой в 1945 году несколько месяцев провел пленный Курт Воннегут. Там он пережил ковровую бомбардировку города англо-американской авиацией, и это воспоминание легло в основу его самого известного романа. Бойню я нашел (нынче там Дрезденская ярмарка) – место отдаленное и совершенно нетуристическое, его поиск оказался немалым приключением. Однако самым мощным дрезденским впечатлением той поездки стало посещение Цвингера и, в частности, Галереи старых мастеров.
Если проводника не оказывается или он выбирается недостаточно искренне (надумывается), то по окончании поездки не возникает чувства полноты и завершенности. Будто бы прошатался все время под ярко наштукатуренными на утеху туристам фасадами, а во двор так и не заглянул. Не говоря уже о том, чтоб оказаться причастным к чьей-нибудь местной трапезе.
Моим самым первым осознанным проводником стало желание побывать на зимнем море. Для меня, выросшего на Урале, море многие годы ассоциировалось исключительно с летним отпуском и каникулами, с пляжем, купанием и многочисленными курортниками (Петербург приморским городом я почему-то не считал). В какой-то момент мне стало жутко интересно: а как это – побережье зимой? И было решено в один из январей съездить в Прибалтику.
На электричке из Риги мы приехали в Юрмалу и пошли по центральной улице Йомас. Глядя на заснеженные вывески, поняли, что летом она оживленный торгово-развлекательный курортный променад, но в то утро на ней никого не было: январь был серым, пасмурным и ветреным, хотя и не морозным. Вид пустого приморского городка в несезон мне нравился: рекламный лоск был крепко засыпан снегом, наружу выступали настоящие юрмальские порядки. Их во всей красе явили три местные русско-латышские пары средних лет, которые встретились нам в одном из немногих открытых заведений общепита, куда мы заглянули погреться перед визитом к бушующему морю. Юрмальчане опохмелялись темным пивом и завтракали пирожками со шпеком. За едой они устраивали картельный сговор: договаривались о ценах, по которым собираются сдавать в аренду домики грядущей весной.
Присутствие моря ощущалось везде и постоянно. Особенно отчетливо – ушами. С Балтики дул сильный ветер, и высокие юрмальские сосны ровно и громко шумели. Наверное, поэтому пляж от населенной части города оказался отделен песчаным валом – чтобы спасаться от постоянного ветра.
Мы вышли на пляж, из глаз мгновенно полились слезы. И не только в сбивающем с ног ветре дело, волнующаяся Балтика ошарашивала: это была чистая дикая бесчеловечная энергия, недружественная и невраждебная – не замечающая тебя; бесцельная. Казалось бы, серое равномерно свинцовое небо, серая клокочущая вода, серый песок и серые отсыревшие строения, но картины ярче я не могу припомнить. Находиться на пляже больше пятнадцати минут было невозможно, но расстаться с переживанием этого шторма было невозможно: мы несколько раз прятались за песчаный вал, чтобы перевести дух, и снова выбегали на пляж. Окончательно продрогнув и промокнув, мы вернулись на улицы Юрмалы и обнаружили, что ушли по кромке берега далеко на запад и найти здесь открытое заведение для возвращения телу нормальной температуры будет затруднительно. Мы понуро побрели, дергая задрогшими руками двери попадавшихся на пути кафе – всё без толку.
Наконец мы наткнулись на раскрашенный в кислотные цвета коктейль-бар. Ставни были подняты, а дверь открытой. Вошли – в помещении пусто и тихо. Мы громко поздоровались по-английски – из подсобной комнаты вышел парень лет тридцати. Он был в куртке и вязаной шапке и вежливо сообщил нам, что заведение вообще-то закрыто. Однако, приблизившись и разглядев двух дрожащих и зареванных посетителей, улыбнулся, пригласил нас в зал, скинул верхнюю одежду и запустил кофемашину прогреваться.
Мы устроились за столом у батареи, обвились вокруг больших горячих кружек с кофе и стали расширять сосуды Рижским бальзамом. Услышав, что между собой мы говорим по-русски, хозяин обратился к нам на нашем языке. Он рассказал, что нам надо было сразу говорить на родном, ибо англичан (да и северных европейцев вообще) в Юрмале недолюбливают: те устраивают в недорогую Латвию алкогольно-развратные туры, и их бесчинства порядком поднадоели местным. Завязался разговор о жизни курортного города.
Дзинькнул колокольчик на входной двери, и в бар вошла молодая женщина. С порога она громко по-латышски обратилась к нашему собеседнику. Тот ответствовал, указуя рукой на нас. Дама, не проходя в зал, выглянула из-за гардеробной стойки с вешалками-плечиками, отгораживавшей прихожую от основного пространства, развернулась и вышла. Через минуту вернулась, держа в руках автомобильную люльку-переноску. Спящего ребенка она разместила на стойке рядом с отцом, не снимая верхней одежды, нагребла себе из холодильника в чайную чашку мороженого и уселась с ним чуть поодаль. В беседе участия она не приняла – не говорила по-русски.
В тот балтийский заезд мы предприняли краткую вылазку в Таллин. Теперь на море стоял занудный штиль, и почти все три дня мы провели в кружении по средневековому старому городу. Почти сразу мы приглядели недорогую кафешку в центре (а Таллин, стоит признать, ощутимо дороже Риги), где перекусывали высокоуглеводными блюдами, делая паузы в длительных прогулках.
В один из вечеров мы оказались вдалеке от привычного места питания, а голод уже давал о себе знать. Есть известный критерий: если в путешествии тебя вдруг стало все раздражать и нестерпимо хочется домой – поешь. Сникшие, мы угрюмо плелись по слякоти ночных таллинских улиц от ресторана к ресторану: тот слишком туристический, этот беспричинно дорогой, там просто неуютно, а тут только китайская лапша… Наконец, измаявшись от нерешительности, мы сказали себе, что сядем в первое попавшееся заведение и съедим там хоть что-нибудь.
Скоро попался вход в подвальчик, около лесенки стояло освещенное большой свечкой меню, не глядя на него, мы спустились. Стены ресторанчика были отделаны грубой штукатуркой и выбелены, а под потолком тянулись крашенные в синий деревянные полки, уставленные бутылками, – что-то греческое, решили мы. Не обнаружив никого в прихожей-гардеробной, мы прошли в обеденный зал и громко поздоровались в пустоту. Из кухни вышел индус, потом еще один. Казалось, они были удивлены нам еще больше, чем мы им – индусам в греческом ресторане посреди зимнего Таллина. Можно ли поужинать, осведомились мы. Чуть помешкав, хозяева предложили нам усаживаться. Один подал нам столовые приборы, другой удалился в кухню узнать, что у них осталось из съестного к столь позднему часу. Раздобыли овощей, рису и два карри, куриный и рыбный. Мы принялись подкрепляться, в кафе спустились еще несколько человек. Все они были индийцами и вели себя по-свойски, не как посетители, – дружески здоровались со встретившими нас обитателями кухни, исчезали в подсобных помещениях, что-то бурно обсуждали за стоящим на барной стойке компьютером. На нас внимания никто не обращал.
С овощами мы разделались в два счета, куриный карри одолели вприхлебку с холодной водой, а вот с рыбным до конца так и не справились – даже зимняя Прибалтика не сгладила остроты индийских блюд. По-моему, это расстроило обслуживавшего нас парня. Кофе оказался хорош.
В Риге мы познакомились с британцем неопределенного возраста, которого звали не то Джек, не то Джон – я так и не запомнил. Да и не только я: непривычные к западным именам восточные европейцы вечно путались. «Да какой я тебе Джек (Джон)! – негодовал он. – Я Джон (Джек)! Я же ирландец, а не fucking американец!» Кажется, за плечами у него был кое-какой опыт скитания по свету; теперь же он служил управляющим в хостеле и держал в том же здании небольшой бар для бэкпэкеров. Рюкзаков в ту поездку у нас еще не было, да и остановились мы в просторных съемных апартаментах, но выпивать в этом крошечном заведении нам понравилось.
Придя в один из вечеров в полюбившийся бар, мы застали его неожиданно пустым, за стойкой скучала неизвестная девица.
– Где все? – без лишней вежливости полюбопытствовали мы.
– Утром из хостела съехала большая группа.
– А где Джон?
– Ушел на какой-то концерт и попросил меня подежурить. Садитесь, может, дождетесь его.
Мы сели. Я попросил стаканчик виски. Девушка переспросила – я ткнул пальцем в бутылку с желаемым напитком. Она сняла ее с полки и стала озираться в поисках посуды – извлекла из-под стойки типичный икеевский стакан и опрокинула в него бутылку. Последняя была снабжена насадкой для сдерживания струи, и жидкость лилась медленно. Когда уровень виски превысил половину стакана, Джонова заместительница обратила внимание на мою вытягивающуюся в изумлении физиономию.
– Я что-то не то делаю, да? – спохватилась она.
– Да в общем-то… Вот только обычно наливают чуть меньшими дозами.
– Ой, извините! Ну я не знаю, я в баре не работала никогда…
Джона мы в тот вечер так и не дождались, хотя сидели за стойкой его бара довольно долго. За это время я осушил-таки поданный мне стакан-переросток. А потом даже настоял, чтоб с меня взяли плату хотя бы как за двойную порцию – не хотел портить карму, наживаясь на чужой неопытности. И мы направились домой. К тому моменту на Прибалтику налетел теплый воздух; на нетрезвых ногах мы бежали в зимних пуховиках под проливным дождем по спящим рижским улицам и громко хохотали.
* * *
Тарту, середина марта, позднее утро. Ночью был сильный снегопад, и уставшие дворники только-только заканчивают разгребать улицы. А небо само справилось: расчистилось и стало ясным, ярким и очень высоким. Подтопленные солнцем снежные шапки на крышах тяжелеют, соскальзывают и шлепаются на дорожки – брызги. Какой день недели? Не знаю. Мы в отпуске, и совсем скоро нам предстоит уехать из этого города.
Мы на пешеходной улице Рюйтли – главном променаде городка. Не жалея перчаток, расчистили себе лавку с высокой спинкой и уселись. Стали лениво глазеть по сторонам: на прохожих, на окошко керамической мастерской, в котором выставлены премилые глиняные бесполезицы. На усиливающуюся капель с крыши дома напротив. До нашего автобуса в Нарву еще много времени, а заранее приходить на вокзал совсем не хочется. Может, купить себе крохотную рукодельную эстонскую чашечку? На память, да и для чаепитий сгодится. Хотя далась она мне…
С перпендикулярного проулка на Рюйтли вывернула ясельная процессия. Шествие прелюбопытно организовано: центральная роль в нем отдана длинной (метра два) игрушечной сороконожке, которую за голову и хвост несут две воспитательницы, а их малолетние подопечные идут, держась за торчащие в стороны сороконожьи ноги. Движется эта конструкция очень медленно: дети совсем маленькие, смешно укутанные – ручки-ножки слушаются плохо. К тому же если кто-то из десяти-двенадцати мелких вдруг запинается и валится (а происходит это часто), то тянет за собой вниз всю гусеницу. Приходится останавливаться, подниматься при помощи взрослого на все (сколько их там?) ноги и лишь тогда продолжать движение.
Пока мы дивились организационной находке для выгула молодого поколения, из-за высокой спинки нашей лавки выплыла еще одна процессия с многоногим крокодилом во главе; направлялись они навстречу гусенице. Наблюдать стало интересней, и даже потенциальный керамический сувенир вылетел из головы. Наконец процессии поравнялись: воспитательницы выпустили из рук головы и хвосты плюшевых проводников и стали приветствовать друг друга объятиями. Дети моментально воспользовались случившейся свободой, и обе группы, отпустив системообразующие ноги, дружно свалились в одну кучу.
Коротко поболтав, взрослые стали разбираться с воспитанниками. Растащили одну кучу на две примерно равные, установили каждого детеныша с четырех конечностей на две задние, прицепили всех к соответствующим тотемным животным. Огляделись – хохотнули. Отняли от гусеницы и от крокодила по ребенку и поменяли их местами. Попрощались и поковыляли в прежних направлениях.
Мы сидели и думали: а если они не все ошибки при пересборке устранили? Живо представили сценку: приходит вечером родитель мелкого домой забирать, а воспитка ему такая и говорит: «Ой, вы знаете, ваш Андрес сегодня в соседнем садике в паре кварталов отсюда, вы не могли бы туда зайти?» А если они и после обеда гулять выходили и снова перепутались, но уже с третьей группой? Тогда во втором садике могут еще раз перенаправить – это ж целый квест получается. В прочем, ничего страшного: Эстония маленькая – вся страна по численности меньше нашего Екатеринбурга, а Тарту так совсем крошечный по этим меркам. Все всех знают – никто не пропадет.
Про Берлин
«Приключений хватает, город в очередной раз мне не дается. Кажется, планировать поездку в Берлин – гиблое дело. Сюда надо не с заранее составленным планом ехать, а с открытыми глазами и ориентироваться на местности. Мне это нелегко», – ответил я обстоятельной эсэмэской на вопрос приятеля о ходе моих берлинских каникул.
Оказавшись в Берлине впервые, я растерялся. Никаких привычных европейских древностей там не наблюдалось, не было и знакомой мне радиально-кольцевой планировки со старым городом в центре. Зато было отчетливо ясно, что город постоянно меняется: куда ни глянь, всюду на горизонте торчал строительный кран, а автомобильные дороги и метрошные рельсы обязательно оказывались перекопанными в самых неподходящих местах. Кстати, именно инфраструктурные задачи мне более всего запомнились из того визита: для русского провинциала с неуклюжим чемоданом на колесиках и небольшим опытом загранпоездок передвижение по кипучему Берлину стало серьезным испытанием.
В следующий раз транспортные передряги начались еще в Екатеринбурге: конец апреля, мы собираемся в Германию на грядущие длинные выходные. За день до вылета погода из состояния солнечно-бодренько безумным рывком перескакивает в разряд мрак-дубак: температура пляшет около нуля, небо из накативших свинцовых туч извергает снежные ливни. Внимательно следим за электронным табло аэропорта: полеты выполняются более-менее по расписанию. Да и правда: снега мы, что ли, не видали, сугробами нас напугать решили? Подумаешь, в конце апреля… Самолеты ведь из зимней в летнюю резину не переобуваются. Так что радуемся, что скоро вырвемся из очередного климатического издевательства уральской весны, и собираем рюкзаки.
Ночь перед вылетом: температура опускается ниже нуля, а к непрекращающимся снежным испражнениям добавляется шквалистый ветер. На такси, которое еле ползло по заснеженному гололеду, приезжаем в порт. Досмотр, чашка кофе в чистой зоне. Наш рейс, который должен был вылететь из Кольцово в 6:15 до питерского Пулково, оказывается первым, который отложили по погодным условиям. Для екатеринбургского аэропорта начинается один из самых крупных метеосбоев, которые случались на моей памяти: часов двадцать аэропорт не принимал и не отправлял воздушные суда (было лишь одно исключение – самолет из Бишкека, над которым потешался весь порт), число задержанных рейсов исчислялось десятками.
Мы провели в здании аэровокзала двенадцать часов. Рейсы откладывались постепенно, на час-полтора, видимо, авиаторы лелеяли надежду, что стихия уймется. Но та и не думала. Только когда очередной наш предполагаемый вылет перенесли на шесть вечера и мы поняли, что пропускаем все разумные пересадки в Петербурге до Берлина, мы поехали спать домой. В общей сумме мы потеряли около 35 часов от первоначального плана. Произошедшее, разумеется, не берлинская вина, но впечатление от Берлина как своевольного города лишь подчеркивает.
Но если отбросить планирование и стать более открытым к тому, что Вселенная предлагает здесь и сейчас, если почувствовать волну городского настроения и отдаться ей, то Берлин сам будет тебя вести. Причем делает он это на удивление вежливо и аккуратно, без крайностей. Дело в том, что Берлин хоть и своевольный организм, но не капризный: у него слишком сложная судьба. Этот нестарый по европейским меркам город в последние полтора века его жизни столько раз перекраивали, рушили, восстанавливали, объединяли, разъединяли и снова соединяли, что смирение и терпение не могли здесь не появиться хотя бы в качестве иммунитета к вечным (часто насильственным) переменам. Оттого известная берлинская бесшабашность редко когда уходит в полный отрыв.
При этом Берлин, храня память о произошедшем, умело держит баланс. С одной стороны, не впадает в советский обезличенный гигантизм, когда конкретные жизненные истории конкретных людей подменяются обобщенным бездушным изваянием. Есть, конечно, в городе советские памятники, например в Тиргартене и в Трептов-парке, но это не правило. С другой стороны, свои рубцы Берлин не выпячивает, не жалуется и не ноет. Последним, скажем, грешит Варшава, где и шагу не ступить, не нарвавшись на табличку а-ля «Здесь гитлеровцы постреляли таких-то поляков» или просто стену с заботливо не заделанными пулевыми отверстиями в штукатурке. Память эта необходимая, понимаю, но настроение у фланёра невольно случается тоскливое. Даже самый известный берлинский шрам сейчас все чаще подается как энтертейнмент, а не как незаживающая рана, коей он, безусловно, является.
Есть разряд книг, которые я называю философией для одноклеточных. Снобизм снобизмом, но некоторые из них я все же почитываю. В одной такой читателю предлагалось выполнить упражнение под названием «Карта зависти» – перечислить, кому и почему он завидует. В качестве примера давалась такая строка: «Кому завидую – Иосиф Бродский; почему завидую – великий поэт». Этот пример мне запомнился, и я стал думать, завидую ли Бродскому. На первый взгляд вроде бы нет. В том, что он гениальный поэт, уж точно. Однако после пары дней раздумий в фоновом режиме я обнаружил, что все же кое в чем завидую: у Бродского был его Питер, поэт в нем родился, боготворил его и пронес это чувство к родному городу через всю жизнь. А мне такого чувства суждено не было. Всю жизнь я живу на Урале: родился и вырос на западном склоне хребта, последние годы живу на восточном. Оба города, которые я называю родными, никогда не вызывали у меня особенных чувств. Хорошо ли мне в них живется? Не знаю. Я эти города не чувствую, я просто в них обитаю, потому что такова данность: судьбой было решено, чтобы я родился именно тут. И я завидую Иосифу Бродскому в том, что ему посчастливилось (удалось?) почувствовать и полюбить свой город, а я этого не сумел.
Первым городом, который продемонстрировал мне, что между человеком и местом может обретаться глубинная связь, стал Берлин. Я почувствовал это еще в первой поездке: уже тогда мне отчетливо захотелось вернуться, хотя я долго не мог расшифровать почему. Мой интерес и тяга к городу не были предметными, Берлин не очаровывает какой-то одной своей стороной. Как, например, очаровывает имперской музейностью Вена (вот она, кстати, капризная – пережиток долгого царствования), как очаровывают картинной уютностью альпийские городки Швейцарии и Словении; как обволакивает кулинарными ароматами курортное Средиземноморье. Что-то похожее на берлинский магнетизм я ощутил еще раз лишь однажды – в Одессе, однако между этими стремлениями проявилась заметная разница: в Одессе хотелось пожить (отмеренный период), в Берлине же – жить (без заданного ощущения конечности).
Теперь я хочу понять, взаимно ли это влечение.
Штрихи к портрету уездного города К.[1 - Опубликовано в журнале «Эксперт Урал». № 27 (651). 29 июня 2015.]
Я стою в метре от дождя. Он всегда идет в этой комнате: из углов сводчатого потолка летят крупные капли, даже если на небе ни облачка. Это прошлогодний дождь. Тяну руку, ловлю влагу, подношу к лицу – вода настоящая. Она оказывается холодной, чистой, без примесей, цвета и привкуса – короче говоря, совершенно обыкновенной; разглядеть в ней прошлое мне никак не удается. Поэтому мой интерес угасает: история не существует вне индивидуальностей, будучи отфильтрованной и генерализованной, она становится прозрачной и совершенно безвкусной.
Мы в Эфирном гроте Кунгурской ледяной пещеры. Капе?ль здесь не прекращается тысячелетиями, вода падает из так называемых органных труб – специфических образований в сводах. Толща породы над нашими головами около 60 метров, и воде, чтобы просочиться сквозь этот гипс в грот, требуется 300 с лишним дней. Вдоволь нарадоваться прошлогодним осадкам удается не всем: весной поток желающих ознакомиться с карстовым чудом природы особенно интенсивный, экскурсионные группы следуют одна за другой вплотную. И мы спешим за нашим проводником к Большому подземному озеру знакомиться с крангониксами Хлебникова – пещерными рачками-бокоплавами.
Еще в поезде перед Кунгуром мы принялись гуглить уютное место, в котором можно было бы перевести дух по приезде, пополнить баланс глюкозы и кофеина в организме и скорректировать дальнейшие планы. Обнаружилась милая кофеенка – арт-чердак одного из особняков; за стойкой владелец – атлетический мужчина раннесредних лет, с модной стрижкой. Кофе подал недурной. По стенам помещения развешаны фото: на одной – цветные изображения всевозможных климатических зон и природных чудес (сняты хозяином заведения в путешествиях), на другой – черно-белые снимки из истории Кунгура. Я приметил знакомый вид, в кадре вековой давности он был торжественней: