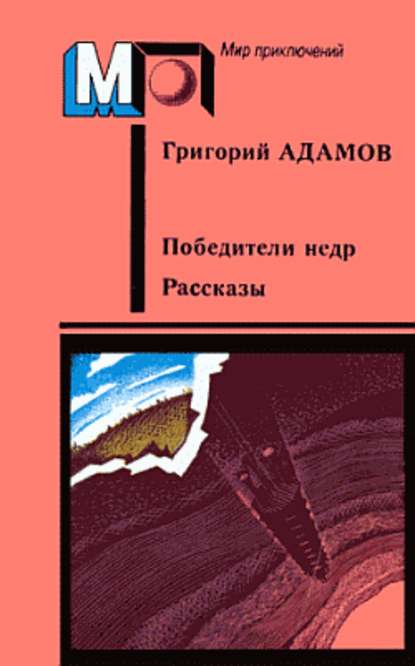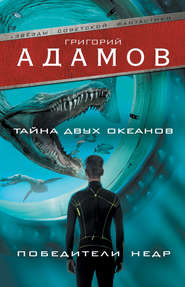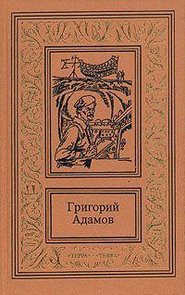По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Победители недр
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Илюша, ведь это абсурд!
– В других случаях я тоже так подумал бы. Но здесь дело идёт о вас… о вашей жизни… Ты можешь предложить что-нибудь другое?
Ответа не последовало, и Цейтлин продолжал:
– Проходка идёт теперь по пятнадцати-шестнадцати метров в сутки. Уже пройдено девяносто шесть метров. Я обещаю тебе, что через двадцать пять – двадцать шесть суток мы доберёмся до вас. Хотя бы мне пришлось лопнуть!.. Я прошу тебя, Никитушка… умоляю… дотяни! Растяни! Думай, придумывай, изворачивайся… Может быть, там у вас какие-нибудь резервы: вода, химические материалы… Ниночка! Я особенно тебя прошу… Ты же химичка… Ты же умница…
И все в шаровой каюте, лишившейся телевизора, ярко представили себе, как Цейтлин стоит перед микрофоном и упрашивает их: увидели всю его несуразную фигуру и прикрытые стёклами огромных очков маленькие умные глаза, полные мольбы, любви и смертельной тревоги.
У Малевской начали краснеть веки. Ей хотелось и плакать и смеяться.
– Илюша!.. Голубчик!.. Надо ли об этом говорить?.. Мы, конечно, сделаем всё, что только возможно…
– Нет, нет, Ниночка! Не только то, что возможно, а больше, чем возможно… Ты понимаешь, мне важно, чтобы у вас руки не опустились, иначе… иначе вы и меня и всех тут просто подведёте!
– Об этом не беспокойся, Илья, – твёрдым голосом сказал Мареев. – Мы будем бороться до последнего вздоха.
– А я беру обязательство: сверх последнего вздоха сделать ещё три лишних и вызываю Никиту на соревнование, – не мог удержаться, чтобы не побалагурить, Брусков.
– Ну, вот и отлично! Вот и отлично! – радовался Цейтлин, придерживая рукой подрагивающую щёку. – Вы теперь идите и устраивайте своё кислородное хозяйство, а я побегу, дел масса. Ну, до свиданья… Вечерком ещё поговорим… И Андрей Иванович вернётся из Сталино к тому времени… Не теряйте бодрости. Будьте уверены: всё, что надо, сделаем… Обнимаю вас… Бегу…
Но он никуда не убежал. Он тяжело опустился на стул и, поддерживая одной рукой щёку, другой достал свой огромный платок и принялся вытирать покрытое потом лицо.
Он так и остался сидеть в неподвижности, с остановившимися глазами, со скомканным платком в руке.
В аппаратной было тихо. Два члена штаба, радисты, главный инженер шахты «Гигант», руководивший проходкой шахты к снаряду, – все сидели, застыв в глубоком молчании, не зная, что сказать. Через раскрытые окна в комнату врывался смешанный, напряженный гул – лязг железа, шум моторов, крики людей: работа по проходке шахты не прекращалась.
Наконец Цейтлин шумно вздохнул и повернул голову.
– Василий Егорыч, – сказал он одному из радистов, – вызовите из Сталино Андрея Ивановича, скажите, чтобы немедленно возвратился сюда. Через час созывается заседание штаба.
Он с трудом встал, держась за спинку стула.
– Я пойду к себе, в гостиницу.
Все молчали. Он вышел из комнаты, провожаемый взглядами, полными горя.
После сообщения Цейтлина о безуспешной попытке снаряда двинуться с места и о ничтожных запасах кислорода у экспедиции штаб принял решение добиваться всеми мерами ещё большего ускорения работ по проходке шахты. Решили усилить взрывные работы, применить новый способ подачи выработанной породы на поверхность, предложенный бригадиром Ефременко, и обратиться ко всем рабочим шахты с призывом подавать штабу рационализаторские предложения для ускорения проходки шахты.
Уже на третий день стали обнаруживаться результаты этих мер. Проходка шахты заметно ускорилась, и с каждым днём скорость продолжала нарастать. Цейтлин вместе с группой инженеров всё время занимался рассмотрением рабочих предложений, поступавших в огромном количестве.
На третий день после совещания, среди сообщений об ускорении работ по проходке шахты, штаб упомянул и о затруднениях экспедиции с кислородом. Страна насторожилась, но все верили, что удастся вовремя добраться к снаряду через шахту.
Цейтлин, Андрей Иванович и весь штаб жили теперь между страхом и надеждой: вести из снаряда о положении с кислородом получались неясные, уклончивые – "делаем всё возможное". Разговоры со снарядом происходили всё реже и короче. Бывали случаи, когда радиостанция экспедиции совсем не отвечала: радиоприёмник внизу выключали до твёрдо установленного официального часа переговоров – коротких, томительных, однообразных. Голоса звучали устало. Говорил почти всегда один Мареев, остальные не подходили к аппарату.
На пятый день после совещания и на одиннадцатый после катастрофы Цейтлин отошёл от микрофона совершенно разбитый, в состоянии полного смятения и растерянности. Шатаясь, с посиневшими губами и трясущейся щекой, он вместе с Андреем Ивановичем вышел из аппаратной.
– г Андрей Иванович… голубчик… – как в забытье шептал Цейтлин, когда они остались одни. – Там плохо… Там очень плохо… Они не выдержат… я чувствую это… они не дотянут.
Хриплое клокотанье вырвалось из его горла. Он сотрясался всем своим огромным телом, как в приступе жестокой лихорадки.
– Шахта уже пройдена на двести двадцать метров… Проходка идёт по метру в час, и с каждым днём быстрота нарастает. И всё ещё нужно двадцать суток… Двадцать суток, не меньше! Что делать?.. Андрей Иванович, голубчик, что делать?..
Сжав потными ладонями голову, Цейтлин опустился на стул.
Они молча сидели некоторое время: Цейтлин – сжимая голову и тихо покачиваясь на стуле, Андрей Иванович – глядя пустыми глазами в тёмный угол огромного зала.
Послышался стук в дверь. Радист осторожно приоткрыл её и просунул голову в щель.
– Можно, Илья Борисович?.. Радиограмма из Грозного… Лично вам в руки…
– Потом, Василий Егорыч, – прервал его Андрей Иванович, – потом…
– Нет, нет! – устало вмешался Цейтлин. – Давайте.
Вяло развернув серую бумажку, он медленно читал ряды квадратных букв. Потом застыл на мгновение с раскрытым ртом и вдруг вскочил, как подброшенный гигантской пружиной.
– Идиот! – крикнул он, хлопая себя по лбу. – Боже мой, какой идиот! Как я сам об этом не подумал?
Он уже не мог стоять на месте. Он носился по комнате, и даже паркет под ним не успевал скрипеть.
– Нет, нет! – продолжал он, захлебываясь от возбуждения. – Мы с вами гениальные люди… Мы настаивали, чтобы сказать через газеты всю правду!
– Да в чём дело? – вскричал наконец совершенно сбитый с толку Андрей Иванович.
– Читайте!.. читайте!.. – сунул ему радиограмму Цейтлин. – Ой, не могу больше! Не выдержу!
Он остановился перед Андреем Ивановичем, радостный, сияющий, и вдруг пустился в пляс, в дикий, слоновый пляс, размахивая руками, задыхаясь и крича:
– Ура!.. Они спасены!.. Они спасены!..
Андрей Иванович, дрожа от нетерпения, с покрасневшими щёками, читал строчки радиограммы.
"Понял из газеты, что экспедиции угрожает недостаток кислорода. Полагаю, что шахта не поспеет. Предлагаю бурить скважину к снаряду. Ручаюсь через трое суток добраться, пустить кислород. Радируйте Грозный, Новый Восточный промысел. Бурильщик-орденоносец Георгий Малинин".
Через пятнадцать минут по эфиру неслась радиограмма:
"Грозный, Новый Восточный промысел. Бурильщику-орденоносцу Георгию Малинину. Немедленно, не теряя минуты, вылетайте с новейшим бурильным станком, бригадой помощников по вашему выбору и комплектом инструментов. Одновременно радируем директору промысла. Спешите! Штаб помощи подземной экспедиции: Чернов, Цейтлин".
Ещё через пять часов огромный самолёт «АНТ-88», распахнув широко крылья, поднялся над грозненским аэродромом, нагруженный станками, инструментами и имея на борту лучшую бригаду бурильщиков Грознефти во главе с знаменитым Георгием Малининым. Бесшумно сделав круг над аэродромом, самолёт лёг на курс и, серебрясь в лучах заходящего солнца, стремительно понёсся на северо-запад.
Все попытки Цейтлина даже в установленный для разговора час сообщить Марееву радостную новость оставались безуспешными: радиостанция снаряда не принимала позывных, и к микрофону никто не подходил…
Глава 23
Вспышка эгоизма
Володя не может заснуть. Он неподвижно лежит в гамаке, устремив глаза в одну точку. Он боится этих часов, отведённых для сна, боится мыслей, овладевающих им, как только потухают все лампы и синий колпачок опускается на одну из них, дежурную.
– В других случаях я тоже так подумал бы. Но здесь дело идёт о вас… о вашей жизни… Ты можешь предложить что-нибудь другое?
Ответа не последовало, и Цейтлин продолжал:
– Проходка идёт теперь по пятнадцати-шестнадцати метров в сутки. Уже пройдено девяносто шесть метров. Я обещаю тебе, что через двадцать пять – двадцать шесть суток мы доберёмся до вас. Хотя бы мне пришлось лопнуть!.. Я прошу тебя, Никитушка… умоляю… дотяни! Растяни! Думай, придумывай, изворачивайся… Может быть, там у вас какие-нибудь резервы: вода, химические материалы… Ниночка! Я особенно тебя прошу… Ты же химичка… Ты же умница…
И все в шаровой каюте, лишившейся телевизора, ярко представили себе, как Цейтлин стоит перед микрофоном и упрашивает их: увидели всю его несуразную фигуру и прикрытые стёклами огромных очков маленькие умные глаза, полные мольбы, любви и смертельной тревоги.
У Малевской начали краснеть веки. Ей хотелось и плакать и смеяться.
– Илюша!.. Голубчик!.. Надо ли об этом говорить?.. Мы, конечно, сделаем всё, что только возможно…
– Нет, нет, Ниночка! Не только то, что возможно, а больше, чем возможно… Ты понимаешь, мне важно, чтобы у вас руки не опустились, иначе… иначе вы и меня и всех тут просто подведёте!
– Об этом не беспокойся, Илья, – твёрдым голосом сказал Мареев. – Мы будем бороться до последнего вздоха.
– А я беру обязательство: сверх последнего вздоха сделать ещё три лишних и вызываю Никиту на соревнование, – не мог удержаться, чтобы не побалагурить, Брусков.
– Ну, вот и отлично! Вот и отлично! – радовался Цейтлин, придерживая рукой подрагивающую щёку. – Вы теперь идите и устраивайте своё кислородное хозяйство, а я побегу, дел масса. Ну, до свиданья… Вечерком ещё поговорим… И Андрей Иванович вернётся из Сталино к тому времени… Не теряйте бодрости. Будьте уверены: всё, что надо, сделаем… Обнимаю вас… Бегу…
Но он никуда не убежал. Он тяжело опустился на стул и, поддерживая одной рукой щёку, другой достал свой огромный платок и принялся вытирать покрытое потом лицо.
Он так и остался сидеть в неподвижности, с остановившимися глазами, со скомканным платком в руке.
В аппаратной было тихо. Два члена штаба, радисты, главный инженер шахты «Гигант», руководивший проходкой шахты к снаряду, – все сидели, застыв в глубоком молчании, не зная, что сказать. Через раскрытые окна в комнату врывался смешанный, напряженный гул – лязг железа, шум моторов, крики людей: работа по проходке шахты не прекращалась.
Наконец Цейтлин шумно вздохнул и повернул голову.
– Василий Егорыч, – сказал он одному из радистов, – вызовите из Сталино Андрея Ивановича, скажите, чтобы немедленно возвратился сюда. Через час созывается заседание штаба.
Он с трудом встал, держась за спинку стула.
– Я пойду к себе, в гостиницу.
Все молчали. Он вышел из комнаты, провожаемый взглядами, полными горя.
После сообщения Цейтлина о безуспешной попытке снаряда двинуться с места и о ничтожных запасах кислорода у экспедиции штаб принял решение добиваться всеми мерами ещё большего ускорения работ по проходке шахты. Решили усилить взрывные работы, применить новый способ подачи выработанной породы на поверхность, предложенный бригадиром Ефременко, и обратиться ко всем рабочим шахты с призывом подавать штабу рационализаторские предложения для ускорения проходки шахты.
Уже на третий день стали обнаруживаться результаты этих мер. Проходка шахты заметно ускорилась, и с каждым днём скорость продолжала нарастать. Цейтлин вместе с группой инженеров всё время занимался рассмотрением рабочих предложений, поступавших в огромном количестве.
На третий день после совещания, среди сообщений об ускорении работ по проходке шахты, штаб упомянул и о затруднениях экспедиции с кислородом. Страна насторожилась, но все верили, что удастся вовремя добраться к снаряду через шахту.
Цейтлин, Андрей Иванович и весь штаб жили теперь между страхом и надеждой: вести из снаряда о положении с кислородом получались неясные, уклончивые – "делаем всё возможное". Разговоры со снарядом происходили всё реже и короче. Бывали случаи, когда радиостанция экспедиции совсем не отвечала: радиоприёмник внизу выключали до твёрдо установленного официального часа переговоров – коротких, томительных, однообразных. Голоса звучали устало. Говорил почти всегда один Мареев, остальные не подходили к аппарату.
На пятый день после совещания и на одиннадцатый после катастрофы Цейтлин отошёл от микрофона совершенно разбитый, в состоянии полного смятения и растерянности. Шатаясь, с посиневшими губами и трясущейся щекой, он вместе с Андреем Ивановичем вышел из аппаратной.
– г Андрей Иванович… голубчик… – как в забытье шептал Цейтлин, когда они остались одни. – Там плохо… Там очень плохо… Они не выдержат… я чувствую это… они не дотянут.
Хриплое клокотанье вырвалось из его горла. Он сотрясался всем своим огромным телом, как в приступе жестокой лихорадки.
– Шахта уже пройдена на двести двадцать метров… Проходка идёт по метру в час, и с каждым днём быстрота нарастает. И всё ещё нужно двадцать суток… Двадцать суток, не меньше! Что делать?.. Андрей Иванович, голубчик, что делать?..
Сжав потными ладонями голову, Цейтлин опустился на стул.
Они молча сидели некоторое время: Цейтлин – сжимая голову и тихо покачиваясь на стуле, Андрей Иванович – глядя пустыми глазами в тёмный угол огромного зала.
Послышался стук в дверь. Радист осторожно приоткрыл её и просунул голову в щель.
– Можно, Илья Борисович?.. Радиограмма из Грозного… Лично вам в руки…
– Потом, Василий Егорыч, – прервал его Андрей Иванович, – потом…
– Нет, нет! – устало вмешался Цейтлин. – Давайте.
Вяло развернув серую бумажку, он медленно читал ряды квадратных букв. Потом застыл на мгновение с раскрытым ртом и вдруг вскочил, как подброшенный гигантской пружиной.
– Идиот! – крикнул он, хлопая себя по лбу. – Боже мой, какой идиот! Как я сам об этом не подумал?
Он уже не мог стоять на месте. Он носился по комнате, и даже паркет под ним не успевал скрипеть.
– Нет, нет! – продолжал он, захлебываясь от возбуждения. – Мы с вами гениальные люди… Мы настаивали, чтобы сказать через газеты всю правду!
– Да в чём дело? – вскричал наконец совершенно сбитый с толку Андрей Иванович.
– Читайте!.. читайте!.. – сунул ему радиограмму Цейтлин. – Ой, не могу больше! Не выдержу!
Он остановился перед Андреем Ивановичем, радостный, сияющий, и вдруг пустился в пляс, в дикий, слоновый пляс, размахивая руками, задыхаясь и крича:
– Ура!.. Они спасены!.. Они спасены!..
Андрей Иванович, дрожа от нетерпения, с покрасневшими щёками, читал строчки радиограммы.
"Понял из газеты, что экспедиции угрожает недостаток кислорода. Полагаю, что шахта не поспеет. Предлагаю бурить скважину к снаряду. Ручаюсь через трое суток добраться, пустить кислород. Радируйте Грозный, Новый Восточный промысел. Бурильщик-орденоносец Георгий Малинин".
Через пятнадцать минут по эфиру неслась радиограмма:
"Грозный, Новый Восточный промысел. Бурильщику-орденоносцу Георгию Малинину. Немедленно, не теряя минуты, вылетайте с новейшим бурильным станком, бригадой помощников по вашему выбору и комплектом инструментов. Одновременно радируем директору промысла. Спешите! Штаб помощи подземной экспедиции: Чернов, Цейтлин".
Ещё через пять часов огромный самолёт «АНТ-88», распахнув широко крылья, поднялся над грозненским аэродромом, нагруженный станками, инструментами и имея на борту лучшую бригаду бурильщиков Грознефти во главе с знаменитым Георгием Малининым. Бесшумно сделав круг над аэродромом, самолёт лёг на курс и, серебрясь в лучах заходящего солнца, стремительно понёсся на северо-запад.
Все попытки Цейтлина даже в установленный для разговора час сообщить Марееву радостную новость оставались безуспешными: радиостанция снаряда не принимала позывных, и к микрофону никто не подходил…
Глава 23
Вспышка эгоизма
Володя не может заснуть. Он неподвижно лежит в гамаке, устремив глаза в одну точку. Он боится этих часов, отведённых для сна, боится мыслей, овладевающих им, как только потухают все лампы и синий колпачок опускается на одну из них, дежурную.