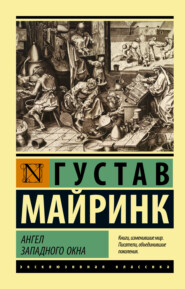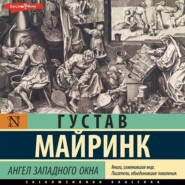По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вальпургиева ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы находите это странным, ваше превосходительство? И всерьез полагаете, что человеку из толпы, которая топчет здешние стогны, дано хоть самое немудрящее «я»? Да они просто пустышки. Вернее, каждую минуту одержимы каким-нибудь новым призраком, который заменяет им «я». И разве вашему превосходительству не приходилось ежедневно убеждаться, что ваше «я» переходит к другим? Вы никогда не замечали такую вещь: люди испытывают к вам неприязнь, когда вы с неприязнью думаете о них?
– Это можно объяснить тем, – возразил Флюгбайль, – что приязнь или неприязнь отражается на лице.
– Вот оно что! – Усатый фантом саркастически рассмеялся. – А если речь идет о слепых? Как быть с ними? Они что, угадывают мимику?
«Можно определить по интонации», – хотел было сказать господин лейб-медик, но все же промолчал, почувствовав в глубине души правоту собеседника.
– Рассудок всегда сведет все концы с концами, особенно не очень острый, который путает причины и следствия… Только не надо прятать голову в песок, ваше превосходительство! Страусиная тактика не годится для… Пингвина.
– Да вы просто наглец! – взорвался лейб-медик, что, однако, ничуть не смутило фантома.
– Лучше быть наглецом, чем таким, как вы, ваше превосходительство. Разве не наглость – ваши попытки углядеть сквозь очки науки сокровенную жизнь «лунатика»? Можете дать мне пощечину, если это принесет вам облегчение. Но учтите, меня вы и не коснетесь. В лучшем случае ударите бедного Зрцадло… И представьте себе, точно так же обстоит дело с «я». Если вы разобьете лампу, думаете, тем самым будет нанесен урон электричеству? Вот вы минуту назад спросили, вернее, подумали про свое «я»: «Выходит, оно покинуло меня и переселилось в него?» На это я вам отвечу: истинное «я» можно распознать только по его воздействию, оно не имеет протяженности, именно поэтому оно повсюду. Понимаете? Оно не налично, а над-лично и вездесуще!
И пусть вас не удивляет, что ваше так называемое собственное «я» отчетливее проявляется в другом человеке, нежели в вас самом. К сожалению, вы, как и почти все люди, с пеленок пребываете в заблуждении относительно своего «я», подразумевая под этим ваше тело, ваш голос, склад ума и бог знает что еще. А потому понятия не имеете о природе «я»… Оно протекает сквозь людей, поэтому необходимо заново научиться мыслить, только таким путем можно обрести себя в собственном «я»… Вы масон, ваше превосходительство? Нет? Жаль. Иначе вы бы знали, что в некоторых ложах «подмастерью» предписывается пятясь входить в святилище Мастера. И кого же он там найдет? Никого. А если и найдет, то это будет «ты», а не «я». Ибо «я» есть Мастер!..
«Что это? Уж не ментор ли со мной говорит? – можете вы спросить не без некоторых оснований. – Взялся, видите ли, поучать, хотя никто его не просил». Успокойтесь, ваше превосходительство, настал добрый час в вашей жизни. Многим это вообще не суждено… Впрочем, я – вовсе не ментор. Я – маньчжур.
– Кто-кто?
– Маньчжур. Из горного Китая, из Срединной Империи. О чем вы и сами могли бы догадаться по моим характерным усам. Срединная Империя лежит к востоку от Градчан. Если бы вы даже решились перейти мост через Влтаву и посетить Прагу, вам пришлось бы одолеть еще изрядную дистанцию на пути в Маньчжурию.
Только я отнюдь не мертвец, как вы, вероятно, могли заключить, подумав, что я использую тело Зрцадло в качестве зеркала, дабы предстать перед вами в зримом образе. Напротив, я очень даже живой. А на сокровенном Востоке и кроме меня найдутся… живые. Однако не поддавайтесь искушению добраться до Срединной на своих дрожках с соловым тяглом, чтобы свести со мной более тесное знакомство! Срединная Империя, в которой мы проживаем, есть истинная сердцевина. Это – центр мира, и он повсюду. Всякая точка в бесконечном пространстве является его центром… Вам понятна моя мысль?
«Да он никак смеется надо мной? – наморщив лоб, подумал лейб-медик. – Если он действительно человек мыслящий, зачем дурака-то валять?»
По лицу актера скользнула едва уловимая улыбка.
– Разумеется, ваше превосходительство. Я ведь, как известно, шут гороховый. Кто не способен почувствовать в юморе серьезную подоплеку, тот не может и посмеяться над мнимой серьезностью, которую зануда принимает за образец мужского характера, а потому становится жертвой вымученных восторгов и так называемых жизненных идеалов… Высшая мудрость облачается в шутовские наряды!.. Почему? Потому что все, что рассматривается как (и только как) одеяние, оболочка, все – даже человеческое тело – поневоле становится шутовским нарядом… Для всякого, кто называет истинное «я» своим собственным, его тело, как и тела других, – не более чем шутовской наряд. Думаете, «я» сумело бы выжить в этом мире, если бы мир был таким, как кажется?.. Вы скажете: куда ни глянь, всюду кровь и ужас… Но откуда все это? Так вот, уверяю вас: все во внешнем мире основано на законе двух знаков – плюса и минуса. Говорят, мир сотворен боженькой. А вам не приходило в голову, что это лишь игра, которую затеяло «я»? С тех пор как человечество обнаружило способность мыслить, каждый год множилось число гурманов так называемого смирения, фальшивого разумеется. Ну не мазохизм ли это, прикрытый холстинкой самообольщенного благочестия? Это я называю «знаком минус». И такие минусы, накапливаемые веками, образуют вакуум, который затягивает в пределы невидимого мира то, что чуждо ему, – кровожадные, злотворные плюсы, порождает смерч демонов, и они завладевают человеческим мозгом, чтобы развязывать войны, сеять раздор, нести смерть; так же как я, обращаясь к вам, делаю своим рупором уста некоего актера.
Каждый из нас – инструмент, только не знает этого. И лишь «я» свободно от этой функции. Оно пребывает в Срединном Царстве, в удалении от плюсов и минусов. Все же прочее – инструмент, орудие в чьих-то руках. Невидимое – инструмент «я».
Тридцатого апреля наступает Вальпургиева ночь. И тогда, по народному поверью, вырываются на волю злые духи. Но есть и космические Вальпургиевы ночи, ваше превосходительство. Однако они так далеко отстоят друг от друга во времени, что человечество не может хранить их в памяти, и потому они всякий раз кажутся новым, небывалым явлением.
И вот теперь пробил час этой космической Вальпургиевой ночи.
Высшее опускается в самый низ, а низшее возносится к самым вершинам. На нас обрушивается цепь событий, возникающих почти без всяких причин, им уже нет «психологического объяснения», как в некоторых романах, где половая проблема «священной любви» облекается в кружева глубокомыслия, чтобы она предстала в еще более бесстыдном блеске как суть бытия, а удачный брак бесприданницы из мещанской семьи выглядит счастливым финалом душещипательной поэмы.
Вновь пробил час, когда псы в предчувствии дикой охоты могут сорваться с цепей, но нам кое-что перепало – нарушен высший закон молчания! Завет: «Народы Азии, храните в тайне свои священнейшие ценности» – уже не имеет силы. Мы жертвуем им во благо тех, кто созрел для «полета». Мы можем говорить.
Вот единственная причина, побудившая меня к общению с вами, ваше превосходительство. Таково веление часа, и ваши личные заслуги тут ни при чем. Пришло время, когда «я» должно сказать свое слово многим.
Кому-то не удается понять моей речи и приходится испытать смятение, свойственное глухому, который ломает голову над загадкой: «Со мной говорит некто, но я не знаю, чего он от меня хочет». Такой человек будет заморочен безумным стремлением совершить нечто, продиктованное не высшей волей «я», а повелением дьявольского «знака плюс» на кровавом небосклоне космической Вальпургиевой ночи.
То, что я сказал вашему превосходительству, на сей раз исходит от некоего магического образа, который лишь отражается в Зрцадло. Даже слова изрекаются в Срединном Царстве, а это, как вы уже знаете, голос «я», царствующего всюду и над всеми.
Сановные предки вашего превосходительства смладу были рабами честолюбивого стремления выбиться в императорские лейб-медики – а не пора ли теперь вам немного поразмыслить над исцелением собственной души, ваше превосходительство?
До сих пор вы – к великому прискорбию, не могу умолчать об этом – воспаряли не слишком высоко. «Шнелль» с его паприкой находится не в столь близком соседстве с вожделенным Срединным Царством, как хотелось бы… Зачатки же крыльев у вас есть (что бывает с теми, у кого и этого нет, вы могли только что наблюдать на примере господина главного управляющего), иначе я бы не тратил на вас время. Итак, крыльев пока нет, но что-то такое трепыхается, как… как у… пингвина…
Кто-то щелчком повернул дверную ручку, прервав проповедь усатого призрака, в зеркале на медленно открываемой двери каруселью проплыл интерьер зала, все предметы как бы сорвались со своих мест, и на пороге появился квартальный.
– Извиняйте, господа! Время двенадцать! Производим закрывание!
И не успел господин императорский лейб-медик раскрыть рот, в котором уже ворочался один из вопросов, взбудораживших все его существо, как актер молча покинул заведение.
Глава пятая
Авейша
Каждый год 16 мая, в день Иоанна Непомука, святого покровителя Богемии, на первом этаже дворца барона Эльзенвангера по распоряжению самого хозяина устраивали пиршественный ужин для слуг. Их господин, по старинному градчанскому обычаю, должен был восседать во главе стола собственной персоной.
На таких празднествах, которые начинались ровно в восемь и заканчивались с последним ударом часов, возвещавшим полночь, как бы стирались все сословные различия, господа и слуги пировали как равные, в разговорах переходили на «ты» и жали друг другу руки.
Если в господском семействе был сын, то представлять на ужине хозяев дома надлежало ему, если нет, эта обязанность возлагалась на старшую из дочерей.
После истории с лунатиком барон Эльзенвангер настолько скис, что поручил свою роль за праздничным столом внучатой племяннице – юной графине Поликсене. Он сделал это в библиотеке, где в окружении множества книг, к которым он ни разу в жизни не прикасался, барон при свете свечи трудился за письменным столом; правда, перо и бумагу ему заменяли спицы и вязаный чулок. Когда спустилась петля, Эльзенвангер оторвался от работы и сказал:
– Видишь ли, Ксенерль! Я вот тут подумал, ты ведь мне все равно как родная дочь, а люди будут проверенные. Ежели потом спать припрет, а домой идти поздно, ночуй в гостевой. Ладушки?
Поликсена, словно очнувшись, улыбнулась и, чтобы подать хоть какую-то реплику, хотела было возразить, что уже велела поставить кровать в галерее, но вовремя сообразила, в какое волнение придет при этом известии дядюшка, и смолчала. Они еще не менее часа безмолвно просидели напротив друг друга в полутемной комнате: он – в своем кресле с подголовником – тянул нить из желтого клубка шерсти под ногами, тяжко вздыхая каждые две минуты, будто сердце разрывалось; она – в кресле-качалке под глыбой из пожелтевших фолиантов, куря сигарету и рассеянно слушая монотонное позвякивание спиц.
И вдруг она увидела, как руки со спицами перестали двигаться, чулок выпал, и дядюшка тут же, свесив голову, погрузился в мертвый старческий сон.
Какой-то невыносимый гнет телесной усталости и внутренней боли, которой ее терзало нечто, чему она не знала названия, приковал Поликсену к креслу. Она попыталась было подняться – не открыть ли окно, может, взбодрит прохладный, освеженный дождем воздух? Но из опасения разбудить старика и вернуться к скучнейшему разговору так и не решилась встать. Поликсена оглядела скудно освещенную единственным огарком комнату.
На полу – темно-красный ковер с унылым узором в виде каких-то гирлянд, каждую завитушку она видела с закрытыми глазами еще с детских лет, и теперь ее вновь душил запах коверной пыли, который столько раз доводил ее до слез и отравил столько часов, проведенных в этом доме. А как въедалась в душу вечная песня: «Смотри, Ксенерль, не посади пятнышка на платьишко!» Зоревая пора ее ранней юности тускнела под серым покровом. Поликсена в ярости стиснула зубы и отбросила прочь перекушенную сигарету.
Все ее детство представлялось теперь беспрерывным метанием между какими-то уголками, где она тщетно пыталась укрыться от тоски и отчаяния. И, вспоминая это при виде заплесневелых, склеившихся книг, которые она так часто листала когда-то в смутной надежде найти один портрет, Поликсена невольно сравнивала себя в те годы с птичкой, случайно залетевшей сюда и слабеющей от жажды под сводами склепа, где нет ни капли воды. Какой уж там полет, когда на всю неделю тебя запирают в угрюмом замке тетки, потом – воскресные муки здесь, у Эльзенвангера, и опять за ограду, к графине Заградке.
Она остановила свой взгляд на лице барона. Его дряблые, безжизненные веки были так плотно сомкнуты, что казалось, он уже никогда не сможет открыть глаза.
И она вдруг поняла, что ей так ненавистно в нем – в нем и в тетке, – это сам вид их сонно-окаменелых лиц.
Ей припомнилось полузабытое и вроде бы ничтожное, как песчинка, событие детской поры. Девочка, которой не исполнилось и четырех лет, лежа в кроватке, внезапно проснулась, то ли от жара, то ли растревоженная страшным сном, открыла глаза и закричала, но никто не приходил к ней, и, приподнявшись, она увидела сидевшую посреди комнаты тетку – та спала, замерев в неестественной неподвижности, точно статуя с черными ободками очков вокруг глаз, нет, она напоминала мертвого коршуна, и от нее веяло беспощадной жестокостью.
С тех пор в детской душе укоренилось не вполне осознанное отвращение ко всему, что каким-то образом символизировало смерть. Сначала и довольно долго это проявлялось как необъяснимый страх при взгляде на лица спящих людей, позднее он перерос в инстинктивную неприязнь и ненависть ко всему мертвому, обескровленному. Такую глубокую, какая могла зародиться лишь в сердце, в котором жажда жизни, подавляемая диктатом семейных традиций, затаилась до времени, чтобы в роковой миг вспыхнуть, подобно пламени, и сжечь дотла все, что называлось жизнью.
Сколько она себя помнила, ее всегда окружала дряхлость, старческая немощь тел, мыслей, слов и поступков, которая запаутинила все: на стенах висели портреты стариков и старух, а весь город, улицы и дома, казалось, дышали на ладан; даже мох на стволах древних деревьев в саду был седым, как борода старца.
Потом ее отдали на воспитание в монастырь Sacrе Coeur[4 - Святого Сердца (фр.).]. И в первые дни новизна обстановки озаряла ее каким-то невиданным светом, но этот свет становился все бледнее и призрачнее, все больше напоминал спокойное мерцание лампады, а вскоре настолько уподобился последнему лучу заката, что душа, сотворенная отнюдь не для хищного зверя, втайне сжималась, словно пружина, для коварного прыжка.
Там, в монастыре, было впервые произнесено слово «любовь», что означало любовь к Спасителю, образ которого всечасно стоял перед ее взором. Поликсена, как воочию, видела пригвожденное к кресту тело с кровавыми стигматами, кровоточащими ранами на груди и алыми каплями, сочившимися из-под тернового венца. Это была и любовь к молитве, облекавшей в слова то, к чему был прикован внутренний взор: кровь, муки крестного пути, бичевание, распятие, кровь, кровь… Потом – любовь к чудотворному образу, статуе Богоматери с семью мечами, вонзенными в сердце. Кровавое мерцание висячих светильников. Кровь. Кровь.
И кровь как символ жизни обагрила душу Поликсены, окрасила собой все ее помыслы.
Вскоре она превзошла своей истовостью всех прочих благородных девиц – воспитанниц монастыря.
Но при этом была и самой страстной, сама того не сознавая.