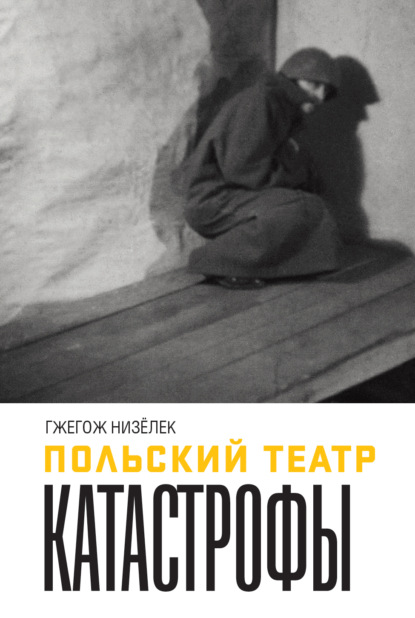По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Польский театр Катастрофы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Польский театр Катастрофы
Гжегож Низёлек
Театральная серия
Трагедия Холокоста была крайне болезненной темой для Польши после Второй мировой войны. Несмотря на известные факты помощи поляков евреям, большинство польского населения, по мнению автора этой книги, занимало позицию «сторонних наблюдателей» Катастрофы. Такой постыдный опыт было трудно осознать современникам войны и их потомкам, которые охотнее мыслили себя в категориях жертв и героев. Усугубляли проблему и цензурные ограничения, введенные властями коммунистической Польши. Книга Гжегожа Низёлека посвящена истории напряженных отношений, которые связывали тему Катастрофы и польский театр. Критическому анализу в ней подвергается игра, идущая как на сцене, так и за ее пределами, – игра памяти и беспамятства, знания и его отсутствия. Автор тщательно исследует проблему «слепоты» театра по отношению к Катастрофе, но еще больше внимания уделяет примерам, когда драматурги и режиссеры хотя бы подспудно касались этой темы. Именно формы иносказательного разговора о Катастрофе, по мнению исследователя, лежат в основе самых выдающихся явлений польского послевоенного театра, в числе которых спектакли Леона Шиллера, Ежи Гротовского, Юзефа Шайны, Эрвина Аксера, Тадеуша Кантора, Анджея Вайды и др. Гжегож Низёлек – заведующий кафедрой театра и драмы на факультете полонистики Ягеллонского университета в Кракове.
Гжегож Низёлек
Польский театр Катастрофы
Ренате и памяти моего отца
Введение
Самое важное – постараться прочувствовать, что все это находилось в поле зрения, что произошло на самом деле и что каждый видел хотя бы фрагмент происходящего.
В «Актуальности Холокоста» Зигмунт Бауман[1 - Бауман З. Актуальность Холокоста. М.: Европа, 2010. (Оригинальное название книги – «Современность и Катастрофа». – Примеч. пер.)] поставил вопрос, способна ли социология как наука, которая выросла из просвещенческих модернизационных проектов, внести что-то существенное в наше знание о Катастрофе. Не «слепа» ли она по отношению к Катастрофе? Не привыкла ли она, будучи созданием просвещенного разума, раз за разом подтверждать всю ту же веру в социальный прогресс и способность человечества морально себя совершенствовать, идя по пути улучшения общественной самоорганизации, и следовательно – не привыкла ли она трактовать Катастрофу исключительно как аберрацию и варварство, которому можно оказать сопротивление – морально, политически и идеологически? Так социология вроде бы защищает догматы гуманизма, которые Катастрофа самим фактом, что она имела место, внезапно уничтожила. Бауман предложил, как мы помним, радикально изменить перспективу. Катастрофа, по его мнению, – это не поражение модернизационных проектов в обществе, а их интегральная часть, вырастающая из тех же самых предпосылок; ее реализация стала возможной в столь массовом масштабе благодаря внедренным в повседневную общественную практику моделям функциональности и продуктивности, неразрывно связанным с идеологиями современности. Социолог, занимающийся Катастрофой, должен, таким образом, пересмотреть основополагающие положения своей научной дисциплины, изучить и поставить под вопрос все, что их обосновывает, и все те догмы, из которых она исходит. «Социология не способна предоставить нам знание о Катастрофе, ей самой следует учиться у Катастрофы», не уставал повторять Бауман.
Его выводы, несколько переформулированные, я и пытаюсь применить к театру. Не должны ли были формы театра, рожденные на почве образовательных проектов Просвещения и романтических идеологий национально-освободительной борьбы (а также процедуры, создаваемые в рамках таких форм театра), стать, по своему определению, инструментом, при помощи которого практикуются общественные и индивидуальные стратегии защиты по отношению к такому опыту, каким была Катастрофа? Могли ли выработанные в рамках театральных институций практики, при помощи которых создаются спектакли, конструируются идентичности (базирующиеся на вытеснении инакости) и устанавливаются отношения со зрительным залом (понимаемым как некая человеческая общность), способствовать тому, чтобы честно проработать пережитое: все то, что изолировало друг от друга разные социальные группы и, как пишет Ежи Едлицкий, слишком высоко подняло планку эмпатии? Не получилось ли так, что театр, рассчитывая на его традиции, рьяно запрягли в идеологические проекты, направленные на вытеснение памяти о слишком болезненном прошлом? И не стал ли театр в результате – так же как критикуемая Бауманом социология – «слепым» по отношению к Катастрофе? В этой книге на множестве примеров я анализирую, чем была обусловлена эта слепота, хотя больше всего внимания уделяю анализу случаев «плохого видения» (и все же – видения!).
Явление слепоты театра по отношению к Катастрофе, однако, – тревожащее и парадоксальное. Ведь все свидетельства Катастрофы наполнены театральными метафорами, о Катастрофе невозможно рассказать без таких слов, как: игра, маска, иллюзия, режиссура, роль, сцена, кулисы, непристойность, трагедия, жертва. Выжившие готовы определять себя как «комедиантов», которым удалось остаться в живых только благодаря «игре». Те, кто наблюдал события того времени, охотнее всего и дальше бы скрывались в темноте зрительного зала. Те, кто вершил преступления, хотели бы видеть свои действия (если бы им разрешили) как трагическое произведение. Более того, эти метафоры не только позволяют описать события Катастрофы, но также по-своему их обусловливают, организуют, приводят в движение. Каждое событие Катастрофы опиралось на распределение ролей и организацию поля зрения. Театр, таким образом, был втянут в дело Катастрофы в качестве поставщика как зловещих стратегий в ходе создания иллюзии, оправдания пассивных позиций, так и инструментов спасения (хотя бы благодаря изменению идентичности скрывающихся людей). Что не позволяет нам сегодня рассматривать эти события как брешь в истории культуры, поскольку они – ее неотъемлемая часть. Мысля таким образом, я ощущаю себя должником по отношению к Зигмунту Бауману и его книге.
Начиная свои рассуждения, я вспоминаю один из «банальных» эпизодов Катастрофы: реакцию польских прохожих на неожиданное появление на варшавской улице еврея, выгнанного из своего убежища. Хотя пример взят из романа Казимежа Брандыса «Самсон», известно, что писатель его не выдумал и что этот случай – больше чем элемент литературного вымысла. Брандыс зафиксировал один из эпизодов, свидетелем которых сам мог быть в оккупированной Варшаве. То, что я отказываюсь сохранять уважительную дистанцию к описанному в романе событию как к литературной фикции, предвосхищает мою стратегию трактовки театра как пространства, где даются свидетельства, а не где создаются спектакли. К описанному Брандысом уличному инциденту я не раз обращаюсь в первой части книги, стараясь прежде всего проанализировать, что переживали прохожие, которые самих себя позиционировали в ролях пассивных и бессильных зрителей, в шатающемся еврее увидели протагониста, жертву трагического зрелища, а отсутствующих в этот момент преследователей/палачей признали безжалостной судьбой. Событие, в котором участвовали, они, следовательно, преобразили в театр, с присущими ему ролями и непреодолимыми линиями разделов между сценой и зрительным залом – таким образом помечая эту ситуацию знаками фальшивой трансцендентности. Не я навязываю этому эпизоду театральную структуру, именно так прочитывали ее – или не до конца осознанно ощущали – сами его участники. Отсюда название первой главы: «Театр ротозеев». Я концентрируюсь в ней на явлении вытеснения позиции свидетеля чужого страдания и на том, как это вытеснение складывалось исторически, иначе говоря, на изменяющихся формах его культурных симптомов. Причиной столь сильного вытеснения не является само событие, то есть вызывающая ужас судьба кого-то иного, но занятая в этом событии позиция, чаще всего – позиция пассивная. Сильно упрощая, можно сказать, что вытеснение польским обществом памяти о собственном безразличии оказало решающее влияние на то поле напряжений, которое сложилось во всей послевоенной польской культуре – конечно, если мы предполагаем, что истребление евреев, сцены их преследования, унижения, исключения из человеческого сообщества и убийства были хорошо видимым и повсеместным опытом общества bystanders (как называет сторонних наблюдателей Катастрофы Рауль Хильберг). За театром в истории этого вытеснения следует признать особую роль, поскольку он принимал участие как в процессах, поддерживающих состояние вытеснения, так и в попытках через него пробиться. Он стал местом повторения – безустанного воспроизведения не столько вытесненных событий, поскольку они взывали бы к непосредственной и читабельной для зрителей репрезентации, сколько самого факта вытеснения. Это повторение вытеснения я и называю тем свидетельством, что было дано театром.
Один из самых важных вопросов, которые я ставлю в книге, касается влияния столь активных театральных метафор на сам медиум театра. Медиум, который Марвин Карлсон называет машиной памяти[2 - Carlson M. The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003.], – театр – появляется в его концепции как набор множимых и культурно детерминированных процедур – творческих и перцепционных – опирающихся на механизмы памяти и повторения. И если «театр», понимаемый как инструмент ограничивания поля зрения и распределения ролей – инструмент, обладающий в культуре огромной силой, – был втянут в массовое преступление, не привела ли память об этом факте к разрушению традиционных моделей театральности, прежде всего – к тому, что безопасное пребывание зрителя «вовне» происходящего вдруг оказалось поставлено под вопрос? Этой теме посвящена первая часть книги, озаглавленная «Катастрофа и театр». Я представляю в ней гипотезу глубокого преображения театра как медиума в результате повсеместного общественного опыта наблюдения чужого страдания и столь же повсеместного вытеснения этого опыта. Когда дают сбой механизмы репрезентации – то есть создания читабельных и понятных образов прошлого (а таковые по разным причинам оказались нежелательными или с трудом артикулируемыми), – театр прибегает к механизму повторения, благодаря которому может безнаказанно черпать из резервуара общественного опыта: он не обязан давать название, о чем он, собственно, говорит. Он может оперировать в пространстве табу. Затаенный опыт может быть повторяем в символическом и аффективном измерениях, ситуации вытеснения и сбой защитных механизмов – множимы во все новых вариантах, зрителя же можно ставить в неудобную для него позицию равнодушного или полного издевки наблюдателя чужого страдания, вызывая в нем шок, агрессию, равнодушие, раня его, приводя в состояние тревоги и страха. Особенно творчество Тадеуша Кантора и Ежи Гротовского, как представляется, подтверждает эту гипотезу.
В разделении регистров репрезентации и повторения я прежде всего опираюсь на фрейдовскую концепцию вытеснения – на расхождение между образом памяти и связанным с ним аффектом. Высвобожденный аффект может соединяться с другими картинами памяти; в свою очередь, картины, лишенные соответствующего им аффективного заряда, могут появиться в поле сознания как нейтральные репрезентации, которые не вызывают живых эмоциональных реакций. «Ведь мы уже не раз об этом слышали», – звучит тогда ответ зрителей. Повторение же становится результатом работы аффекта, подбирает себе деформированные или же дистанцированные образы и позволяет продлить действие аффекта, обновить его в рамках театрального опыта и в то же самое время поставить его на новые рельсы. Вызвать потрясение, но причины его оставить в состоянии мучительной неизвестности.
Маргинализация театра в изучении памяти Катастрофы должна вызывать удивление, особенно по сравнению с обилием аналитики, посвященной литературе, кино, визуальным искусствам, памятникам, музейному делу. А также и потому, что все исследования текстов культуры, посвященных Катастрофе, вырабатывают свой инструментарий, опираясь на модели театра и театральности – одновременно не решаясь ответить на тот вызов, которым по-прежнему остается осмысление: каким образом театральные стратегии соучаствовали в том, как создавалась Катастрофа (подразумевая под этим словом нечто целостное и помня о метком замечании Станислава Лема, что каждое запланированное массовое убийство создает свою автономию – подобно тому, как это делает культура)? Театральные категории, таким образом, чаще всего используются в Holocaust studies без их критического рассмотрения, как если бы театр существовал вне истории и представлял собой культурно стабильную модель генерирования идеологических разделов социального пространства, был синонимом власти и инструментом распределения ролей, резервуаром удобных метафор и легко поддающихся разоблачению стратегий самоопределения. Тот ущерб, который был нанесен театру как медиуму, не принимается во внимание.
Переосмысление роли театральных метафор как в самом деле Катастрофы, так и в дискурсе о ней заставляет с большим недоверием относиться к любой абсолютизированной концепции по поводу отношений между настоящим и прошлым. Особенно к концепции травмы, позволяющей вбирать в себя (а тем самым маскировать) слишком обширный, на мой взгляд, спектр реального опыта. О том, что оно будет спасено благодаря «травме», и мечтает общество bystanders. А что с ресентиментом, глупостью, отсутствием воображения? Исследования травмы – хороший пример того, как театральные метафоры оказываются присвоены без попытки конфронтации их с таким полиморфным медиумом памяти, каким является театр, а также без конфронтации с деструктивной стихией театральных метафор, которые всегда выводят нас к реальному опыту, а не только к символической репрезентации утраты этого опыта. Театр, прежде чем станет метафорой, должен сначала быть чувственным, конкретным, укорененным в некоем здесь и сейчас переживанием. Проведенные мною исследования исторических театральных фактов, располагающихся в широких временны?х рамках между 1946 и 2009 годами, заставляют быть недоверчивым по отношению к таким понятиям, как травма и скорбь, которыми столь часто злоупотребляют. Особенно функции оплакивания охотно присваиваются театром в связи с тем, что в нем живет смутное и мистифицированное воспоминание о собственных ритуальных корнях. Обнаружение в анализируемых спектаклях тех или иных форм повторения все того же опыта (вытеснения факта, что это общество было свидетелем чужого страдания) с трудом поддается определению и категоризации. Нужно научиться уважать их безымянность и аффективную силу, которая скорее поддается описанию в категориях эксцесса, чем утраты. Из анализа избранных театральных фактов складывается вторая, более объемистая часть книги, озаглавленная «Театр и Катастрофа». Тут анализируются спектакли Леона Шиллера, Александра Бардини, Яна Швидерского, Эрвина Аксера, Юзефа Шайны, Ежи Гротовского, Тадеуша Кантора, Казимежа Деймека, Конрада Свинарского, Анджея Вайды, Ежи Гжегожевского, Кристиана Люпы, Кшиштофа Варликовского и Ондрея Спишака. А также две польские пьесы о Катастрофе, одна из которых была написана сразу после войны, а другая – несколько лет назад: «Пасха» Стефана Отвиновского и «Наш класс» Тадеуша Слободзянека.
Свидетельство, даваемое посредством театра, не может служить, однако, никаким символическим возмещением фактов пассивности, равнодушия, страха и глупости, имевших место в прошлом. Оно не помогает проработать прошлое, не входит в число ритуалов скорби. Оно бессильно – и даже гордыня перформатики и оптимизм антропологии театра (Виктор Тэрнер всегда позиционировал театр среди ритуалов возмещения ущерба) тут не помогут. Свидетельства театра, о которых я тут пишу, ничего не способны спасти. Ничего не в состоянии представить. Они не приносят катарсиса. Но существуют. Существовали. С прошлым их соединяет симптом. Один из многих, через которые прошло общество bystanders. Единственная цель этой книги – выявить и описать этот симптом.
Как в первой, так и во второй части книги я часто ссылаюсь на понятие либидо. Идя вслед за тем, что предложили Зигмунд Фрейд и Жан-Франсуа Лиотар, я трактую эту разновидность энергии жизни как стихию трансгрессии, которая делает возможным преодоление бинарных оппозиций между опытом внутренним и общественным, между переживанием позитивным (избытка, эксцесса, налаживания связей) и негативным (утраты, пассивности, блокировки, паралича), между настоящим и прошлым, между оплакиванием и забвением. Я не могу прочитывать пространство театра иначе, нежели в перспективе «либидинальной экономии» – то есть создания аффектов и не всегда удачного контроля над ними, высвобождения их силы, последствия которой трудно предвидеть. В спектаклях, которые я разбираю, такого рода события, эпизоды, эксцессы да и либидинальные поражения занимали меня больше всего – как раз они являются для меня театральными фактами, следы которых мы все еще можем найти в сохранившейся театральной документации. Я анализировал не целостные художественные структуры, интенциональные конструкции значений, формы репрезентации, но прежде всего – общественные и художественные условия, в которых могли в рамках театрального опыта появиться те или иные аффекты. Методологический фундамент таким образом задуманного исследования я представляю в главе «Плохо увиденное».
Обратимся к первой части книги, в которой театр рассматривается не как медиум памяти о Катастрофе, а как ее активный элемент, как ее «соучастник». Станислав Лем под конец 1970?х годов поразительным образом описал театральность Катастрофы, ее связь с эсхатологическими формами христианских зрелищ – обращая внимание на либидинальный аспект Катастрофы, вписанный в нее эксцесс спектакля[3 - Лем C. Библиотека XXI века. М.: АСТ, 2002.]. Провокацию Лема у нас скромно обошли молчанием, хотя сегодня ее стоит трактовать не только как то, что оказалось провозвестием концепции Славоя Жижека, который в книге «Кукла и карлик» сделал из Катастрофы непристойный секрет европейской культуры, основанной на христианстве[4 - Жижек C. Кукла и карлик. М.: Европа, 2009.], но также и как фундаментальное дополнение – avant la lettre – тезисов Зигмунта Баумана, выдвинутых в «Актуальности Холокоста». Осуществленное с индустриальным размахом, беспрецедентное убийство людей создавало, по мнению Лема, пустоту в переживании тех, кто принимал в нем участие. Эту пустоту заняли китчевые идеи об эсхатологическом зрелище. Театр оказался тем явлением европейской культуры, которое позволяло возместить утрату переживания; он становился лекарственным средством от невозможности переживать события, в которых эти люди участвовали. Театральный китч, как объясняет Лем, закрался в «драматургию конвейерного убийства, хотя никто этого не заметил».
Театр – наиболее аутотелическое из всех искусств: явно или скрыто он стремится к самообнаружению. Используемый как ключевая метафора в любом хорошо запланированном деле деконструкции, он позволяет разоблачать разнообразные иллюзии, свои и чужие. В том числе терминологические. Поэтому в книге написание таких слов, как Катастрофа, Холокост, Шоа, появляется во всевозможных вариантах: с прописной и со строчной буквы, в том числе в англоязычной версии. Это проистекает из правил цитирования, но не только из них. Разнообразие терминов и различие в их написании должны направить внимание на идеологические, этические и эмоциональные манипуляции (и их культурные контексты), к каковым все мы без устали прибегаем в связи с этим историческим событием. Даже если сам я довольно последовательно использую слово «Катастрофа», внутренне я против него бунтую (заглавная буква, эффектное отсутствие объяснения, возвышенность, которая вымарывает реальность событий)[5 - В переводе термин «Катастрофа» заменяет утвердившийся в Польше термин Zaglada, который, в свою очередь, использует слово, чье нарицательное значение переводится как «гибель» или «уничтожение», однако при написании с прописной буквы это же слово однозначно отсылает к историческому событию уничтожения евреев в ходе Холокоста. – Примеч. пер.]. Но я соглашаюсь на компромисс с правилами коммуникации, которые выдвигают требование, чтобы название было повсеместно идентифицируемо. Я выбираю, таким образом, этот термин как менее стесняющий, чем слово «Холокост» – вызывающее, на мой взгляд, в случае польской культуры пустоту в воображении и паралич эмпатии, поскольку звучит оно чуждо, а его происхождение абсолютно нечитабельно. Стоит помнить, что Имре Кертес никогда не называл свой роман «Без судьбы» книгой о Холокосте, поскольку – как сам признавался – хотел описанные в нем переживания «поднять до уровня человеческого опыта», а термин «Холокост» считал эвфемизмом, «трусливым, лишенным воображения и поверхностным»[6 - Kertеsz I., Dossier K., przel. Elzbieta Sobolewska. Warszawa: Wydawnictwo W. A. B., 2008. S. 62–63.]. Хотя – как признавался – был вынужден во многих обстоятельствах его использовать, чтобы быть понятым. Занимаясь театром как свидетельством уничтожения евреев, я имел дело с произведениями и текстами, которые оставляли чаще всего этот опыт полностью неназванным и в то же время делали его – благодаря этой неназванности – более конкретным и осязательным.
«Мученичество не оставляет после себя никаких следов», – написала Леония Яблонкувна об Apocalypsis cum figuris Ежи Гротовского[7 - Jablonkоwna L. Klucz od przepasci // Teatr. 1969. Nr 18. S. 5.]. Опыт, заключающийся в том, что событие чрезмерно экспонировано и в то же время все следы его оказываются стерты, создал театр, о котором я пишу в этой книге, и его публику.
Катастрофа и театр
Театр ротозеев
1
«В тот день около полудня многочисленные прохожие на Иерусалимской аллее показывали друг другу глазами и пальцем на человека, который привлек на улице всеобщее внимание»[8 - Брандыс К. Самсон // Брандыс К. Между войнами. Т. 1. М.: Издательство иностранной литературы, 1957. С. 129.]. Якуба Гольда, героя «Самсона» Казимежа Брандыса, в жаркий июльский день 1943 года вспугнули из его убежища в подвале, где в течение нескольких месяцев он жил в полной темноте. Варшава к тому времени, как скрупулезно замечает автор, «очищена от евреев». Тем большее волнение и любопытство улицы будит в ярком свете дня вид этой темной, грязной, исхудалой фигуры. Кто-то вслед ему сплевывает, кто-то смеется, кто-то бросает обидное слово. Кто-то выражает бессильное сочувствие. Поначалу не все распознают в нем еврея – думают, что это слепой или сумасшедший. Но Якуб ничего этого не понимает: ослепленный солнцем и ошеломленный, он, как актер, которого вытолкнули на сцену, не видит своих зрителей, хотя, конечно, чувствует их агрессивное присутствие. Автор представляет разнообразные реакции прохожих, как если бы он был всеведущим повествователем, которому доступны секреты этой ожившей на минуту толпы, пусть на самом деле он отождествляет себя с Якубом, объятым страхом и неспособным наблюдать за своим окружением. Сообщество людей, которых объединил обмен взглядами и жестами, – огромная загадка не только для Якуба.
Брандыс писал свой роман сразу после войны, он выявил и запечатлел ту ситуацию, в которой для польских прохожих муки еврея становятся уже исключительно спектаклем, разыгрывающимся за непреодолимой и невидимой границей и касающимся существа, необратимым образом исключенного из человеческого сообщества и оставленного «на произвол судьбы». Реальное событие появляется уже в рамках театральности, оправдывающей равнодушие и постыдные реакции «зрителей».
Если сравнить со знаменитым примером уличной сцены, выступающей в анализе Бертольта Брехта в качестве самой простой модели эпического театра[9 - Брехт Б. Уличная сцена // Брехт Б. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. В пяти томах. Т. 5/2. М.: Искусство, 1965.], то тут все как раз наоборот. Нет никого, кто мог бы – как ревностный рассказчик у Брехта – объяснить публике смысл уличного происшествия. Реконструировать и проанализировать его. Впрочем, в этом случае «смысл» для всех ясен, так же как и судьба, которая неумолимо ждет еврея, выгнанного из убежища на улицу. Подлинной тайной остается тут публика, несомая потоком общей энергии, объединенная секретным кодом взаимопонимания, заговором дистанцирования. Будто бы разобщенная, разнородная в своих реакциях, и в то же время единая, поскольку ее оживил (чтобы не сказать – возбудил), связал один и тот же импульс. Именно эта сцена надолго останется в общей памяти благодаря ситуации, лишенной объясняющего метакомментария, не вписанной ни в какой режим повествования, предоставленной закону бессознательных повторений и поэтому – перехватываемой театром. Брехт, конструируя модель уличной сцены, исходил из нескольких очевидных аксиом. Во-первых: уличная сцена является повторением – в рамках сознательно выстраиваемой драматургии – чего-то, что произошло минуту назад. Во-вторых: рассказчик хорошо видел событие, обладает аналитическим инструментарием (например, классовым сознанием), при помощи которого способен объяснить причины происшествия и дистанцироваться от собственных «переживаний» очевидца. В-третьих: публика невинна; поэтому не принимаются в расчет обстоятельства, при которых зрители были бы заинтересованы в том, чтобы правда о событии не была раскрыта, хотя бы из боязни быть обвиненными в сообщничестве. Эти аксиомы невозможно принять в случае события, описанного Брандысом. И, таким образом, его невозможно и повторить по рецепту Брехта.
Рауль Хильберг заключил опыт Катастрофы в термины, близкие феноменологии спектакля, формулируя три главные позиции его активных и пассивных участников: экзекуторов, жертв и свидетелей. Он старался определить, насколько каждая из этих групп осознавала происходящее и – что важно – в какой степени те или иные события были видимы во время преследований и уничтожения евреев. Хильберг выдвигает важный тезис о степени видимости Катастрофы. Больше всех были сокрыты экзекуторы, больше всех выставлены напоказ – жертвы: «видимых каждому, их было легко идентифицировать и пересчитать на каждой стадии уничтожения»[10 - Hilberg R. Perpetrators Victims Bystanders: The Jewish Catastrophe, 1933–1945. New York: Aaron Asher Books, 1992.]. Сцена из романа Брандыса полностью подтверждает наблюдения Хильберга. Экзекуторов в ней нет, жертву же видно лучше всего, хотя сама она видит плохо. Тот факт, что жертва настолько выставлена напоказ, – в свою очередь предполагает неизбежное присутствие свидетелей. А невидимость экзекуторов позволяет так или иначе «сакрализировать» событие, вписать его в регистр неизбежного, предназначенного, перевести на уровень человеческого бессилия перед «высшими силами». Сама собой напрашивается матрица «трагедии». «Сам Бог ему не помог, а чего же вы хотите»[11 - Брандыс К. Указ. соч. С. 129.], – слышит женщина, которая выражает робкое и слабое желание помочь Якубу и тем самым включить его в общность зрителей, нарушить «трагическую» театральность всего происшествия. В рамках описываемой ситуации Брандыс совершает радикальное режиссерское вмешательство: позволяет увидеть публику, ее либидинальную вовлеченность в создание позиций равнодушия и враждебности.
Та легкость, с которой обрываются связи с человеком, исключенным из общества и преследуемым, влечет за собой целый ряд последствий. Когда невозможно физически дистанцироваться по отношению к наблюдаемым мучениям, появляется психологическая дистанция. Как объясняет Синтия Озик[12 - Ozick C. Prologue // Block G., Drucker M. Rescuers. Portraits of Moral Courage in the Holocaust. New York: TV Books, 1992.] в тексте, посвященном «сторонним» наблюдателям Катастрофы, равнодушие проявлялось не в том, что на чужие муки не смотрели, а в том, что смотрели, но ничего не чувствовали. От bystanders экзекуторы ожидают, что те будут вести дальше свою «нормальную» жизнь, – таким образом, они должны выработать целый ряд самооправданий, чтобы не считать, что отказали в помощи тем, кто в ней нуждался[13 - Так определяется позиция bystanders в книге: Samuel P. Oliner, Pearl M. Oliner. Altruistic Personality. Rescuers of Jews in Nazi Europe. New York: The Free Press, 1988.]. Дальнейшая жизнь по прежним этическим и общественным принципам неизбежно приобретает черты театральности: соблюдение старых норм меняет смысл, становится перформативной стратегией забывания, а не только перформативной стратегией, при помощи которой возникает некое сообщество. Таким образом, bystanders перестают быть заслуживающими доверия свидетелями событий, которые они видели. Они перестают быть зрителями и становятся актерами.
Сразу нужно заметить, что польский язык не точен; под тем, что мы называли «свидетелем», Хильберг имеет в виду пассивного наблюдателя, поэтому он употребляет слово bystander, а не witness. Слово bystander более точно описывает позицию пассивного свидетеля и даже дает ему моральную оценку. А свидетелем может быть и жертва, и экзекутор.
Или же – при более радикальном подходе – свидетелей Катастрофы вообще нет[14 - Laub D. An Event Without a Witness: Truth, Testimony and Survival // Felman S., Laub D. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. London: Routledge, 1992. P. 75–92.], поскольку травматическое событие такого рода основано на утрате личного опыта, так что сам акт свидетельствования, через который можно было бы наладить адекватные отношения с действительностью, становится невозможным. Потеря стабильной способности понимать события, в которых ты участвуешь, относится так же и к bystanders. Попытка точно определить и отделить друг от друга позиции может привести, таким образом, к тому, что они окажутся неожиданным образом перемешаны – или вообще унифицированы – в общем ощущении потери реальности, связанном с этой травмой. Четкое распределение ролей, даже если исторически кажется непроблематичным и этически справедливым (хотя бы в ответ на нацистское законодательство, которое стремилось с максимальной точностью определить, кто должен подвергнуться гонениям и уничтожению), вновь и вновь наталкивается на подводные рифы, которые создает сам акт свидетельствования об имевших место в прошлом событиях.
Подтверждает это даже сам Хильберг в послесловии к польскому переводу своей книги: «В 1933–1945 годах экзекуторы, жертвы и свидетели составляли отдельные группы, и каждая из них воспринимала события со своей собственной перспективы, играя в них характерную для себя роль. Однако, несмотря на все разделяющие различия, их опыт и поведение имели некоторые общие черты»[15 - Hilberg R. Sprawcy. Ofary. Swiadkowie. Zaglada Zydоw 1933–1945. Warszawa: Centrum Badan nad Zaglada Zydоw, Wydawnictwo Cyklady, 2007. S. 397.]. Прежде всего Хильберг замечает, что никто не обладал полной информацией о тех событиях, в которые все эти три стороны были, однако, вовлечены. Это отсутствие полноты информации, о котором пишет Хильберг, совсем необязательно покрывается с той утратой личного опыта, на которую указывают исследователи травмы. Первое из этих явлений следует поместить в дискурс истории, в то время как второе – в дискурс памяти. Это, однако, не означает, что оба обязательно друг друга исключают: утрата личного опыта может вызвать эффект неполного знания, а неполное знание увеличить или, наоборот, ослабить травматическую потерю личного опыта. В случае позиции bystanders нельзя, однако, не отметить тот факт, что в целом они слишком быстро примирялись с неизбежностью происходившего.
С этого момента история становится историей негативной – не рассказом о героических поступках, а виртуальной сценой поступков, на которые никто не решился. Майкл Р. Маррас называет историю Холокоста историей бездействия, безразличия и бесчувствия (inaction, indifference, insensitivity)[16 - Marrus M. R. The Holocaust History. Hanover; London: University Press of New England, 1987. P. 157.]. Зная, что люди должны были вести себя иначе, мы, однако, не имеем права, как утверждает Маррас, подвергать их моральной оценке; мы должны, скорее, попытаться проанализировать состояние их сознания.
2
В поисках свидетельств Катастрофы Феликс Тых в 1990?х годах изучил огромное количество польских дневников и записок времен Второй мировой войны. Он пытался найти в них личный опыт польских очевидцев. Материал (книги «Длинная тень Катастрофы». – Примеч. пер.) оказался очень разнообразным, но один из выводов выходит на первый план во всех размышлениях автора: «Если же задать вопрос, что в прочитанных текстах доминирует, несомненно, пришлось бы ответить, что с точки зрения нашего анализа доминирует то, чего в них нет. Авторы большинства анализируемых текстов или вообще не отметили явления Катастрофы, или не увидели ее цивилизационной экстраординарности. Для некоторых это было всего лишь эпизодом. Многие, однако, отдавали себе отчет, что они сталкиваются с исключительным преступлением, абсолютно чуждым цивилизации, в которой они выросли, и ее моральным канонам»[17 - Tych F. Dlugi cien Zaglady. Warszawa: Zydowski Instytut Historyczny, 1999. S. 13.]. Следуя за выводами Тыха, можно рискнуть высказать гипотезу, ключевую для моих размышлений: стремление не принимать позицию наблюдателя, отстраниться от нее стало самым сильным для польских свидетелей Катастрофы переживанием, – конечно, если мы принимаем, что Катастрофа была событием для польского общества достаточно видимым, что автором «Длинной тени Катастрофы» не подвергается сомнению. Феликс Тых, конечно, отдает себе отчет, сколь различными могли быть причины столь вопиющего и доминирующего факта недостаточного запечатления факта Катастрофы в письменных свидетельствах: «порой это боязнь, что текст будет найден немцами, порой – выражение беспомощности, порой – проявление равнодушия, порой – попытка защитить самих себя от осознания масштаба преступления, совершаемого против евреев»[18 - Ibid. S. 27.]. В реакциях на Катастрофу, которые оказались запечатлены в дневниках и записках, наиболее характерно – изумление своей беспомощностью; в свою очередь, что больше всего замалчивается, как замечает Тых, – это, по понятным причинам, позиции явной враждебности по отношению к жертвам. Тем не менее на основании письменных свидетельств можно реконструировать характерный механизм усиления агрессии наблюдателей по отношению к жертвам, по мере того как преследования тоже нарастали. Агрессия была следствием того, что эмпатическая связь с жертвами обрывалась, позволяла вписать свое бессилие в порядок вещей, активно его оправдать.
«Наверно, мы уже никогда не узнаем, в скольких случаях исчезновение еврейской темы из большого числа военных воспоминаний было результатом полного безразличия к еврейским судьбам, а в скольких – вызвано желанием заглушить некое травматическое переживание и моральный дискомфорт»[19 - Ibid.]. Если даже мы должны смириться с неразрешимостью этого вопроса, он тем не менее отчетливо обозначает границы, в которых методология изучения травмы может быть применена к описанию опыта польских свидетелей Катастрофы. Постольку, поскольку мы должны так же принимать в расчет и возможность, что польское общество оставалось к ней просто безразличным.
Трудно со всей определенностью решить, способен ли факт наблюдения чужого несчастья – в формах столь экстремальных, в которых наблюдатель до этого с ним не сталкивался – не приводить со всей неизбежностью к явлению травмирования. Лоренс Л. Лангер среди анализируемых им свидетельств приводит рассказ венгерского иезуита, ставшего свидетелем одного из бесчисленных эпизодов Катастрофы. Через дырку в деревянном заборе, окружавшем железнодорожную станцию, откуда отправлялись в Аушвиц эшелоны с венгерскими евреями, иезуит видит открытый вагон, наполненный людьми: мужчину, который обратился с некой просьбой (может, попросил воды), эсэсовец вытаскивает из вагона и расправляется с ним – в этот момент подглядывающий через дырку в заборе убегает, повествование обрывается, судьба жертвы остается для наблюдателя навсегда неизвестной.
Присутствующий при записи этого свидетельства психоаналитик[20 - Присутствие психоаналитика входило в стандартную процедуру записи свидетельств для Fortunoff Video Archives for Holocaust Testimonies в Йельском университете – именно оттуда Лоренс Л. Лангер брал свидетельства для своего анализа.] в тот же самый момент находит пункт наибольшего вытеснения, задавая иезуиту вопрос, почему ни тогда, ни потом он никому не рассказал об этом событии, почему он вытеснил его из своего опыта свидетеля. По мнению терапевта, вытеснение было вызвано не самим событием, а ситуацией наблюдения: непристойные обстоятельства подглядывания за чужим унижением через дырку в заборе, постыдное состояние пассивности, ощущение бессилия – иначе говоря, статус любопытствующего ротозея. На киноленте запечатлено долгое молчание свидетеля, которое наступило после заданного ему вопроса. «Внезапно перед нашими глазами он борется с глубокой памятью собственной пассивности, которую сегодняшняя актуальная память отчетливо осуждает и которую он теперь пытается объяснить самому себе, прежде чем будет в состоянии объяснить ее нам – и, точно так же как и раньше, он не может найти никакого объяснения»[21 - Langer L. L. Holocaust Testimonies: the Ruins of Memory. New Haven; London: Yale University Press, 1991. P. 31.]. Лангер анализирует, как безопасная «сценичность», имевшая место в прошлом, оказывается нарушена во время сегодняшнего свидетельствования: забор и соответствующая дистанция по отношению к наблюдаемому событию перестают защищать, событие уничтожает дистанцию, поглощает наблюдателя, переносит из укрытия в самый центр происходящей сцены и приводит к кризису всех тех представлений о человеке, которые до этого момента определяли его жизнь. То, что человек оказывался в позиции наблюдателя Катастрофы и принимал правила театральности (в силу которой свидетель перестает быть свидетелем, становится зрителем и, таким образом, уже не обязан предпринимать какого-либо действия), имело необратимые последствия. Лангер видит только две возможности разрешения этого кризиса: или предшествующие представления о человечности окажутся полностью сокрушены, или кристаллизируются в форме иллюзий, поддерживаемых вопреки реальности пережитого опыта. Все это, однако, не объясняет, что склонило венгерского иезуита принести свидетельство. Мы не узнаем также, почему для описания позиции bystanders исследователь выбрал именно это свидетельство (это единственное свидетельство наблюдателя, которое он анализирует). Можно только догадываться, что особое значение имел для него факт, что речь шла о священнике, представителе католической церкви.
Как утверждает Элейн Скерри в книге «The Body in Pain», не только человек, которому причиняется боль, утрачивает языковой инструментарий описания своей ситуации; то же происходит и с очевидцем его мучений – стабильные рамки восприятия мира ослабляются, расшатываются. Боль, прежде чем полностью уничтожить силу языка, колонизирует ее. Отсутствие адекватных инструментов для описания приводит к тому, что свидетель чужого мучения готов принять описания, которые предлагают ему власти или «священнослужители разгневанного Бога»[22 - Scarry E. The Body in Pain. The Making of Unmaking of the World. New York; Oxford: Oxford University Press, 1985.]. Благодаря чужой боли власти обосновывают свою идеологию, наполняя ее реальностью чужого опыта, а «священнослужители разгневанного Бога» представляют то наполненное болью событие, которое человеческий разум отказывается себе присвоить, – как проявление «высшей морали» божественного порядка.
3
Если мы применим «хильберговский треугольник» участников Катастрофы к польским свидетельствам, то тотчас же польская послевоенная культура предстанет для нас как культура «свидетелей», «наблюдателей» или даже «ротозеев». Парадигматическим в этом смысле остается стихотворение Чеслава Милоша «Campo di Fiori», написанное под непосредственным впечатлением от безучастия поляков к окончательному уничтожению варшавского гетто. Но тот же самый мотив польских свидетелей еврейской Катастрофы мы обнаружим в рассказах Боровского, в новелле Налковской «У железнодорожных путей», в «Страстной неделе» Анджеевского, «Дыме над Биркенау» Шмаглевской, «Пасхе» Отвиновского, «Пограничной улице» Форда, в томе публицистики «Мертвая волна» под редакцией Анджеевского; он так же отдает эхом и в первом сборнике поэзии Ружевича (если остаться только в кругу произведений, созданных еще во время войны, под непосредственным впечатлением от событий, или сразу после нее). Литература, кино, публицистика пребывают в модуле очевидного: «я видел», «мы видели». Михал Гловинский этот феномен «горячих свидетельств», свойственный первым послевоенным годам, связывал с «потребностью выразить сочувствие, возмущение, шок»[23 - Glowinski M. Wielkie zderzenie // Teksty Drugie. 2002. Nr 3. S. 201.]. Эта разновидность автоматической идентификации с позицией свидетеля-наблюдателя, исторически более чем обусловленная, была навязана уже теми, кто, собственно, и производил уничтожение евреев, а также – этическим долгом по отношению к жертвам (хотя этот долг в социальной практике становится объектом слишком уж гибких негоциаций). Эта парадигма «культуры свидетелей» под натиском коллективных эмоций, политической идеологии и культурной проработки оказалась значительно деформирована и в результате – вытеснена. А в дальнейшей перспективе она подверглась и остракизму. Попробуем собрать аргументы.
Послевоенная польская культура, связанная со свидетельствами Катастрофы, формировалась не только с позиции наблюдателей. Ведь если предположить последнее, даже руководствуясь нравственно-благородной задачей разобраться с собственной, коллективной позицией пассивности, то за бортом останется многое другое, маргинализированы будут те явления польской культуры, которые относятся к свидетельствам еврейским. Таким образом, скорее следовало бы указать на недостаточное присвоение многих существенных явлений, которые возникали в рамках польской культуры, или же на полное отсутствие осознания еврейского опыта, вписанного во множество выдающихся художественных произведений. Те роли в «деле» Катастрофы, о которых писал Хильберг, оказывались тут размыты. Это во-первых. Во-вторых, следует критически приглядеться ко всем деформациям, какими отмечены польские свидетельства Катастрофы, хотя бы для того, чтобы прокомментировать те обвинения в антисемитизме, которые постигли многих польских художников (особенно если на их художественные произведения смотрели через призму западных дискурсов Холокоста и оценивали как антисемитские уже в силу национальности их авторов – так стало с рассказом Анджеевского «Страстная неделя», фильмом Вайды «Корчак», видео Жмиевского «Пятнашки»). В-третьих, надо отметить, что позиция свидетеля стала в польской культуре рискованной, она подверглась разнообразным процессам вытеснения и различным стратегиям зашифровывания. В послевоенной Польше часто вообще не было ясно, с какой позиции кто-либо свидетельствует; нелегко было распознать, что является причиной деформаций, которым подвергался акт свидетельствования; и в конце концов – позиция свидетеля постепенно все более и более вытеснялась. При этом с самого начала нужно отметить, что причины этого молчания – сложные, отнюдь не однозначные. Среди них, конечно, могло быть и равнодушие к судьбе евреев, но также и тактичность или даже попытка огородить людей, прошедших через ад, от дальнейшей стигматизации.
Польская литература (и шире – польская культура) несет в себе обильное свидетельство о жертвах Катастрофы. В том числе о жертвах, которые, благодаря «хорошей внешности», помощи друзей, своей собственной предприимчивости и смелости, а также благодаря счастливому стечению обстоятельств могли оказаться в группе свидетелей-наблюдателей – наблюдать события именно с такой позиции, а в то же самое время их переживать, благодаря факту полной идентификации с жертвами. Ведь польская культура, в том числе послевоенная, создавалась также и ассимилированными евреями, поляками с еврейскими корнями, так что вряд ли тут возможно определить какую-либо одну общую перспективу, а кроме того нужно принимать во внимание самые разные факторы вытеснения прошлого – не только ощущение вины пассивных наблюдателей, но, например, потребность преодолеть воспоминания о собственном унижении. В случае литературных текстов можно говорить и о том, что эта особенная позиция автора, живущего на пересечении двух культур, наблюдавшего Катастрофу с двух позиций, была более или менее непосредственно проявляема, что позволило Яну Блонскому говорить о таком имевшем место в послевоенные годы явлении, как «еврейская школа польской литературы».
Впрочем, говорилось это не без дискомфорта. Ведь Блонский отдавал себе отчет, что еврейский опыт часто «затемнялся и камуфлировался» самими авторами: «Изучение роли евреев в деле созидания польской культуры – строго говоря, задача не для литературоведа. Этим, скорее, должен был бы заняться историк культуры. Я уже не говорю о том, что выяснения того, кто был евреем и насколько был евреем, – не могут похвастаться в Европе хорошей традицией. Что важнее, в литературе больший вес, чем судьба автора, имеет его творчество. Еврейский опыт (как любой другой опыт) должен быть в нем явственно записан, хотя бы частично или опосредованно. В польской литературе порой можно натолкнуться на такие романы, где только разбирающийся в эпохе читатель сможет верно идентифицировать среду или социальный менталитет героев. Так, например, происходит в „Семейных мифах“ Адама Важика или „Высоком Замке“ Станислава Лема. Исследователь, конечно, не обязан разделять тактичное умалчивание автора. Однако мне было бы трудно анализировать такие романы рядом с „Голосами в темноте“, чья экзотика не только открыто явлена, но и получает авторское определение»[24 - Blonski J. Autoportret zydowski, czyli o zydowskiej szkole w literaturze polskiej // Blonski J. Biedni Polacy patrza na getto. Krakоw: Wydawnictwo Literackie, 2008. S. 85–86.].
Если перенести все эти оговорки Блонского на театральную почву, ситуация окажется еще более драматичной: театр – искусство, многократно опосредованное, еврейский опыт «затемнялся и камуфлировался» тут будто бы по самой природе сцены как медиума, а выяснение «кто был евреем и насколько был евреем» может показаться еще более неуместным, злоумышленным и ничем не обусловленным. Все это не влияет, однако на факт, что пытаясь вписать польский театр в рамки культуры свидетельствования, мы должны принимать во внимание дифференцированную, меняющуюся и к тому же часто закамуфлированную позицию свидетеля, а это все трудно было бы сделать без элементарной биографической информации. Блонский, хоть и протестуя, в конце концов позволяет себе это, указывая (вслед за Александром Гертцем) на модель американской культуры, неповторимо богатой именно благодаря тому, что ее авторы явственным образом обращаются к своим корням и специфическому историческому опыту. Из размышлений Блонского следует важный вывод: польскую литературу, связанную с тематикой Катастрофы, не получается полностью отнести к свидетельствам наблюдателей и в то же самое время не всегда удается однозначно локализовать позицию повествователя в том или ином пункте того треугольника, который выстроил Хильберг. Позиции свидетеля и жертвы часто накладывались друг на друга, что привело к справедливо осуждаемым сегодня идеологическим практикам апроприации еврейского страдания в качестве страдания поляков (особенно если учесть, что польскость в послевоенной Польше часто определялась по этническим, националистическим критериям, а не по критериям культурного самосознания). Это ничего не меняет, однако, в том факте, что польская культура заключает в себе два полюса. На одном из них находятся попытки соотнести себя со «страданием и смертью Иного», а на другом – «непосредственный опыт тех, кто был обречен на смерть»[25 - Panas W. Pismo i rana. Szkice o problematyce zydowskiej w literaturze polskiej. Lublin: Wydawnictwo DABAR, 1996. S. 100.]. Польская литература не только оказывается способной вчувствоваться в чужое страдание, но также несет опыт Катастрофы из самого ее эпицентра, с позиции жертв.
Этот разрыв, создающий феномен двух языков, стал глубоким и фундаментальным опытом польской культуры после Катастрофы. Как пишет Владислав Панас: «Через творчество этих писателей [с еврейскими корнями] польская литература непосредственно открывается на еврейскую перспективу катастрофы. Тут нет потребности „вчувствоваться“ в ситуацию Иного, необходимости привести в ход воображение, эрудицию и т. д., чтобы прозвучала правда о шоа. Непосредственный опыт тех, кто был обречен на смерть. Это один из внутренних полюсов нашей литературы»[26 - Ibid.]. Этот полюс существует также и в польском театре.
Польский театр после 1945 года в течение нескольких десятилетий создавался артистами (режиссерами, драматургами, актерами, сценографами), которые были или непосредственными свидетелями Катастрофы, или теми, кто в ней уцелел. Приведу один, особенно показательный пример – Хенрика Гринберга, который еще ребенком появился в кадрах «Пограничной улицы» Александра Форда (с одной репликой – «Это те эсесовские собаки!..»), а затем – в 1950 году в роли еврейского мальчика в «Немцах» Леона Кручковского на сцене лодзинского театра «Повшехны». «В Лодзи женщины в зрительном зале порой лишались чувств, когда я рассказывал: „Всех нас убили, маму, дедушку, маленькую Эстер, и только я…“»[27 - Grynberg H. Prawda nieartystyczna. Wolowiec: Wydawnictwo Czarne, 2002. S. 37.] Через несколько лет Гринберг дебютирует в Еврейском театре, возглавляемом Идой Каминской, в пьесе Шимона Диаманта «В зимнюю ночь», рассказывающей о еврейском мальчике, укрывающемся у польских крестьян. В «Личной жизни» Гринберг пишет о своей игре в этом спектакле, как если бы речь шла о ситуации свидетельствования о собственном личном опыте: «Я не был актером и не должен был им быть. Не играл и не должен был играть. Все это само во мне играло. Я выходил к рампе, протягивал руки к черной пустоте, открывал широко глаза и губы – и рассказывал»[28 - Grynberg H. Zycie osobiste. Warszawa: Oficyna Wydawnicza «Pokolenie», 1989. S. 22.]. Можно задать вопрос, «актерский» ли опыт Гринберга позволил ему представить в «Еврейской войне» собственные переживания времен Катастрофы в рамках метафоры театра или наоборот – детские переживания стали импульсом к тому, чтобы поступить в Еврейский театр? Можно сказать, что случай Гринберга – предельный и исключительный. Но можно также предположить, что такого рода ситуация свидетельствования подспудно определяла облик многих театральных спектаклей. Неожиданным примером может быть авангардный спектакль «Водяной курочки» в Крико-2, который заставляет задать вопрос, в какой мере Тадеуш Кантор реконструировал в этой работе собственную позицию свидетеля Катастрофы, одновременно делая невозможным ее расшифровку и включение в какую бы то ни было упорядоченную систему коллективной памяти. Проблема свидетельствования касается также и театральных критиков – зрителей, обладающих привилегией публичного высказывания. Многие из них прошли через Катастрофу (в том числе Ян Котт, Леония Яблонкувна, Богдан Войдовский, Роман Шидловский, Анджей Врублевский); некоторые их театральные рецензии (даже тех спектаклей, которые не относились непосредственно к Катастрофе) можно читать сегодня как свидетельства их опыта, связанного с Катастрофой[29 - Примером могут послужить удивительные рецензии Леонии Яблонкувны по поводу двух спектаклей Ежи Гротовского: «Стойкого принца» («Ksiaze Niezlomny» w Teatrze 13 Rzedоw // Teatr. 1966. Nr 2) и Apocalypsis cum figuris (Klucz od przepasci // Teatr. 1969. Nr 18). Яблонкувна несравненным образом прочитала подсознательную, аффективную, травматическую речь обоих спектаклей и скрытый месседж последнего спектакля Гротовского: «Разыгралась жестокая церемония, ритуал специфического священнодействия, мистерия святости и греха, обожания и обесчещивания, мученичества и профанации – но не оставила после себя никакого следа […]. Может, это и есть ключ к тайне нового Апокалипсиса: то, что мученичество не оставляет никакого следа, что великое жертвоприношение оказывается напрасным?»].
И тем не менее применение такого биографического подхода наталкивается на целый ряд трудностей и преград. Например, факт еврейского происхождения многими артистами и критиками не афишировался (по разнообразным и сложным причинам: из?за ощущения полной ассимиляции, страха перед антисемитизмом, потребностью забыть о травматическом исключении из сообщества), и благодаря этому пережитое ими во время войны часто оставалось неизвестным или известным очень фрагментарно. Более того, стратегия свидетельствования через театральный спектакль или через факт его комментирования относится не только к художникам и критикам еврейского происхождения, непосредственно затронутым Катастрофой. Но оправдано ли было бы решение исключить столь обширный и пронзительный опыт из поля размышлений о послевоенном польском театре, ссылаясь на отсутствие полной информации или из?за боязни впасть в чрезмерную биографичность по отношению к произведению искусства? Особенно если учесть, что этот опыт касается всего «общества свидетелей», а таким образом – и зрителей. Именно поэтому польский театр после 1945 года стал местом циркуляции связанных с историческим опытом аффектов и скрытых культурных трансакций, в которых образы Катастрофы подвергались разнообразным процедурам апроприации и деформации. Мне кажется, мы с трудом могли бы найти в послевоенном европейском искусстве сопоставимое явление. Особенно важную роль в этом феномене играла в первую очередь публика, готовая вести сложную игру с тем, что было ею вытеснено, помещено вне границ памяти – однако эта игра приводила и к болезненному крушению защитных механизмов. Исследуя театр как медиум памяти о Катастрофе, нужно принять в качестве аксиомы факт существования сложных процессов травматического повтора, терапевтического переноса, защитного вытеснения, в которые были вовлечены все участники такого сценического события, каким является театральный спектакль.
Эта сложная ситуация отчетливо проявляется в восприятии политической по замыслу драмы Петера Вайса «Процесс», посвященной франкфуртскому процессу и имевшей целью обнаружить связи между нацистским прошлым и капиталистической современностью Западной Германии. Поставленная в 1966 году Эрвином Аксером в театре «Вспулчесны» в Варшаве, с одной стороны, эта драма вызвала глубокий эмоциональный шок публики, а с другой стороны – выявила характерные для польской культуры защитные механизмы, которые вслед за Фрейдом можно назвать явлением dеj? racontе (чего-то уже ранее рассказанного и слышанного, что стало всем известно и проработано). Почти все рецензенты писали: мы не узнаем (мы – т. е. публика; мы – поляки) из этой драмы ничего нового. Варшавская постановка обнажила защитные механизмы, скрывающиеся за такой позицией[30 - «Спектакль был так переполнен уважением к страданию, о котором говорится в пьесе, что мы не только были в состоянии слушать текст, но и полностью отдавали себя во власть его страшной красоты». Збигнев Рашевский, автор этих слов, вспоминает спектакль Аксера как один из самых важных, которые видел за всю жизнь. О роли Тадеуша Ломницкого в этом спектакле он написал с пафосом: «Если бы остывший пепел мог заговорить, звучало бы это наверняка так, как звучит голос Ломницкого в этой роли» (Raszewski Z. Spacerek w labiryncie. O teatrze polskim po 1958 roku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Errata, 2007. S. 258).]. Волновало не только то, что говорят в пьесе Вайса свидетели, сколько шоковое состояние, в котором находились свидетели в спектакле Аксера – это было непрекращающееся, колющее глаза состояние онемения, в котором публика видела свое собственное отражение[31 - См. главу «Первичная сцена».].
Занимаясь спецификой польского театра, возрождающегося после 1945 года в обществе свидетелей Катастрофы, несомненным надо принять факт существования общественной памяти о конкретных событиях (о том, что население еврейских городов и селений уничтожалось, что организовывались и затем ликвидировались гетто, о том, что знакомых и незнакомых людей, с одной стороны, укрывали, с другой стороны – выдавали, о том, что имели место сцены публичного унижения и смерти). Нужно также признать аксиомой их достаточную, а порой и полную видимость, а как следствие – то, что любые попытки сослаться на эту память вызывали острую и сильную реакцию. А это – особенно в условиях разыгрывающегося здесь и сейчас театрального спектакля – всегда имело исключительное эмоциональное значение: определяло восприятие спектакля, но также и воздвигало преграды.
Гжегож Низёлек
Театральная серия
Трагедия Холокоста была крайне болезненной темой для Польши после Второй мировой войны. Несмотря на известные факты помощи поляков евреям, большинство польского населения, по мнению автора этой книги, занимало позицию «сторонних наблюдателей» Катастрофы. Такой постыдный опыт было трудно осознать современникам войны и их потомкам, которые охотнее мыслили себя в категориях жертв и героев. Усугубляли проблему и цензурные ограничения, введенные властями коммунистической Польши. Книга Гжегожа Низёлека посвящена истории напряженных отношений, которые связывали тему Катастрофы и польский театр. Критическому анализу в ней подвергается игра, идущая как на сцене, так и за ее пределами, – игра памяти и беспамятства, знания и его отсутствия. Автор тщательно исследует проблему «слепоты» театра по отношению к Катастрофе, но еще больше внимания уделяет примерам, когда драматурги и режиссеры хотя бы подспудно касались этой темы. Именно формы иносказательного разговора о Катастрофе, по мнению исследователя, лежат в основе самых выдающихся явлений польского послевоенного театра, в числе которых спектакли Леона Шиллера, Ежи Гротовского, Юзефа Шайны, Эрвина Аксера, Тадеуша Кантора, Анджея Вайды и др. Гжегож Низёлек – заведующий кафедрой театра и драмы на факультете полонистики Ягеллонского университета в Кракове.
Гжегож Низёлек
Польский театр Катастрофы
Ренате и памяти моего отца
Введение
Самое важное – постараться прочувствовать, что все это находилось в поле зрения, что произошло на самом деле и что каждый видел хотя бы фрагмент происходящего.
В «Актуальности Холокоста» Зигмунт Бауман[1 - Бауман З. Актуальность Холокоста. М.: Европа, 2010. (Оригинальное название книги – «Современность и Катастрофа». – Примеч. пер.)] поставил вопрос, способна ли социология как наука, которая выросла из просвещенческих модернизационных проектов, внести что-то существенное в наше знание о Катастрофе. Не «слепа» ли она по отношению к Катастрофе? Не привыкла ли она, будучи созданием просвещенного разума, раз за разом подтверждать всю ту же веру в социальный прогресс и способность человечества морально себя совершенствовать, идя по пути улучшения общественной самоорганизации, и следовательно – не привыкла ли она трактовать Катастрофу исключительно как аберрацию и варварство, которому можно оказать сопротивление – морально, политически и идеологически? Так социология вроде бы защищает догматы гуманизма, которые Катастрофа самим фактом, что она имела место, внезапно уничтожила. Бауман предложил, как мы помним, радикально изменить перспективу. Катастрофа, по его мнению, – это не поражение модернизационных проектов в обществе, а их интегральная часть, вырастающая из тех же самых предпосылок; ее реализация стала возможной в столь массовом масштабе благодаря внедренным в повседневную общественную практику моделям функциональности и продуктивности, неразрывно связанным с идеологиями современности. Социолог, занимающийся Катастрофой, должен, таким образом, пересмотреть основополагающие положения своей научной дисциплины, изучить и поставить под вопрос все, что их обосновывает, и все те догмы, из которых она исходит. «Социология не способна предоставить нам знание о Катастрофе, ей самой следует учиться у Катастрофы», не уставал повторять Бауман.
Его выводы, несколько переформулированные, я и пытаюсь применить к театру. Не должны ли были формы театра, рожденные на почве образовательных проектов Просвещения и романтических идеологий национально-освободительной борьбы (а также процедуры, создаваемые в рамках таких форм театра), стать, по своему определению, инструментом, при помощи которого практикуются общественные и индивидуальные стратегии защиты по отношению к такому опыту, каким была Катастрофа? Могли ли выработанные в рамках театральных институций практики, при помощи которых создаются спектакли, конструируются идентичности (базирующиеся на вытеснении инакости) и устанавливаются отношения со зрительным залом (понимаемым как некая человеческая общность), способствовать тому, чтобы честно проработать пережитое: все то, что изолировало друг от друга разные социальные группы и, как пишет Ежи Едлицкий, слишком высоко подняло планку эмпатии? Не получилось ли так, что театр, рассчитывая на его традиции, рьяно запрягли в идеологические проекты, направленные на вытеснение памяти о слишком болезненном прошлом? И не стал ли театр в результате – так же как критикуемая Бауманом социология – «слепым» по отношению к Катастрофе? В этой книге на множестве примеров я анализирую, чем была обусловлена эта слепота, хотя больше всего внимания уделяю анализу случаев «плохого видения» (и все же – видения!).
Явление слепоты театра по отношению к Катастрофе, однако, – тревожащее и парадоксальное. Ведь все свидетельства Катастрофы наполнены театральными метафорами, о Катастрофе невозможно рассказать без таких слов, как: игра, маска, иллюзия, режиссура, роль, сцена, кулисы, непристойность, трагедия, жертва. Выжившие готовы определять себя как «комедиантов», которым удалось остаться в живых только благодаря «игре». Те, кто наблюдал события того времени, охотнее всего и дальше бы скрывались в темноте зрительного зала. Те, кто вершил преступления, хотели бы видеть свои действия (если бы им разрешили) как трагическое произведение. Более того, эти метафоры не только позволяют описать события Катастрофы, но также по-своему их обусловливают, организуют, приводят в движение. Каждое событие Катастрофы опиралось на распределение ролей и организацию поля зрения. Театр, таким образом, был втянут в дело Катастрофы в качестве поставщика как зловещих стратегий в ходе создания иллюзии, оправдания пассивных позиций, так и инструментов спасения (хотя бы благодаря изменению идентичности скрывающихся людей). Что не позволяет нам сегодня рассматривать эти события как брешь в истории культуры, поскольку они – ее неотъемлемая часть. Мысля таким образом, я ощущаю себя должником по отношению к Зигмунту Бауману и его книге.
Начиная свои рассуждения, я вспоминаю один из «банальных» эпизодов Катастрофы: реакцию польских прохожих на неожиданное появление на варшавской улице еврея, выгнанного из своего убежища. Хотя пример взят из романа Казимежа Брандыса «Самсон», известно, что писатель его не выдумал и что этот случай – больше чем элемент литературного вымысла. Брандыс зафиксировал один из эпизодов, свидетелем которых сам мог быть в оккупированной Варшаве. То, что я отказываюсь сохранять уважительную дистанцию к описанному в романе событию как к литературной фикции, предвосхищает мою стратегию трактовки театра как пространства, где даются свидетельства, а не где создаются спектакли. К описанному Брандысом уличному инциденту я не раз обращаюсь в первой части книги, стараясь прежде всего проанализировать, что переживали прохожие, которые самих себя позиционировали в ролях пассивных и бессильных зрителей, в шатающемся еврее увидели протагониста, жертву трагического зрелища, а отсутствующих в этот момент преследователей/палачей признали безжалостной судьбой. Событие, в котором участвовали, они, следовательно, преобразили в театр, с присущими ему ролями и непреодолимыми линиями разделов между сценой и зрительным залом – таким образом помечая эту ситуацию знаками фальшивой трансцендентности. Не я навязываю этому эпизоду театральную структуру, именно так прочитывали ее – или не до конца осознанно ощущали – сами его участники. Отсюда название первой главы: «Театр ротозеев». Я концентрируюсь в ней на явлении вытеснения позиции свидетеля чужого страдания и на том, как это вытеснение складывалось исторически, иначе говоря, на изменяющихся формах его культурных симптомов. Причиной столь сильного вытеснения не является само событие, то есть вызывающая ужас судьба кого-то иного, но занятая в этом событии позиция, чаще всего – позиция пассивная. Сильно упрощая, можно сказать, что вытеснение польским обществом памяти о собственном безразличии оказало решающее влияние на то поле напряжений, которое сложилось во всей послевоенной польской культуре – конечно, если мы предполагаем, что истребление евреев, сцены их преследования, унижения, исключения из человеческого сообщества и убийства были хорошо видимым и повсеместным опытом общества bystanders (как называет сторонних наблюдателей Катастрофы Рауль Хильберг). За театром в истории этого вытеснения следует признать особую роль, поскольку он принимал участие как в процессах, поддерживающих состояние вытеснения, так и в попытках через него пробиться. Он стал местом повторения – безустанного воспроизведения не столько вытесненных событий, поскольку они взывали бы к непосредственной и читабельной для зрителей репрезентации, сколько самого факта вытеснения. Это повторение вытеснения я и называю тем свидетельством, что было дано театром.
Один из самых важных вопросов, которые я ставлю в книге, касается влияния столь активных театральных метафор на сам медиум театра. Медиум, который Марвин Карлсон называет машиной памяти[2 - Carlson M. The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003.], – театр – появляется в его концепции как набор множимых и культурно детерминированных процедур – творческих и перцепционных – опирающихся на механизмы памяти и повторения. И если «театр», понимаемый как инструмент ограничивания поля зрения и распределения ролей – инструмент, обладающий в культуре огромной силой, – был втянут в массовое преступление, не привела ли память об этом факте к разрушению традиционных моделей театральности, прежде всего – к тому, что безопасное пребывание зрителя «вовне» происходящего вдруг оказалось поставлено под вопрос? Этой теме посвящена первая часть книги, озаглавленная «Катастрофа и театр». Я представляю в ней гипотезу глубокого преображения театра как медиума в результате повсеместного общественного опыта наблюдения чужого страдания и столь же повсеместного вытеснения этого опыта. Когда дают сбой механизмы репрезентации – то есть создания читабельных и понятных образов прошлого (а таковые по разным причинам оказались нежелательными или с трудом артикулируемыми), – театр прибегает к механизму повторения, благодаря которому может безнаказанно черпать из резервуара общественного опыта: он не обязан давать название, о чем он, собственно, говорит. Он может оперировать в пространстве табу. Затаенный опыт может быть повторяем в символическом и аффективном измерениях, ситуации вытеснения и сбой защитных механизмов – множимы во все новых вариантах, зрителя же можно ставить в неудобную для него позицию равнодушного или полного издевки наблюдателя чужого страдания, вызывая в нем шок, агрессию, равнодушие, раня его, приводя в состояние тревоги и страха. Особенно творчество Тадеуша Кантора и Ежи Гротовского, как представляется, подтверждает эту гипотезу.
В разделении регистров репрезентации и повторения я прежде всего опираюсь на фрейдовскую концепцию вытеснения – на расхождение между образом памяти и связанным с ним аффектом. Высвобожденный аффект может соединяться с другими картинами памяти; в свою очередь, картины, лишенные соответствующего им аффективного заряда, могут появиться в поле сознания как нейтральные репрезентации, которые не вызывают живых эмоциональных реакций. «Ведь мы уже не раз об этом слышали», – звучит тогда ответ зрителей. Повторение же становится результатом работы аффекта, подбирает себе деформированные или же дистанцированные образы и позволяет продлить действие аффекта, обновить его в рамках театрального опыта и в то же самое время поставить его на новые рельсы. Вызвать потрясение, но причины его оставить в состоянии мучительной неизвестности.
Маргинализация театра в изучении памяти Катастрофы должна вызывать удивление, особенно по сравнению с обилием аналитики, посвященной литературе, кино, визуальным искусствам, памятникам, музейному делу. А также и потому, что все исследования текстов культуры, посвященных Катастрофе, вырабатывают свой инструментарий, опираясь на модели театра и театральности – одновременно не решаясь ответить на тот вызов, которым по-прежнему остается осмысление: каким образом театральные стратегии соучаствовали в том, как создавалась Катастрофа (подразумевая под этим словом нечто целостное и помня о метком замечании Станислава Лема, что каждое запланированное массовое убийство создает свою автономию – подобно тому, как это делает культура)? Театральные категории, таким образом, чаще всего используются в Holocaust studies без их критического рассмотрения, как если бы театр существовал вне истории и представлял собой культурно стабильную модель генерирования идеологических разделов социального пространства, был синонимом власти и инструментом распределения ролей, резервуаром удобных метафор и легко поддающихся разоблачению стратегий самоопределения. Тот ущерб, который был нанесен театру как медиуму, не принимается во внимание.
Переосмысление роли театральных метафор как в самом деле Катастрофы, так и в дискурсе о ней заставляет с большим недоверием относиться к любой абсолютизированной концепции по поводу отношений между настоящим и прошлым. Особенно к концепции травмы, позволяющей вбирать в себя (а тем самым маскировать) слишком обширный, на мой взгляд, спектр реального опыта. О том, что оно будет спасено благодаря «травме», и мечтает общество bystanders. А что с ресентиментом, глупостью, отсутствием воображения? Исследования травмы – хороший пример того, как театральные метафоры оказываются присвоены без попытки конфронтации их с таким полиморфным медиумом памяти, каким является театр, а также без конфронтации с деструктивной стихией театральных метафор, которые всегда выводят нас к реальному опыту, а не только к символической репрезентации утраты этого опыта. Театр, прежде чем станет метафорой, должен сначала быть чувственным, конкретным, укорененным в некоем здесь и сейчас переживанием. Проведенные мною исследования исторических театральных фактов, располагающихся в широких временны?х рамках между 1946 и 2009 годами, заставляют быть недоверчивым по отношению к таким понятиям, как травма и скорбь, которыми столь часто злоупотребляют. Особенно функции оплакивания охотно присваиваются театром в связи с тем, что в нем живет смутное и мистифицированное воспоминание о собственных ритуальных корнях. Обнаружение в анализируемых спектаклях тех или иных форм повторения все того же опыта (вытеснения факта, что это общество было свидетелем чужого страдания) с трудом поддается определению и категоризации. Нужно научиться уважать их безымянность и аффективную силу, которая скорее поддается описанию в категориях эксцесса, чем утраты. Из анализа избранных театральных фактов складывается вторая, более объемистая часть книги, озаглавленная «Театр и Катастрофа». Тут анализируются спектакли Леона Шиллера, Александра Бардини, Яна Швидерского, Эрвина Аксера, Юзефа Шайны, Ежи Гротовского, Тадеуша Кантора, Казимежа Деймека, Конрада Свинарского, Анджея Вайды, Ежи Гжегожевского, Кристиана Люпы, Кшиштофа Варликовского и Ондрея Спишака. А также две польские пьесы о Катастрофе, одна из которых была написана сразу после войны, а другая – несколько лет назад: «Пасха» Стефана Отвиновского и «Наш класс» Тадеуша Слободзянека.
Свидетельство, даваемое посредством театра, не может служить, однако, никаким символическим возмещением фактов пассивности, равнодушия, страха и глупости, имевших место в прошлом. Оно не помогает проработать прошлое, не входит в число ритуалов скорби. Оно бессильно – и даже гордыня перформатики и оптимизм антропологии театра (Виктор Тэрнер всегда позиционировал театр среди ритуалов возмещения ущерба) тут не помогут. Свидетельства театра, о которых я тут пишу, ничего не способны спасти. Ничего не в состоянии представить. Они не приносят катарсиса. Но существуют. Существовали. С прошлым их соединяет симптом. Один из многих, через которые прошло общество bystanders. Единственная цель этой книги – выявить и описать этот симптом.
Как в первой, так и во второй части книги я часто ссылаюсь на понятие либидо. Идя вслед за тем, что предложили Зигмунд Фрейд и Жан-Франсуа Лиотар, я трактую эту разновидность энергии жизни как стихию трансгрессии, которая делает возможным преодоление бинарных оппозиций между опытом внутренним и общественным, между переживанием позитивным (избытка, эксцесса, налаживания связей) и негативным (утраты, пассивности, блокировки, паралича), между настоящим и прошлым, между оплакиванием и забвением. Я не могу прочитывать пространство театра иначе, нежели в перспективе «либидинальной экономии» – то есть создания аффектов и не всегда удачного контроля над ними, высвобождения их силы, последствия которой трудно предвидеть. В спектаклях, которые я разбираю, такого рода события, эпизоды, эксцессы да и либидинальные поражения занимали меня больше всего – как раз они являются для меня театральными фактами, следы которых мы все еще можем найти в сохранившейся театральной документации. Я анализировал не целостные художественные структуры, интенциональные конструкции значений, формы репрезентации, но прежде всего – общественные и художественные условия, в которых могли в рамках театрального опыта появиться те или иные аффекты. Методологический фундамент таким образом задуманного исследования я представляю в главе «Плохо увиденное».
Обратимся к первой части книги, в которой театр рассматривается не как медиум памяти о Катастрофе, а как ее активный элемент, как ее «соучастник». Станислав Лем под конец 1970?х годов поразительным образом описал театральность Катастрофы, ее связь с эсхатологическими формами христианских зрелищ – обращая внимание на либидинальный аспект Катастрофы, вписанный в нее эксцесс спектакля[3 - Лем C. Библиотека XXI века. М.: АСТ, 2002.]. Провокацию Лема у нас скромно обошли молчанием, хотя сегодня ее стоит трактовать не только как то, что оказалось провозвестием концепции Славоя Жижека, который в книге «Кукла и карлик» сделал из Катастрофы непристойный секрет европейской культуры, основанной на христианстве[4 - Жижек C. Кукла и карлик. М.: Европа, 2009.], но также и как фундаментальное дополнение – avant la lettre – тезисов Зигмунта Баумана, выдвинутых в «Актуальности Холокоста». Осуществленное с индустриальным размахом, беспрецедентное убийство людей создавало, по мнению Лема, пустоту в переживании тех, кто принимал в нем участие. Эту пустоту заняли китчевые идеи об эсхатологическом зрелище. Театр оказался тем явлением европейской культуры, которое позволяло возместить утрату переживания; он становился лекарственным средством от невозможности переживать события, в которых эти люди участвовали. Театральный китч, как объясняет Лем, закрался в «драматургию конвейерного убийства, хотя никто этого не заметил».
Театр – наиболее аутотелическое из всех искусств: явно или скрыто он стремится к самообнаружению. Используемый как ключевая метафора в любом хорошо запланированном деле деконструкции, он позволяет разоблачать разнообразные иллюзии, свои и чужие. В том числе терминологические. Поэтому в книге написание таких слов, как Катастрофа, Холокост, Шоа, появляется во всевозможных вариантах: с прописной и со строчной буквы, в том числе в англоязычной версии. Это проистекает из правил цитирования, но не только из них. Разнообразие терминов и различие в их написании должны направить внимание на идеологические, этические и эмоциональные манипуляции (и их культурные контексты), к каковым все мы без устали прибегаем в связи с этим историческим событием. Даже если сам я довольно последовательно использую слово «Катастрофа», внутренне я против него бунтую (заглавная буква, эффектное отсутствие объяснения, возвышенность, которая вымарывает реальность событий)[5 - В переводе термин «Катастрофа» заменяет утвердившийся в Польше термин Zaglada, который, в свою очередь, использует слово, чье нарицательное значение переводится как «гибель» или «уничтожение», однако при написании с прописной буквы это же слово однозначно отсылает к историческому событию уничтожения евреев в ходе Холокоста. – Примеч. пер.]. Но я соглашаюсь на компромисс с правилами коммуникации, которые выдвигают требование, чтобы название было повсеместно идентифицируемо. Я выбираю, таким образом, этот термин как менее стесняющий, чем слово «Холокост» – вызывающее, на мой взгляд, в случае польской культуры пустоту в воображении и паралич эмпатии, поскольку звучит оно чуждо, а его происхождение абсолютно нечитабельно. Стоит помнить, что Имре Кертес никогда не называл свой роман «Без судьбы» книгой о Холокосте, поскольку – как сам признавался – хотел описанные в нем переживания «поднять до уровня человеческого опыта», а термин «Холокост» считал эвфемизмом, «трусливым, лишенным воображения и поверхностным»[6 - Kertеsz I., Dossier K., przel. Elzbieta Sobolewska. Warszawa: Wydawnictwo W. A. B., 2008. S. 62–63.]. Хотя – как признавался – был вынужден во многих обстоятельствах его использовать, чтобы быть понятым. Занимаясь театром как свидетельством уничтожения евреев, я имел дело с произведениями и текстами, которые оставляли чаще всего этот опыт полностью неназванным и в то же время делали его – благодаря этой неназванности – более конкретным и осязательным.
«Мученичество не оставляет после себя никаких следов», – написала Леония Яблонкувна об Apocalypsis cum figuris Ежи Гротовского[7 - Jablonkоwna L. Klucz od przepasci // Teatr. 1969. Nr 18. S. 5.]. Опыт, заключающийся в том, что событие чрезмерно экспонировано и в то же время все следы его оказываются стерты, создал театр, о котором я пишу в этой книге, и его публику.
Катастрофа и театр
Театр ротозеев
1
«В тот день около полудня многочисленные прохожие на Иерусалимской аллее показывали друг другу глазами и пальцем на человека, который привлек на улице всеобщее внимание»[8 - Брандыс К. Самсон // Брандыс К. Между войнами. Т. 1. М.: Издательство иностранной литературы, 1957. С. 129.]. Якуба Гольда, героя «Самсона» Казимежа Брандыса, в жаркий июльский день 1943 года вспугнули из его убежища в подвале, где в течение нескольких месяцев он жил в полной темноте. Варшава к тому времени, как скрупулезно замечает автор, «очищена от евреев». Тем большее волнение и любопытство улицы будит в ярком свете дня вид этой темной, грязной, исхудалой фигуры. Кто-то вслед ему сплевывает, кто-то смеется, кто-то бросает обидное слово. Кто-то выражает бессильное сочувствие. Поначалу не все распознают в нем еврея – думают, что это слепой или сумасшедший. Но Якуб ничего этого не понимает: ослепленный солнцем и ошеломленный, он, как актер, которого вытолкнули на сцену, не видит своих зрителей, хотя, конечно, чувствует их агрессивное присутствие. Автор представляет разнообразные реакции прохожих, как если бы он был всеведущим повествователем, которому доступны секреты этой ожившей на минуту толпы, пусть на самом деле он отождествляет себя с Якубом, объятым страхом и неспособным наблюдать за своим окружением. Сообщество людей, которых объединил обмен взглядами и жестами, – огромная загадка не только для Якуба.
Брандыс писал свой роман сразу после войны, он выявил и запечатлел ту ситуацию, в которой для польских прохожих муки еврея становятся уже исключительно спектаклем, разыгрывающимся за непреодолимой и невидимой границей и касающимся существа, необратимым образом исключенного из человеческого сообщества и оставленного «на произвол судьбы». Реальное событие появляется уже в рамках театральности, оправдывающей равнодушие и постыдные реакции «зрителей».
Если сравнить со знаменитым примером уличной сцены, выступающей в анализе Бертольта Брехта в качестве самой простой модели эпического театра[9 - Брехт Б. Уличная сцена // Брехт Б. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. В пяти томах. Т. 5/2. М.: Искусство, 1965.], то тут все как раз наоборот. Нет никого, кто мог бы – как ревностный рассказчик у Брехта – объяснить публике смысл уличного происшествия. Реконструировать и проанализировать его. Впрочем, в этом случае «смысл» для всех ясен, так же как и судьба, которая неумолимо ждет еврея, выгнанного из убежища на улицу. Подлинной тайной остается тут публика, несомая потоком общей энергии, объединенная секретным кодом взаимопонимания, заговором дистанцирования. Будто бы разобщенная, разнородная в своих реакциях, и в то же время единая, поскольку ее оживил (чтобы не сказать – возбудил), связал один и тот же импульс. Именно эта сцена надолго останется в общей памяти благодаря ситуации, лишенной объясняющего метакомментария, не вписанной ни в какой режим повествования, предоставленной закону бессознательных повторений и поэтому – перехватываемой театром. Брехт, конструируя модель уличной сцены, исходил из нескольких очевидных аксиом. Во-первых: уличная сцена является повторением – в рамках сознательно выстраиваемой драматургии – чего-то, что произошло минуту назад. Во-вторых: рассказчик хорошо видел событие, обладает аналитическим инструментарием (например, классовым сознанием), при помощи которого способен объяснить причины происшествия и дистанцироваться от собственных «переживаний» очевидца. В-третьих: публика невинна; поэтому не принимаются в расчет обстоятельства, при которых зрители были бы заинтересованы в том, чтобы правда о событии не была раскрыта, хотя бы из боязни быть обвиненными в сообщничестве. Эти аксиомы невозможно принять в случае события, описанного Брандысом. И, таким образом, его невозможно и повторить по рецепту Брехта.
Рауль Хильберг заключил опыт Катастрофы в термины, близкие феноменологии спектакля, формулируя три главные позиции его активных и пассивных участников: экзекуторов, жертв и свидетелей. Он старался определить, насколько каждая из этих групп осознавала происходящее и – что важно – в какой степени те или иные события были видимы во время преследований и уничтожения евреев. Хильберг выдвигает важный тезис о степени видимости Катастрофы. Больше всех были сокрыты экзекуторы, больше всех выставлены напоказ – жертвы: «видимых каждому, их было легко идентифицировать и пересчитать на каждой стадии уничтожения»[10 - Hilberg R. Perpetrators Victims Bystanders: The Jewish Catastrophe, 1933–1945. New York: Aaron Asher Books, 1992.]. Сцена из романа Брандыса полностью подтверждает наблюдения Хильберга. Экзекуторов в ней нет, жертву же видно лучше всего, хотя сама она видит плохо. Тот факт, что жертва настолько выставлена напоказ, – в свою очередь предполагает неизбежное присутствие свидетелей. А невидимость экзекуторов позволяет так или иначе «сакрализировать» событие, вписать его в регистр неизбежного, предназначенного, перевести на уровень человеческого бессилия перед «высшими силами». Сама собой напрашивается матрица «трагедии». «Сам Бог ему не помог, а чего же вы хотите»[11 - Брандыс К. Указ. соч. С. 129.], – слышит женщина, которая выражает робкое и слабое желание помочь Якубу и тем самым включить его в общность зрителей, нарушить «трагическую» театральность всего происшествия. В рамках описываемой ситуации Брандыс совершает радикальное режиссерское вмешательство: позволяет увидеть публику, ее либидинальную вовлеченность в создание позиций равнодушия и враждебности.
Та легкость, с которой обрываются связи с человеком, исключенным из общества и преследуемым, влечет за собой целый ряд последствий. Когда невозможно физически дистанцироваться по отношению к наблюдаемым мучениям, появляется психологическая дистанция. Как объясняет Синтия Озик[12 - Ozick C. Prologue // Block G., Drucker M. Rescuers. Portraits of Moral Courage in the Holocaust. New York: TV Books, 1992.] в тексте, посвященном «сторонним» наблюдателям Катастрофы, равнодушие проявлялось не в том, что на чужие муки не смотрели, а в том, что смотрели, но ничего не чувствовали. От bystanders экзекуторы ожидают, что те будут вести дальше свою «нормальную» жизнь, – таким образом, они должны выработать целый ряд самооправданий, чтобы не считать, что отказали в помощи тем, кто в ней нуждался[13 - Так определяется позиция bystanders в книге: Samuel P. Oliner, Pearl M. Oliner. Altruistic Personality. Rescuers of Jews in Nazi Europe. New York: The Free Press, 1988.]. Дальнейшая жизнь по прежним этическим и общественным принципам неизбежно приобретает черты театральности: соблюдение старых норм меняет смысл, становится перформативной стратегией забывания, а не только перформативной стратегией, при помощи которой возникает некое сообщество. Таким образом, bystanders перестают быть заслуживающими доверия свидетелями событий, которые они видели. Они перестают быть зрителями и становятся актерами.
Сразу нужно заметить, что польский язык не точен; под тем, что мы называли «свидетелем», Хильберг имеет в виду пассивного наблюдателя, поэтому он употребляет слово bystander, а не witness. Слово bystander более точно описывает позицию пассивного свидетеля и даже дает ему моральную оценку. А свидетелем может быть и жертва, и экзекутор.
Или же – при более радикальном подходе – свидетелей Катастрофы вообще нет[14 - Laub D. An Event Without a Witness: Truth, Testimony and Survival // Felman S., Laub D. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. London: Routledge, 1992. P. 75–92.], поскольку травматическое событие такого рода основано на утрате личного опыта, так что сам акт свидетельствования, через который можно было бы наладить адекватные отношения с действительностью, становится невозможным. Потеря стабильной способности понимать события, в которых ты участвуешь, относится так же и к bystanders. Попытка точно определить и отделить друг от друга позиции может привести, таким образом, к тому, что они окажутся неожиданным образом перемешаны – или вообще унифицированы – в общем ощущении потери реальности, связанном с этой травмой. Четкое распределение ролей, даже если исторически кажется непроблематичным и этически справедливым (хотя бы в ответ на нацистское законодательство, которое стремилось с максимальной точностью определить, кто должен подвергнуться гонениям и уничтожению), вновь и вновь наталкивается на подводные рифы, которые создает сам акт свидетельствования об имевших место в прошлом событиях.
Подтверждает это даже сам Хильберг в послесловии к польскому переводу своей книги: «В 1933–1945 годах экзекуторы, жертвы и свидетели составляли отдельные группы, и каждая из них воспринимала события со своей собственной перспективы, играя в них характерную для себя роль. Однако, несмотря на все разделяющие различия, их опыт и поведение имели некоторые общие черты»[15 - Hilberg R. Sprawcy. Ofary. Swiadkowie. Zaglada Zydоw 1933–1945. Warszawa: Centrum Badan nad Zaglada Zydоw, Wydawnictwo Cyklady, 2007. S. 397.]. Прежде всего Хильберг замечает, что никто не обладал полной информацией о тех событиях, в которые все эти три стороны были, однако, вовлечены. Это отсутствие полноты информации, о котором пишет Хильберг, совсем необязательно покрывается с той утратой личного опыта, на которую указывают исследователи травмы. Первое из этих явлений следует поместить в дискурс истории, в то время как второе – в дискурс памяти. Это, однако, не означает, что оба обязательно друг друга исключают: утрата личного опыта может вызвать эффект неполного знания, а неполное знание увеличить или, наоборот, ослабить травматическую потерю личного опыта. В случае позиции bystanders нельзя, однако, не отметить тот факт, что в целом они слишком быстро примирялись с неизбежностью происходившего.
С этого момента история становится историей негативной – не рассказом о героических поступках, а виртуальной сценой поступков, на которые никто не решился. Майкл Р. Маррас называет историю Холокоста историей бездействия, безразличия и бесчувствия (inaction, indifference, insensitivity)[16 - Marrus M. R. The Holocaust History. Hanover; London: University Press of New England, 1987. P. 157.]. Зная, что люди должны были вести себя иначе, мы, однако, не имеем права, как утверждает Маррас, подвергать их моральной оценке; мы должны, скорее, попытаться проанализировать состояние их сознания.
2
В поисках свидетельств Катастрофы Феликс Тых в 1990?х годах изучил огромное количество польских дневников и записок времен Второй мировой войны. Он пытался найти в них личный опыт польских очевидцев. Материал (книги «Длинная тень Катастрофы». – Примеч. пер.) оказался очень разнообразным, но один из выводов выходит на первый план во всех размышлениях автора: «Если же задать вопрос, что в прочитанных текстах доминирует, несомненно, пришлось бы ответить, что с точки зрения нашего анализа доминирует то, чего в них нет. Авторы большинства анализируемых текстов или вообще не отметили явления Катастрофы, или не увидели ее цивилизационной экстраординарности. Для некоторых это было всего лишь эпизодом. Многие, однако, отдавали себе отчет, что они сталкиваются с исключительным преступлением, абсолютно чуждым цивилизации, в которой они выросли, и ее моральным канонам»[17 - Tych F. Dlugi cien Zaglady. Warszawa: Zydowski Instytut Historyczny, 1999. S. 13.]. Следуя за выводами Тыха, можно рискнуть высказать гипотезу, ключевую для моих размышлений: стремление не принимать позицию наблюдателя, отстраниться от нее стало самым сильным для польских свидетелей Катастрофы переживанием, – конечно, если мы принимаем, что Катастрофа была событием для польского общества достаточно видимым, что автором «Длинной тени Катастрофы» не подвергается сомнению. Феликс Тых, конечно, отдает себе отчет, сколь различными могли быть причины столь вопиющего и доминирующего факта недостаточного запечатления факта Катастрофы в письменных свидетельствах: «порой это боязнь, что текст будет найден немцами, порой – выражение беспомощности, порой – проявление равнодушия, порой – попытка защитить самих себя от осознания масштаба преступления, совершаемого против евреев»[18 - Ibid. S. 27.]. В реакциях на Катастрофу, которые оказались запечатлены в дневниках и записках, наиболее характерно – изумление своей беспомощностью; в свою очередь, что больше всего замалчивается, как замечает Тых, – это, по понятным причинам, позиции явной враждебности по отношению к жертвам. Тем не менее на основании письменных свидетельств можно реконструировать характерный механизм усиления агрессии наблюдателей по отношению к жертвам, по мере того как преследования тоже нарастали. Агрессия была следствием того, что эмпатическая связь с жертвами обрывалась, позволяла вписать свое бессилие в порядок вещей, активно его оправдать.
«Наверно, мы уже никогда не узнаем, в скольких случаях исчезновение еврейской темы из большого числа военных воспоминаний было результатом полного безразличия к еврейским судьбам, а в скольких – вызвано желанием заглушить некое травматическое переживание и моральный дискомфорт»[19 - Ibid.]. Если даже мы должны смириться с неразрешимостью этого вопроса, он тем не менее отчетливо обозначает границы, в которых методология изучения травмы может быть применена к описанию опыта польских свидетелей Катастрофы. Постольку, поскольку мы должны так же принимать в расчет и возможность, что польское общество оставалось к ней просто безразличным.
Трудно со всей определенностью решить, способен ли факт наблюдения чужого несчастья – в формах столь экстремальных, в которых наблюдатель до этого с ним не сталкивался – не приводить со всей неизбежностью к явлению травмирования. Лоренс Л. Лангер среди анализируемых им свидетельств приводит рассказ венгерского иезуита, ставшего свидетелем одного из бесчисленных эпизодов Катастрофы. Через дырку в деревянном заборе, окружавшем железнодорожную станцию, откуда отправлялись в Аушвиц эшелоны с венгерскими евреями, иезуит видит открытый вагон, наполненный людьми: мужчину, который обратился с некой просьбой (может, попросил воды), эсэсовец вытаскивает из вагона и расправляется с ним – в этот момент подглядывающий через дырку в заборе убегает, повествование обрывается, судьба жертвы остается для наблюдателя навсегда неизвестной.
Присутствующий при записи этого свидетельства психоаналитик[20 - Присутствие психоаналитика входило в стандартную процедуру записи свидетельств для Fortunoff Video Archives for Holocaust Testimonies в Йельском университете – именно оттуда Лоренс Л. Лангер брал свидетельства для своего анализа.] в тот же самый момент находит пункт наибольшего вытеснения, задавая иезуиту вопрос, почему ни тогда, ни потом он никому не рассказал об этом событии, почему он вытеснил его из своего опыта свидетеля. По мнению терапевта, вытеснение было вызвано не самим событием, а ситуацией наблюдения: непристойные обстоятельства подглядывания за чужим унижением через дырку в заборе, постыдное состояние пассивности, ощущение бессилия – иначе говоря, статус любопытствующего ротозея. На киноленте запечатлено долгое молчание свидетеля, которое наступило после заданного ему вопроса. «Внезапно перед нашими глазами он борется с глубокой памятью собственной пассивности, которую сегодняшняя актуальная память отчетливо осуждает и которую он теперь пытается объяснить самому себе, прежде чем будет в состоянии объяснить ее нам – и, точно так же как и раньше, он не может найти никакого объяснения»[21 - Langer L. L. Holocaust Testimonies: the Ruins of Memory. New Haven; London: Yale University Press, 1991. P. 31.]. Лангер анализирует, как безопасная «сценичность», имевшая место в прошлом, оказывается нарушена во время сегодняшнего свидетельствования: забор и соответствующая дистанция по отношению к наблюдаемому событию перестают защищать, событие уничтожает дистанцию, поглощает наблюдателя, переносит из укрытия в самый центр происходящей сцены и приводит к кризису всех тех представлений о человеке, которые до этого момента определяли его жизнь. То, что человек оказывался в позиции наблюдателя Катастрофы и принимал правила театральности (в силу которой свидетель перестает быть свидетелем, становится зрителем и, таким образом, уже не обязан предпринимать какого-либо действия), имело необратимые последствия. Лангер видит только две возможности разрешения этого кризиса: или предшествующие представления о человечности окажутся полностью сокрушены, или кристаллизируются в форме иллюзий, поддерживаемых вопреки реальности пережитого опыта. Все это, однако, не объясняет, что склонило венгерского иезуита принести свидетельство. Мы не узнаем также, почему для описания позиции bystanders исследователь выбрал именно это свидетельство (это единственное свидетельство наблюдателя, которое он анализирует). Можно только догадываться, что особое значение имел для него факт, что речь шла о священнике, представителе католической церкви.
Как утверждает Элейн Скерри в книге «The Body in Pain», не только человек, которому причиняется боль, утрачивает языковой инструментарий описания своей ситуации; то же происходит и с очевидцем его мучений – стабильные рамки восприятия мира ослабляются, расшатываются. Боль, прежде чем полностью уничтожить силу языка, колонизирует ее. Отсутствие адекватных инструментов для описания приводит к тому, что свидетель чужого мучения готов принять описания, которые предлагают ему власти или «священнослужители разгневанного Бога»[22 - Scarry E. The Body in Pain. The Making of Unmaking of the World. New York; Oxford: Oxford University Press, 1985.]. Благодаря чужой боли власти обосновывают свою идеологию, наполняя ее реальностью чужого опыта, а «священнослужители разгневанного Бога» представляют то наполненное болью событие, которое человеческий разум отказывается себе присвоить, – как проявление «высшей морали» божественного порядка.
3
Если мы применим «хильберговский треугольник» участников Катастрофы к польским свидетельствам, то тотчас же польская послевоенная культура предстанет для нас как культура «свидетелей», «наблюдателей» или даже «ротозеев». Парадигматическим в этом смысле остается стихотворение Чеслава Милоша «Campo di Fiori», написанное под непосредственным впечатлением от безучастия поляков к окончательному уничтожению варшавского гетто. Но тот же самый мотив польских свидетелей еврейской Катастрофы мы обнаружим в рассказах Боровского, в новелле Налковской «У железнодорожных путей», в «Страстной неделе» Анджеевского, «Дыме над Биркенау» Шмаглевской, «Пасхе» Отвиновского, «Пограничной улице» Форда, в томе публицистики «Мертвая волна» под редакцией Анджеевского; он так же отдает эхом и в первом сборнике поэзии Ружевича (если остаться только в кругу произведений, созданных еще во время войны, под непосредственным впечатлением от событий, или сразу после нее). Литература, кино, публицистика пребывают в модуле очевидного: «я видел», «мы видели». Михал Гловинский этот феномен «горячих свидетельств», свойственный первым послевоенным годам, связывал с «потребностью выразить сочувствие, возмущение, шок»[23 - Glowinski M. Wielkie zderzenie // Teksty Drugie. 2002. Nr 3. S. 201.]. Эта разновидность автоматической идентификации с позицией свидетеля-наблюдателя, исторически более чем обусловленная, была навязана уже теми, кто, собственно, и производил уничтожение евреев, а также – этическим долгом по отношению к жертвам (хотя этот долг в социальной практике становится объектом слишком уж гибких негоциаций). Эта парадигма «культуры свидетелей» под натиском коллективных эмоций, политической идеологии и культурной проработки оказалась значительно деформирована и в результате – вытеснена. А в дальнейшей перспективе она подверглась и остракизму. Попробуем собрать аргументы.
Послевоенная польская культура, связанная со свидетельствами Катастрофы, формировалась не только с позиции наблюдателей. Ведь если предположить последнее, даже руководствуясь нравственно-благородной задачей разобраться с собственной, коллективной позицией пассивности, то за бортом останется многое другое, маргинализированы будут те явления польской культуры, которые относятся к свидетельствам еврейским. Таким образом, скорее следовало бы указать на недостаточное присвоение многих существенных явлений, которые возникали в рамках польской культуры, или же на полное отсутствие осознания еврейского опыта, вписанного во множество выдающихся художественных произведений. Те роли в «деле» Катастрофы, о которых писал Хильберг, оказывались тут размыты. Это во-первых. Во-вторых, следует критически приглядеться ко всем деформациям, какими отмечены польские свидетельства Катастрофы, хотя бы для того, чтобы прокомментировать те обвинения в антисемитизме, которые постигли многих польских художников (особенно если на их художественные произведения смотрели через призму западных дискурсов Холокоста и оценивали как антисемитские уже в силу национальности их авторов – так стало с рассказом Анджеевского «Страстная неделя», фильмом Вайды «Корчак», видео Жмиевского «Пятнашки»). В-третьих, надо отметить, что позиция свидетеля стала в польской культуре рискованной, она подверглась разнообразным процессам вытеснения и различным стратегиям зашифровывания. В послевоенной Польше часто вообще не было ясно, с какой позиции кто-либо свидетельствует; нелегко было распознать, что является причиной деформаций, которым подвергался акт свидетельствования; и в конце концов – позиция свидетеля постепенно все более и более вытеснялась. При этом с самого начала нужно отметить, что причины этого молчания – сложные, отнюдь не однозначные. Среди них, конечно, могло быть и равнодушие к судьбе евреев, но также и тактичность или даже попытка огородить людей, прошедших через ад, от дальнейшей стигматизации.
Польская литература (и шире – польская культура) несет в себе обильное свидетельство о жертвах Катастрофы. В том числе о жертвах, которые, благодаря «хорошей внешности», помощи друзей, своей собственной предприимчивости и смелости, а также благодаря счастливому стечению обстоятельств могли оказаться в группе свидетелей-наблюдателей – наблюдать события именно с такой позиции, а в то же самое время их переживать, благодаря факту полной идентификации с жертвами. Ведь польская культура, в том числе послевоенная, создавалась также и ассимилированными евреями, поляками с еврейскими корнями, так что вряд ли тут возможно определить какую-либо одну общую перспективу, а кроме того нужно принимать во внимание самые разные факторы вытеснения прошлого – не только ощущение вины пассивных наблюдателей, но, например, потребность преодолеть воспоминания о собственном унижении. В случае литературных текстов можно говорить и о том, что эта особенная позиция автора, живущего на пересечении двух культур, наблюдавшего Катастрофу с двух позиций, была более или менее непосредственно проявляема, что позволило Яну Блонскому говорить о таком имевшем место в послевоенные годы явлении, как «еврейская школа польской литературы».
Впрочем, говорилось это не без дискомфорта. Ведь Блонский отдавал себе отчет, что еврейский опыт часто «затемнялся и камуфлировался» самими авторами: «Изучение роли евреев в деле созидания польской культуры – строго говоря, задача не для литературоведа. Этим, скорее, должен был бы заняться историк культуры. Я уже не говорю о том, что выяснения того, кто был евреем и насколько был евреем, – не могут похвастаться в Европе хорошей традицией. Что важнее, в литературе больший вес, чем судьба автора, имеет его творчество. Еврейский опыт (как любой другой опыт) должен быть в нем явственно записан, хотя бы частично или опосредованно. В польской литературе порой можно натолкнуться на такие романы, где только разбирающийся в эпохе читатель сможет верно идентифицировать среду или социальный менталитет героев. Так, например, происходит в „Семейных мифах“ Адама Важика или „Высоком Замке“ Станислава Лема. Исследователь, конечно, не обязан разделять тактичное умалчивание автора. Однако мне было бы трудно анализировать такие романы рядом с „Голосами в темноте“, чья экзотика не только открыто явлена, но и получает авторское определение»[24 - Blonski J. Autoportret zydowski, czyli o zydowskiej szkole w literaturze polskiej // Blonski J. Biedni Polacy patrza na getto. Krakоw: Wydawnictwo Literackie, 2008. S. 85–86.].
Если перенести все эти оговорки Блонского на театральную почву, ситуация окажется еще более драматичной: театр – искусство, многократно опосредованное, еврейский опыт «затемнялся и камуфлировался» тут будто бы по самой природе сцены как медиума, а выяснение «кто был евреем и насколько был евреем» может показаться еще более неуместным, злоумышленным и ничем не обусловленным. Все это не влияет, однако на факт, что пытаясь вписать польский театр в рамки культуры свидетельствования, мы должны принимать во внимание дифференцированную, меняющуюся и к тому же часто закамуфлированную позицию свидетеля, а это все трудно было бы сделать без элементарной биографической информации. Блонский, хоть и протестуя, в конце концов позволяет себе это, указывая (вслед за Александром Гертцем) на модель американской культуры, неповторимо богатой именно благодаря тому, что ее авторы явственным образом обращаются к своим корням и специфическому историческому опыту. Из размышлений Блонского следует важный вывод: польскую литературу, связанную с тематикой Катастрофы, не получается полностью отнести к свидетельствам наблюдателей и в то же самое время не всегда удается однозначно локализовать позицию повествователя в том или ином пункте того треугольника, который выстроил Хильберг. Позиции свидетеля и жертвы часто накладывались друг на друга, что привело к справедливо осуждаемым сегодня идеологическим практикам апроприации еврейского страдания в качестве страдания поляков (особенно если учесть, что польскость в послевоенной Польше часто определялась по этническим, националистическим критериям, а не по критериям культурного самосознания). Это ничего не меняет, однако, в том факте, что польская культура заключает в себе два полюса. На одном из них находятся попытки соотнести себя со «страданием и смертью Иного», а на другом – «непосредственный опыт тех, кто был обречен на смерть»[25 - Panas W. Pismo i rana. Szkice o problematyce zydowskiej w literaturze polskiej. Lublin: Wydawnictwo DABAR, 1996. S. 100.]. Польская литература не только оказывается способной вчувствоваться в чужое страдание, но также несет опыт Катастрофы из самого ее эпицентра, с позиции жертв.
Этот разрыв, создающий феномен двух языков, стал глубоким и фундаментальным опытом польской культуры после Катастрофы. Как пишет Владислав Панас: «Через творчество этих писателей [с еврейскими корнями] польская литература непосредственно открывается на еврейскую перспективу катастрофы. Тут нет потребности „вчувствоваться“ в ситуацию Иного, необходимости привести в ход воображение, эрудицию и т. д., чтобы прозвучала правда о шоа. Непосредственный опыт тех, кто был обречен на смерть. Это один из внутренних полюсов нашей литературы»[26 - Ibid.]. Этот полюс существует также и в польском театре.
Польский театр после 1945 года в течение нескольких десятилетий создавался артистами (режиссерами, драматургами, актерами, сценографами), которые были или непосредственными свидетелями Катастрофы, или теми, кто в ней уцелел. Приведу один, особенно показательный пример – Хенрика Гринберга, который еще ребенком появился в кадрах «Пограничной улицы» Александра Форда (с одной репликой – «Это те эсесовские собаки!..»), а затем – в 1950 году в роли еврейского мальчика в «Немцах» Леона Кручковского на сцене лодзинского театра «Повшехны». «В Лодзи женщины в зрительном зале порой лишались чувств, когда я рассказывал: „Всех нас убили, маму, дедушку, маленькую Эстер, и только я…“»[27 - Grynberg H. Prawda nieartystyczna. Wolowiec: Wydawnictwo Czarne, 2002. S. 37.] Через несколько лет Гринберг дебютирует в Еврейском театре, возглавляемом Идой Каминской, в пьесе Шимона Диаманта «В зимнюю ночь», рассказывающей о еврейском мальчике, укрывающемся у польских крестьян. В «Личной жизни» Гринберг пишет о своей игре в этом спектакле, как если бы речь шла о ситуации свидетельствования о собственном личном опыте: «Я не был актером и не должен был им быть. Не играл и не должен был играть. Все это само во мне играло. Я выходил к рампе, протягивал руки к черной пустоте, открывал широко глаза и губы – и рассказывал»[28 - Grynberg H. Zycie osobiste. Warszawa: Oficyna Wydawnicza «Pokolenie», 1989. S. 22.]. Можно задать вопрос, «актерский» ли опыт Гринберга позволил ему представить в «Еврейской войне» собственные переживания времен Катастрофы в рамках метафоры театра или наоборот – детские переживания стали импульсом к тому, чтобы поступить в Еврейский театр? Можно сказать, что случай Гринберга – предельный и исключительный. Но можно также предположить, что такого рода ситуация свидетельствования подспудно определяла облик многих театральных спектаклей. Неожиданным примером может быть авангардный спектакль «Водяной курочки» в Крико-2, который заставляет задать вопрос, в какой мере Тадеуш Кантор реконструировал в этой работе собственную позицию свидетеля Катастрофы, одновременно делая невозможным ее расшифровку и включение в какую бы то ни было упорядоченную систему коллективной памяти. Проблема свидетельствования касается также и театральных критиков – зрителей, обладающих привилегией публичного высказывания. Многие из них прошли через Катастрофу (в том числе Ян Котт, Леония Яблонкувна, Богдан Войдовский, Роман Шидловский, Анджей Врублевский); некоторые их театральные рецензии (даже тех спектаклей, которые не относились непосредственно к Катастрофе) можно читать сегодня как свидетельства их опыта, связанного с Катастрофой[29 - Примером могут послужить удивительные рецензии Леонии Яблонкувны по поводу двух спектаклей Ежи Гротовского: «Стойкого принца» («Ksiaze Niezlomny» w Teatrze 13 Rzedоw // Teatr. 1966. Nr 2) и Apocalypsis cum figuris (Klucz od przepasci // Teatr. 1969. Nr 18). Яблонкувна несравненным образом прочитала подсознательную, аффективную, травматическую речь обоих спектаклей и скрытый месседж последнего спектакля Гротовского: «Разыгралась жестокая церемония, ритуал специфического священнодействия, мистерия святости и греха, обожания и обесчещивания, мученичества и профанации – но не оставила после себя никакого следа […]. Может, это и есть ключ к тайне нового Апокалипсиса: то, что мученичество не оставляет никакого следа, что великое жертвоприношение оказывается напрасным?»].
И тем не менее применение такого биографического подхода наталкивается на целый ряд трудностей и преград. Например, факт еврейского происхождения многими артистами и критиками не афишировался (по разнообразным и сложным причинам: из?за ощущения полной ассимиляции, страха перед антисемитизмом, потребностью забыть о травматическом исключении из сообщества), и благодаря этому пережитое ими во время войны часто оставалось неизвестным или известным очень фрагментарно. Более того, стратегия свидетельствования через театральный спектакль или через факт его комментирования относится не только к художникам и критикам еврейского происхождения, непосредственно затронутым Катастрофой. Но оправдано ли было бы решение исключить столь обширный и пронзительный опыт из поля размышлений о послевоенном польском театре, ссылаясь на отсутствие полной информации или из?за боязни впасть в чрезмерную биографичность по отношению к произведению искусства? Особенно если учесть, что этот опыт касается всего «общества свидетелей», а таким образом – и зрителей. Именно поэтому польский театр после 1945 года стал местом циркуляции связанных с историческим опытом аффектов и скрытых культурных трансакций, в которых образы Катастрофы подвергались разнообразным процедурам апроприации и деформации. Мне кажется, мы с трудом могли бы найти в послевоенном европейском искусстве сопоставимое явление. Особенно важную роль в этом феномене играла в первую очередь публика, готовая вести сложную игру с тем, что было ею вытеснено, помещено вне границ памяти – однако эта игра приводила и к болезненному крушению защитных механизмов. Исследуя театр как медиум памяти о Катастрофе, нужно принять в качестве аксиомы факт существования сложных процессов травматического повтора, терапевтического переноса, защитного вытеснения, в которые были вовлечены все участники такого сценического события, каким является театральный спектакль.
Эта сложная ситуация отчетливо проявляется в восприятии политической по замыслу драмы Петера Вайса «Процесс», посвященной франкфуртскому процессу и имевшей целью обнаружить связи между нацистским прошлым и капиталистической современностью Западной Германии. Поставленная в 1966 году Эрвином Аксером в театре «Вспулчесны» в Варшаве, с одной стороны, эта драма вызвала глубокий эмоциональный шок публики, а с другой стороны – выявила характерные для польской культуры защитные механизмы, которые вслед за Фрейдом можно назвать явлением dеj? racontе (чего-то уже ранее рассказанного и слышанного, что стало всем известно и проработано). Почти все рецензенты писали: мы не узнаем (мы – т. е. публика; мы – поляки) из этой драмы ничего нового. Варшавская постановка обнажила защитные механизмы, скрывающиеся за такой позицией[30 - «Спектакль был так переполнен уважением к страданию, о котором говорится в пьесе, что мы не только были в состоянии слушать текст, но и полностью отдавали себя во власть его страшной красоты». Збигнев Рашевский, автор этих слов, вспоминает спектакль Аксера как один из самых важных, которые видел за всю жизнь. О роли Тадеуша Ломницкого в этом спектакле он написал с пафосом: «Если бы остывший пепел мог заговорить, звучало бы это наверняка так, как звучит голос Ломницкого в этой роли» (Raszewski Z. Spacerek w labiryncie. O teatrze polskim po 1958 roku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Errata, 2007. S. 258).]. Волновало не только то, что говорят в пьесе Вайса свидетели, сколько шоковое состояние, в котором находились свидетели в спектакле Аксера – это было непрекращающееся, колющее глаза состояние онемения, в котором публика видела свое собственное отражение[31 - См. главу «Первичная сцена».].
Занимаясь спецификой польского театра, возрождающегося после 1945 года в обществе свидетелей Катастрофы, несомненным надо принять факт существования общественной памяти о конкретных событиях (о том, что население еврейских городов и селений уничтожалось, что организовывались и затем ликвидировались гетто, о том, что знакомых и незнакомых людей, с одной стороны, укрывали, с другой стороны – выдавали, о том, что имели место сцены публичного унижения и смерти). Нужно также признать аксиомой их достаточную, а порой и полную видимость, а как следствие – то, что любые попытки сослаться на эту память вызывали острую и сильную реакцию. А это – особенно в условиях разыгрывающегося здесь и сейчас театрального спектакля – всегда имело исключительное эмоциональное значение: определяло восприятие спектакля, но также и воздвигало преграды.