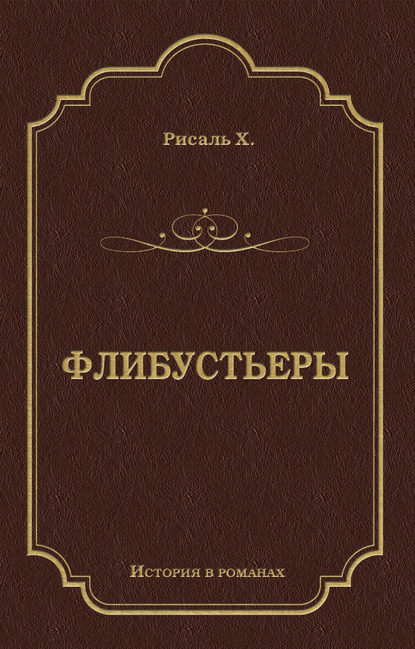По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Флибустьеры
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1891
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Флибустьеры
Хосе Протасио Рисаль
История в романах
Хосе Протасио Рисаль Меркадо и Алонсо Реалонда (1861–1896) – таково полное имя самого почитаемого в народе национального героя Филиппин, прозванного «гордостью малайской расы». Писатель и поэт, лингвист и историк, скульптор и живописец. Рисаль был. кроме того, известен как врач, зоолог, этнограф и переводчик (он знал более двух десятков языков). Будущий идеолог возрождения народов Юго-Восточной Азии получил образование в Манильском университете, а также в Испании и Германии. Его обличительные антиколониальные романы «Не прикасайся ко мне» (1887), «Флибустьеры» (1891) и политические памфлеты сыграли большую роль в пробуждении свободомыслия и национального самосознания филиппинской интеллигенции. Рисаль бьш казнен за подготовку восстания против испанского господства на Филиппинах.
Публикуемый в данном томе роман «Флибустьеры», повествует о годах владычества испанских колонизаторов на Филиппинах. о героической борьбе филиппинского народа за независимость своей родины. Ее знаменем стало имя самого Хосе Рисаля. который на страницах книга перевоплощается в своего героя и вместе с ним строит планы борьбы и мести.
Хосе Рисаль
Флибустьеры
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009
© ООО «РИЦ Литература», 2009
* * *
Можно подумать, будто некий флибустьер тайными чарами понуждал клику святош и ретроградов, чтобы они, невольно выполняя его замысел, проводили и поощряли политику, устремленную к одной цели: распространить дух флибустьерства по всей стране и убедить всех филиппинцев до единого, что нет для них иного спасения, как отделиться от матери-родины.
Фердинанд Блюментритт[1 - Фердинанд Блюментритт (1853–1913) – австрийский общественный деятель и ученый, занимавшийся изучением Китая и Филиппин, близкий друг Хосе Рисаля.]
Посвящается памяти священников дона Мариано Гомеса (85 лет), дона Хосе Бургоса (30 лет) и дона Хасинго Самары (35 лет), казненных на Багумбаянском поле[2 - В описываемое время – площадь на окраине Манилы, традиционное место казни участников антииспанских выступлений; 30 декабря 1896 г. на Багумбаянском поле был расстрелян и Хосе Рисаль.] 28 февраля 1872 года.
Церковь, отказавшись лишить вас сана, выразила сомнение в вашей преступности; правительство, окружив ваше дело тайной и глухими намеками, посеяло подозрения, что в тяжкую минуту им была совершена роковая ошибка; а Филиппины, свято чтя вашу память и называя вас мучениками, не признают вас виновными.
И пока не будет доказано ваше участие в кавитском восстании, пока не выяснится, были вы или не были патриотами, поборниками справедливости и свободы, я вправе посвятить мой труд вам, павшим жертвами того зла, с которым я пытаюсь бороться. В ожидании дня, когда Испания оправдает вас и объявит себя непричастной к вашей гибели, да послужат эти страницы запоздалым венком из увядших листьев, который я возлагаю на безвестные ваши могилы! И всякий, кто бездоказательно чернит вашу память, да прослывет убийцей, запятнанным вашей кровью!
X. Рисаль
I
На верхней палубе
Sic itur ad astra[3 - Так идут к звездам (лат.).].
Декабрьским утром по извилистому руслу реки Пасиг[4 - Пасиг – река на острове Лусон, на которой расположена Манила.], пыхтя, поднимался пароход «Табо», везший многочисленных пассажиров в провинцию Лагуна[5 - Лагуна – провинция в Южном Лусоне (современная пров. Лагуна-де-Бай).]. Его неуклюжий, бочковатый корпус напоминал табу[6 - Табу – сосуд, изготавливаемый из половины кокосового ореха (тагал.).], откуда и произошло название; он был грязноват, но с претензией казаться белым, и, благодаря своей медлительности, двигался торжественно и важно. И все же в округе относились к нему с нежностью, – не то из-за тагальского названия, не то из-за его сугубо филиппинского характера, главное свойство коего – неприятие прогресса. Казалось, это был вовсе не пароход, а некое неподвластное переменам, пусть несовершенное, но не подлежащее критике существо, которое кичится своей прогрессивностью только потому, что покрыто снаружи слоем краски. И в самом деле, этот благословенный пароход был истинно филиппинским! При некотором воображении его можно было даже принять за наш государственный корабль, сооруженный попечением преподобных и сиятельных особ.
В лучах утреннего солнца, серебрящих речную зыбь, под протяжный свист ветра в прибрежных зарослях гибкого тростника плывет вдаль его белый силуэт, увенчанный султаном черного дыма. Что ж, говорят, государственный корабль тоже изрядно дымит!.. «Табо» ежеминутно гудит, хрипло и властно, как деспот, призывающий окриками к повиновению, и столь оглушительно, что пассажиры не слышат один другого. Он угрожает всему на своем пути. Вот-вот он сокрушит саламбао – хрупкие рыболовные снасти, которые качаются над водой, точно скелеты великанов, приветствующих допотопную черепаху; очертя голову грозно устремляется он то на тростниковые заросли, то на ящериц карихан, притаившихся среди гумамелей[7 - Гумамели – цветы из семейства мальвовых.] и других цветов, подобно нерешительным купальщикам, которые, уже войдя в воду, никак не отважатся нырнуть. Следуя по фарватеру, отмеченному в реке тростниковыми стеблями, «Табо» преисполнен самодовольства. Но вдруг сильный толчок едва не валит с ног пассажиров: наскочили на перекат, которого здесь раньше не было.
Если сравнение с государственным кораблем кажется еще не совсем убедительным, взгляните, как разместились пассажиры. На нижней палубе – смуглые лица, черные шевелюры; здесь, среди тюков и ящиков с товарами, теснятся индейцы, китайцы, метисы, тогда как на верхней палубе, под сенью тента, расположились в удобных креслах несколько монахов и одетых по-европейски чиновников; они курят сигары, любуются пейзажем и словно не замечают, с каким трудом капитан и матросы преодолевают речные препятствия.
Капитан, пожилой человек с добродушным лицом, – бывалый моряк, который в молодости плавал на более быстроходных судах по более обширным водным просторам, а теперь, на склоне лет, вынужден сосредоточивать все свое внимание на том, чтобы осторожно обходить ничтожные помехи. Каждый день одно и то же: те же илистые перекаты, та же махина парохода, застревающего на тех же поворотах, как тучная дама в толпе; и почтенному капитану то и дело приходится стопорить, пятиться, убавлять пары и посылать полдесятка матросов, вооруженных длинными шестами, то на бакборт, то на штирборт, чтобы помогли рулевому одолеть поворот. Ни дать ни взять ветеран, водивший некогда отряды в смелые атаки, а в старости приставленный гувернером к капризному, строптивому увальню!
А о том, похож ли «Табо» на капризного увальня, может кое-что сказать донья Викторина, единственная дама, сидящая в кружке одетых по-европейски мужчин, донья Викторина, которая, как всегда, раздражительна и осыпает проклятьями все эти барки, челноки, плоты с кокосовыми орехами, индейцев-лодочников, даже прачек и купающихся, – они действуют ей на нервы своей веселой возней! О да, «Табо» мог бы идти превосходно, не будь индейцев на реке, не будь индейцев в стране, да-да, не будь ни одного индейца на свете! Она забыла, что рулевые на пароходе – индейцы, что из ста пассажиров девяносто девять – индейцы и что сама она – индианка, в чем легко убедиться, если соскрести с ее лица белила и снять с нее щегольской капот. В это утро донья Викторина особенно несносна, ей кажется, что господа на верхней палубе уделяют ей мало внимания, а права ли она, посудите сами. Ведь здесь сидят три монаха, убежденные в том, что в тот день, когда они сделают шаг вперед, весь мир перевернется; здесь изобретательный дон Кустодио, который сейчас мирно дремлет, упоенный своими прожектами; и плодовитый писатель Бен-Саиб (он же Ибаньес), полагающий, что в Маниле мыслят лишь потому, что мыслит он, Бен-Саиб; и краса духовенства отец Ирене, в отлично сшитой шелковой сутане с мелкими пуговками, – на его чисто выбритом, румяном лице красуется великолепный иудейский нос; и богач ювелир Симон, который слывет советчиком самого генерал-губернатора и вдохновителем всех его действий. Судите же сами, каково находиться среди таких столпов общества, sine quibus non[8 - Без которых нельзя обойтись (лат.).], и видеть, что они, увлекшись приятной беседой, забыли о существовании филиппинки-отступницы, которая красит волосы в белокурый цвет! Да, тут есть от чего потерять терпение «многострадальной Иове», как называет себя донья Викторина, когда на кого-нибудь злится.
Дурное расположение этой дамы усугубляется всякий раз, когда по команде капитана «бакборт!», «штирборт!» матросы проворно вытаскивают из воды бамбуковые шесты и, напрягая изо всех сил ноги и спины, упираются то в один, то в другой берег, чтобы пароход не наскочил на мель. В такие минуты кажется, будто государственный корабль, чуя приближение опасности, превращается из медлительной черепахи в рака.
– Но послушайте, капитан, почему ваши болваны рулевые правят в эту сторону? – негодующе вопрошает донья Викторина.
– Потому, что здесь глубже, сударыня, – очень спокойно отвечает капитан, подмигивая одним глазом.
Этим подмигиваньем, вошедшим в привычку, капитан как бы командует сам себе: «Тихий ход, самый тихий!»
– Все средний ход да средний! – возмущается донья Викторина. – Зачем же не полный?
– Тогда, сударыня, мы заплыли бы на эти рисовые поля, – невозмутимо возражает капитан, выпячивая губы в направлении полей и все так же легонько подмигивая.
Донью Викторину хорошо знали в этих краях из-за ее чудачеств и капризов. Она много бывала в обществе, где ее терпели ради ее племянницы, прелестной Паулиты Гомес, богатой невесты и круглой сироты, при которой донья Викторина была как бы опекуншей. Почтенная сеньора уже немолодой вышла замуж за неудачника дона Тибурсио де Эспаданья и ко времени нашего рассказа состояла в браке пятнадцать лет, носила накладные букли и полуевропейский наряд. Больше всего ей хотелось прослыть европейской дамой, и со злополучного дня своего замужества она, прибегая к дозволенным и недозволенным средствам, настолько преуспела в этом, что ныне ни Катрефаж, ни Вирхов[9 - Катрефаж де Брео, Жан-Луи-Арман (1810–1892) – французский зоолог и антрополог. Рудольф Вирхов (1821–1902) – крупный немецкий ученый-биолог. Занимался также археологией и антропологией, в частности, интересовался народностями на Филиппинах.] не сумели бы отнести ее к какой-либо из уже известных рас. Супруг долгие годы сносил ее тиранию с кротостью йога, но в некий роковой день поддался на пятнадцать минут пагубному гневу и знатно отколотил благоверную своим костылем. Пораженная такой внезапной переменой в его характере, сеньора «Иова» сперва даже не почувствовала боли; лишь оправившись от испуга, она заохала и слегла на несколько дней, к великой радости хохотушки и насмешницы Паулиты. Тем временем супруг, ужаснувшись собственному кощунству, которое граничило в его глазах с омерзительным грехом матереубийства, и преследуемый фуриями – хранительницами брака (двумя комнатными собачками и ручным попугаем), обратился в бегство со всей прытью, на какую способен хромой. Он вскочил в первый попавшийся экипаж, затем, добравшись до реки, пересел в первую встречную лодку и – новоявленный филиппинский Улисс – пустился странствовать из города в город, из провинции в провинцию, с острова на остров; а за ним вслед устремилась его Калипсо в пенсне, докучая всем своим спутникам. Недавно она прослышала, что супруг ее скрывается в одном из городов провинции Лагуна, и отправилась туда прельщать беглеца своими крашеными буклями.
Ее спутники на борту «Табо» прибегли к оборонительному маневру: они оживленно беседовали между собой обо всем, что только приходило на ум. Излучины и повороты реки оказались благодарной темой, и речь зашла о выпрямлении русла, а также, само собой, о работах по сооружению порта.
Бен-Саиб, писатель с лицом монаха, вступил в спор с молодым священником, похожим на артиллериста. Оба кричали и сильно жестикулировали; разводя руками, воздевая их к небу, хлопая друг друга по плечу, они говорили об уровне воды, о рыболовных топях, о реке Сан-Матео, о челноках, об индейцах и т. д., к большому удовольствию почти всех своих слушателей, за исключением двоих – изможденного пожилого францисканца и представительного доминиканца, на губах которого блуждала ироническая улыбка.
Худощавый францисканец, понимая, что означает улыбка доминиканца, решил вмешаться и прекратить спор. По-видимому, он пользовался авторитетом – стоило ему сделать знак рукой, как спорящие вмиг умолкли. Монах-артиллерист как раз говорил о практическом опыте, а писатель-монах – об ученых.
– А знаете ли вы, Бен-Саиб, чего стоят ваши ученые? – сказал глухим голосом францисканец, чуть повернувшись в кресле и приподняв иссохшую руку. – Вот здесь, в этой провинции, есть мост Капризов. Строил его один из наших братьев, но не закончил, ибо эти ваши ученые, на основе своих теорий, решили, что мост будет недостаточно прочен. А поглядите-ка, мост до сих пор держится, назло всем наводнениям и землетрясениям!
– Вот-вот, провалиться мне, именно это я и хотел сказать! – воскликнул монах-артиллерист, ударяя кулаком по ручке плетеного кресла, – Об ученых и об этом самом сооружении я и хотел сказать, отец Сальви, провалиться мне!
Бен-Саиб, еле заметно улыбаясь, молчал, то ли из почтения, то ли и впрямь не знал, что ответить, а ведь он был единственный мыслящий человек на Филиппинах! Отец Ирене одобрительно кивал головой, потирая свой длинный нос.
Худощавый, изможденный монах – это был отец Сальви, – удовлетворенный таким смирением, продолжал:
– Но это отнюдь не значит, что вы менее правы, нежели отец Каморра (так звали монаха-артиллериста). Все зло в лагуне…
– Даже порядочной лагуны нет в этой стране! – с неподдельным возмущением снова устремилась в атаку донья Викторина, желая во что бы то ни стало прорваться в крепость противника.
Осажденные в ужасе переглянулись, но тут ювелир Симон с находчивостью полководца пришел им на помощь.
– Я знаю очень простой способ улучшить водные пути, – сказал он, выговаривая слова с каким-то странным, не то английским, не то южноамериканским акцентом. – Удивляюсь, как это никто еще до него не додумался.
Все обернулись к нему с живейшим любопытством, даже доминиканец. Ювелир был высокий, сухопарый, жилистый, очень смуглый человек в тинсинском шлеме, одетый на английский манер. Его длинные, совершенно седые волосы и черная, редкая бородка указывали на смешанное происхождение. Для защиты от солнечных лучей он носил огромные синие очки с козырьком, которые закрывали глаза и часть лица. Стоял он, засунув руки в карманы куртки и широко расставив ноги, как бы для равновесия.
– Способ очень простой, – повторил он, – и это не стоило бы ни одного куарто.
Слова ювелира разожгли любопытство. В Маниле поговаривали, что Симон имеет большое влияние на генерал-губернатора; все прониклись уверенностью, что его идея близка к осуществлению. Дон Кустодио и тот обернулся.
– Надо прорыть прямой канал от устья реки до ее истоков, проведя его через Манилу, то есть надо создать новую реку и засыпать старое русло Пасига. Это высвободит большие участки земли, сократит путь. Ну и, само собой разумеется, в новой реке уже не будет мелей!
Проект поразил слушателей, привыкших к полумерам.
– Истинно американский размах! – заметил Бен-Саиб, желая польстить Симону: ювелир долгое время провел в Северной Америке.
Все находили проект грандиозным и одобрительно кивали. Лишь дон Кустодио, либерал дон Кустодио, как человек независимый и занимающий высокие посты, счел своим долгом раскритиковать проект, автором которого был не он, – ведь это покушение на его права! Кашлянув, он пригладил усы и внушительным тоном, словно выступая на заседании аюнтамьенто[10 - Аюнтамьенто (исп.) – муниципалитет.], сказал:
– Простите, сеньор Симон, достойный мой друг, но я должен признаться, что не разделяю вашего мнения. Ваш проект потребовал бы огромных затрат. Возможно, пришлось бы снести целые деревни.
– И снесем! – холодно возразил Симон.
Хосе Протасио Рисаль
История в романах
Хосе Протасио Рисаль Меркадо и Алонсо Реалонда (1861–1896) – таково полное имя самого почитаемого в народе национального героя Филиппин, прозванного «гордостью малайской расы». Писатель и поэт, лингвист и историк, скульптор и живописец. Рисаль был. кроме того, известен как врач, зоолог, этнограф и переводчик (он знал более двух десятков языков). Будущий идеолог возрождения народов Юго-Восточной Азии получил образование в Манильском университете, а также в Испании и Германии. Его обличительные антиколониальные романы «Не прикасайся ко мне» (1887), «Флибустьеры» (1891) и политические памфлеты сыграли большую роль в пробуждении свободомыслия и национального самосознания филиппинской интеллигенции. Рисаль бьш казнен за подготовку восстания против испанского господства на Филиппинах.
Публикуемый в данном томе роман «Флибустьеры», повествует о годах владычества испанских колонизаторов на Филиппинах. о героической борьбе филиппинского народа за независимость своей родины. Ее знаменем стало имя самого Хосе Рисаля. который на страницах книга перевоплощается в своего героя и вместе с ним строит планы борьбы и мести.
Хосе Рисаль
Флибустьеры
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009
© ООО «РИЦ Литература», 2009
* * *
Можно подумать, будто некий флибустьер тайными чарами понуждал клику святош и ретроградов, чтобы они, невольно выполняя его замысел, проводили и поощряли политику, устремленную к одной цели: распространить дух флибустьерства по всей стране и убедить всех филиппинцев до единого, что нет для них иного спасения, как отделиться от матери-родины.
Фердинанд Блюментритт[1 - Фердинанд Блюментритт (1853–1913) – австрийский общественный деятель и ученый, занимавшийся изучением Китая и Филиппин, близкий друг Хосе Рисаля.]
Посвящается памяти священников дона Мариано Гомеса (85 лет), дона Хосе Бургоса (30 лет) и дона Хасинго Самары (35 лет), казненных на Багумбаянском поле[2 - В описываемое время – площадь на окраине Манилы, традиционное место казни участников антииспанских выступлений; 30 декабря 1896 г. на Багумбаянском поле был расстрелян и Хосе Рисаль.] 28 февраля 1872 года.
Церковь, отказавшись лишить вас сана, выразила сомнение в вашей преступности; правительство, окружив ваше дело тайной и глухими намеками, посеяло подозрения, что в тяжкую минуту им была совершена роковая ошибка; а Филиппины, свято чтя вашу память и называя вас мучениками, не признают вас виновными.
И пока не будет доказано ваше участие в кавитском восстании, пока не выяснится, были вы или не были патриотами, поборниками справедливости и свободы, я вправе посвятить мой труд вам, павшим жертвами того зла, с которым я пытаюсь бороться. В ожидании дня, когда Испания оправдает вас и объявит себя непричастной к вашей гибели, да послужат эти страницы запоздалым венком из увядших листьев, который я возлагаю на безвестные ваши могилы! И всякий, кто бездоказательно чернит вашу память, да прослывет убийцей, запятнанным вашей кровью!
X. Рисаль
I
На верхней палубе
Sic itur ad astra[3 - Так идут к звездам (лат.).].
Декабрьским утром по извилистому руслу реки Пасиг[4 - Пасиг – река на острове Лусон, на которой расположена Манила.], пыхтя, поднимался пароход «Табо», везший многочисленных пассажиров в провинцию Лагуна[5 - Лагуна – провинция в Южном Лусоне (современная пров. Лагуна-де-Бай).]. Его неуклюжий, бочковатый корпус напоминал табу[6 - Табу – сосуд, изготавливаемый из половины кокосового ореха (тагал.).], откуда и произошло название; он был грязноват, но с претензией казаться белым, и, благодаря своей медлительности, двигался торжественно и важно. И все же в округе относились к нему с нежностью, – не то из-за тагальского названия, не то из-за его сугубо филиппинского характера, главное свойство коего – неприятие прогресса. Казалось, это был вовсе не пароход, а некое неподвластное переменам, пусть несовершенное, но не подлежащее критике существо, которое кичится своей прогрессивностью только потому, что покрыто снаружи слоем краски. И в самом деле, этот благословенный пароход был истинно филиппинским! При некотором воображении его можно было даже принять за наш государственный корабль, сооруженный попечением преподобных и сиятельных особ.
В лучах утреннего солнца, серебрящих речную зыбь, под протяжный свист ветра в прибрежных зарослях гибкого тростника плывет вдаль его белый силуэт, увенчанный султаном черного дыма. Что ж, говорят, государственный корабль тоже изрядно дымит!.. «Табо» ежеминутно гудит, хрипло и властно, как деспот, призывающий окриками к повиновению, и столь оглушительно, что пассажиры не слышат один другого. Он угрожает всему на своем пути. Вот-вот он сокрушит саламбао – хрупкие рыболовные снасти, которые качаются над водой, точно скелеты великанов, приветствующих допотопную черепаху; очертя голову грозно устремляется он то на тростниковые заросли, то на ящериц карихан, притаившихся среди гумамелей[7 - Гумамели – цветы из семейства мальвовых.] и других цветов, подобно нерешительным купальщикам, которые, уже войдя в воду, никак не отважатся нырнуть. Следуя по фарватеру, отмеченному в реке тростниковыми стеблями, «Табо» преисполнен самодовольства. Но вдруг сильный толчок едва не валит с ног пассажиров: наскочили на перекат, которого здесь раньше не было.
Если сравнение с государственным кораблем кажется еще не совсем убедительным, взгляните, как разместились пассажиры. На нижней палубе – смуглые лица, черные шевелюры; здесь, среди тюков и ящиков с товарами, теснятся индейцы, китайцы, метисы, тогда как на верхней палубе, под сенью тента, расположились в удобных креслах несколько монахов и одетых по-европейски чиновников; они курят сигары, любуются пейзажем и словно не замечают, с каким трудом капитан и матросы преодолевают речные препятствия.
Капитан, пожилой человек с добродушным лицом, – бывалый моряк, который в молодости плавал на более быстроходных судах по более обширным водным просторам, а теперь, на склоне лет, вынужден сосредоточивать все свое внимание на том, чтобы осторожно обходить ничтожные помехи. Каждый день одно и то же: те же илистые перекаты, та же махина парохода, застревающего на тех же поворотах, как тучная дама в толпе; и почтенному капитану то и дело приходится стопорить, пятиться, убавлять пары и посылать полдесятка матросов, вооруженных длинными шестами, то на бакборт, то на штирборт, чтобы помогли рулевому одолеть поворот. Ни дать ни взять ветеран, водивший некогда отряды в смелые атаки, а в старости приставленный гувернером к капризному, строптивому увальню!
А о том, похож ли «Табо» на капризного увальня, может кое-что сказать донья Викторина, единственная дама, сидящая в кружке одетых по-европейски мужчин, донья Викторина, которая, как всегда, раздражительна и осыпает проклятьями все эти барки, челноки, плоты с кокосовыми орехами, индейцев-лодочников, даже прачек и купающихся, – они действуют ей на нервы своей веселой возней! О да, «Табо» мог бы идти превосходно, не будь индейцев на реке, не будь индейцев в стране, да-да, не будь ни одного индейца на свете! Она забыла, что рулевые на пароходе – индейцы, что из ста пассажиров девяносто девять – индейцы и что сама она – индианка, в чем легко убедиться, если соскрести с ее лица белила и снять с нее щегольской капот. В это утро донья Викторина особенно несносна, ей кажется, что господа на верхней палубе уделяют ей мало внимания, а права ли она, посудите сами. Ведь здесь сидят три монаха, убежденные в том, что в тот день, когда они сделают шаг вперед, весь мир перевернется; здесь изобретательный дон Кустодио, который сейчас мирно дремлет, упоенный своими прожектами; и плодовитый писатель Бен-Саиб (он же Ибаньес), полагающий, что в Маниле мыслят лишь потому, что мыслит он, Бен-Саиб; и краса духовенства отец Ирене, в отлично сшитой шелковой сутане с мелкими пуговками, – на его чисто выбритом, румяном лице красуется великолепный иудейский нос; и богач ювелир Симон, который слывет советчиком самого генерал-губернатора и вдохновителем всех его действий. Судите же сами, каково находиться среди таких столпов общества, sine quibus non[8 - Без которых нельзя обойтись (лат.).], и видеть, что они, увлекшись приятной беседой, забыли о существовании филиппинки-отступницы, которая красит волосы в белокурый цвет! Да, тут есть от чего потерять терпение «многострадальной Иове», как называет себя донья Викторина, когда на кого-нибудь злится.
Дурное расположение этой дамы усугубляется всякий раз, когда по команде капитана «бакборт!», «штирборт!» матросы проворно вытаскивают из воды бамбуковые шесты и, напрягая изо всех сил ноги и спины, упираются то в один, то в другой берег, чтобы пароход не наскочил на мель. В такие минуты кажется, будто государственный корабль, чуя приближение опасности, превращается из медлительной черепахи в рака.
– Но послушайте, капитан, почему ваши болваны рулевые правят в эту сторону? – негодующе вопрошает донья Викторина.
– Потому, что здесь глубже, сударыня, – очень спокойно отвечает капитан, подмигивая одним глазом.
Этим подмигиваньем, вошедшим в привычку, капитан как бы командует сам себе: «Тихий ход, самый тихий!»
– Все средний ход да средний! – возмущается донья Викторина. – Зачем же не полный?
– Тогда, сударыня, мы заплыли бы на эти рисовые поля, – невозмутимо возражает капитан, выпячивая губы в направлении полей и все так же легонько подмигивая.
Донью Викторину хорошо знали в этих краях из-за ее чудачеств и капризов. Она много бывала в обществе, где ее терпели ради ее племянницы, прелестной Паулиты Гомес, богатой невесты и круглой сироты, при которой донья Викторина была как бы опекуншей. Почтенная сеньора уже немолодой вышла замуж за неудачника дона Тибурсио де Эспаданья и ко времени нашего рассказа состояла в браке пятнадцать лет, носила накладные букли и полуевропейский наряд. Больше всего ей хотелось прослыть европейской дамой, и со злополучного дня своего замужества она, прибегая к дозволенным и недозволенным средствам, настолько преуспела в этом, что ныне ни Катрефаж, ни Вирхов[9 - Катрефаж де Брео, Жан-Луи-Арман (1810–1892) – французский зоолог и антрополог. Рудольф Вирхов (1821–1902) – крупный немецкий ученый-биолог. Занимался также археологией и антропологией, в частности, интересовался народностями на Филиппинах.] не сумели бы отнести ее к какой-либо из уже известных рас. Супруг долгие годы сносил ее тиранию с кротостью йога, но в некий роковой день поддался на пятнадцать минут пагубному гневу и знатно отколотил благоверную своим костылем. Пораженная такой внезапной переменой в его характере, сеньора «Иова» сперва даже не почувствовала боли; лишь оправившись от испуга, она заохала и слегла на несколько дней, к великой радости хохотушки и насмешницы Паулиты. Тем временем супруг, ужаснувшись собственному кощунству, которое граничило в его глазах с омерзительным грехом матереубийства, и преследуемый фуриями – хранительницами брака (двумя комнатными собачками и ручным попугаем), обратился в бегство со всей прытью, на какую способен хромой. Он вскочил в первый попавшийся экипаж, затем, добравшись до реки, пересел в первую встречную лодку и – новоявленный филиппинский Улисс – пустился странствовать из города в город, из провинции в провинцию, с острова на остров; а за ним вслед устремилась его Калипсо в пенсне, докучая всем своим спутникам. Недавно она прослышала, что супруг ее скрывается в одном из городов провинции Лагуна, и отправилась туда прельщать беглеца своими крашеными буклями.
Ее спутники на борту «Табо» прибегли к оборонительному маневру: они оживленно беседовали между собой обо всем, что только приходило на ум. Излучины и повороты реки оказались благодарной темой, и речь зашла о выпрямлении русла, а также, само собой, о работах по сооружению порта.
Бен-Саиб, писатель с лицом монаха, вступил в спор с молодым священником, похожим на артиллериста. Оба кричали и сильно жестикулировали; разводя руками, воздевая их к небу, хлопая друг друга по плечу, они говорили об уровне воды, о рыболовных топях, о реке Сан-Матео, о челноках, об индейцах и т. д., к большому удовольствию почти всех своих слушателей, за исключением двоих – изможденного пожилого францисканца и представительного доминиканца, на губах которого блуждала ироническая улыбка.
Худощавый францисканец, понимая, что означает улыбка доминиканца, решил вмешаться и прекратить спор. По-видимому, он пользовался авторитетом – стоило ему сделать знак рукой, как спорящие вмиг умолкли. Монах-артиллерист как раз говорил о практическом опыте, а писатель-монах – об ученых.
– А знаете ли вы, Бен-Саиб, чего стоят ваши ученые? – сказал глухим голосом францисканец, чуть повернувшись в кресле и приподняв иссохшую руку. – Вот здесь, в этой провинции, есть мост Капризов. Строил его один из наших братьев, но не закончил, ибо эти ваши ученые, на основе своих теорий, решили, что мост будет недостаточно прочен. А поглядите-ка, мост до сих пор держится, назло всем наводнениям и землетрясениям!
– Вот-вот, провалиться мне, именно это я и хотел сказать! – воскликнул монах-артиллерист, ударяя кулаком по ручке плетеного кресла, – Об ученых и об этом самом сооружении я и хотел сказать, отец Сальви, провалиться мне!
Бен-Саиб, еле заметно улыбаясь, молчал, то ли из почтения, то ли и впрямь не знал, что ответить, а ведь он был единственный мыслящий человек на Филиппинах! Отец Ирене одобрительно кивал головой, потирая свой длинный нос.
Худощавый, изможденный монах – это был отец Сальви, – удовлетворенный таким смирением, продолжал:
– Но это отнюдь не значит, что вы менее правы, нежели отец Каморра (так звали монаха-артиллериста). Все зло в лагуне…
– Даже порядочной лагуны нет в этой стране! – с неподдельным возмущением снова устремилась в атаку донья Викторина, желая во что бы то ни стало прорваться в крепость противника.
Осажденные в ужасе переглянулись, но тут ювелир Симон с находчивостью полководца пришел им на помощь.
– Я знаю очень простой способ улучшить водные пути, – сказал он, выговаривая слова с каким-то странным, не то английским, не то южноамериканским акцентом. – Удивляюсь, как это никто еще до него не додумался.
Все обернулись к нему с живейшим любопытством, даже доминиканец. Ювелир был высокий, сухопарый, жилистый, очень смуглый человек в тинсинском шлеме, одетый на английский манер. Его длинные, совершенно седые волосы и черная, редкая бородка указывали на смешанное происхождение. Для защиты от солнечных лучей он носил огромные синие очки с козырьком, которые закрывали глаза и часть лица. Стоял он, засунув руки в карманы куртки и широко расставив ноги, как бы для равновесия.
– Способ очень простой, – повторил он, – и это не стоило бы ни одного куарто.
Слова ювелира разожгли любопытство. В Маниле поговаривали, что Симон имеет большое влияние на генерал-губернатора; все прониклись уверенностью, что его идея близка к осуществлению. Дон Кустодио и тот обернулся.
– Надо прорыть прямой канал от устья реки до ее истоков, проведя его через Манилу, то есть надо создать новую реку и засыпать старое русло Пасига. Это высвободит большие участки земли, сократит путь. Ну и, само собой разумеется, в новой реке уже не будет мелей!
Проект поразил слушателей, привыкших к полумерам.
– Истинно американский размах! – заметил Бен-Саиб, желая польстить Симону: ювелир долгое время провел в Северной Америке.
Все находили проект грандиозным и одобрительно кивали. Лишь дон Кустодио, либерал дон Кустодио, как человек независимый и занимающий высокие посты, счел своим долгом раскритиковать проект, автором которого был не он, – ведь это покушение на его права! Кашлянув, он пригладил усы и внушительным тоном, словно выступая на заседании аюнтамьенто[10 - Аюнтамьенто (исп.) – муниципалитет.], сказал:
– Простите, сеньор Симон, достойный мой друг, но я должен признаться, что не разделяю вашего мнения. Ваш проект потребовал бы огромных затрат. Возможно, пришлось бы снести целые деревни.
– И снесем! – холодно возразил Симон.