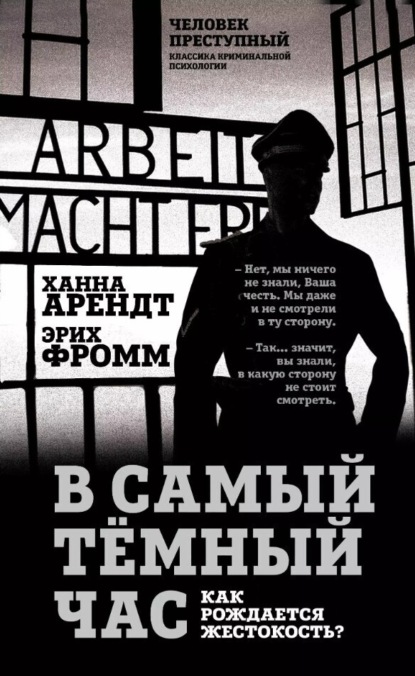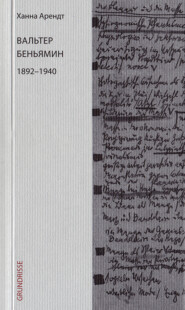По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В самый темный час. Как рождается жестокость?
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В то время как наш здравый смысл заходит в тупик, сталкиваясь с действиями, не являющимися ни вдохновленными страстью, ни утилитарными, наша этика неспособна справиться с преступлениями, которых не предвидели «десять заповедей». За убийство бессмысленно вешать человека, который принимал участие в массовом производстве трупов (хотя, конечно, мы вряд ли можем поступить иначе). Это были преступления, которым, по-видимому, не соответствует никакое наказание, поскольку любое наказание ограничено смертной казнью.
Величайшей опасностью для верного понимания нашего недавнего прошлого является слишком понятная тенденция историков проводить аналогии. Дело в том, что Гитлер не был похож на Чингисхана и не был хуже какого-то другого великого преступника, а был совершенно другим. Беспрецедентным является ни само убийство, ни количество жертв и даже ни «число людей, объединившихся для совершения этих преступлений». Намного более беспрецедентны идеологическая бессмыслица, ставшая их причиной, механизация их исполнения и тщательное и просчитанное создание мира умирания, в котором ничто больше не имело смысла.
Человечество и террор[31 - Речь на немецком языке для радиоуниверситета RIAS Radio University, 23 марта 1953 г.]
История учит нас, что террор как средство привести людей к покорности путем запугивания может проявляться в бесконечном разнообразии форм и может быть тесно связан с большим количеством политических и партийных систем, ставших знакомыми нам. Террор тиранов, деспотов и диктаторов засвидетельствован документально с древних времен, террор революций и контрреволюций, большинств против меньшинств и меньшинств против большинства человечества, террор плебисцитарных демократий и современных однопартийных систем, террор революционных движений и террор небольших групп заговорщиков. Политическая наука не может удовлетвориться просто установлением того факта, что террор применялся для устрашения людей. Она скорее должна разграничивать формы террора и прояснять различия между всеми эти формами террористических режимов, формами, которые наделяют террор совершенно различными функциями в рамках каждого режима.
Далее мы будем рассматривать только тоталитарный террор, как он проявляется в двух тоталитарных политических системах, наиболее нам знакомых: в нацистской Германии после 1938 г. и Советской России после 1930 г. Ключевая разница между тоталитарным террором и всеми другими известными нам формами террора не в том, что он в количественном плане осуществлялся более широкомасштабно и потребовал больше жертв. Кто дерзнет измерять и сравнивать страх, который испытали люди? И кто не задавался вопросом, нет ли тесной связи между количеством жертв и растущим безразличием к ним и ростом численности населения, воспитавшим во всех современных массовых государствах нечто вроде азиатского безразличия к ценности человеческой жизни и более даже не скрываемого убеждения в чрезмерности количества людей?
Где бы мы ни обнаруживали террор в прошлом, он коренится в применении силы, которое берет начало за пределами права и, во многих случаях, сознательно применяется для того, чтобы снести ограды закона, защищающие свободу человека и гарантирующие права и свободы граждан. Из истории нам знаком массовый террор революций, в чьей ярости гибнут виновные и невиновные до тех пор, пока кровавая баня контрреволюции не удушит эту ярость в апатии или пока новая власть закона не положит конец террору. Если выделить две формы террора, которые исторически были наиболее эффективными и политически самыми кровавыми – террор тирании и террор революции, – мы вскоре увидим, что они направлены к некоторой цели и находят цель. Террор тирании достигает цели тогда, когда он парализует или даже полностью уничтожает всю общественную жизнь и делает из граждан частных лиц, лишая их интереса к общественным делам и связи с ними. А общественные дела, конечно, касаются намного большего, чем то, что мы обычно ограничиваем понятием «политика». Тиранический террор приходит к концу, когда он устанавливает в стране могильный покой. Окончанием революции является новый кодекс законов – или контрреволюция. Террор приходит к концу, когда уничтожена оппозиция, когда никто не осмеливается и пальцем пошевельнуть или когда революция истощает все запасы сил.
Тоталитарный террор потому так часто путают с мерами устрашения тирании или террором гражданских войн и революций, что известные нам тоталитарные режимы выросли прямо из гражданских войн и однопартийных диктатур и в начале своего пути, до того, как стали тоталитарными, применяли террор точно таким же образом, как и другие деспотические режимы, известные нам из истории. Поворотный момент, когда определяется, останется ли однопартийная система диктатурой или разовьется в некоторую форму тоталитарного правления, всегда приходит тогда, когда последние остатки активной или пассивной оппозиции в стране оказываются потоплены в крови и ужасе. Однако подлинный тоталитарный террор начинается только тогда, когда у режима больше нет врагов, которых можно было бы арестовать и замучить до смерти, и когда даже различные категории подозрительных уничтожены и не могут быть более подвергнуты «превентивному аресту».
Из этой первой характеристики тоталитарного террора – что он не сокращается, но возрастает по мере сокращения оппозиции – вытекают следующие две ключевые черты. Террор, направленный ни против подозреваемых, ни против врагов режима, может обратиться только на абсолютно невинных людей, не сделавших ничего плохого и в буквальном смысле слова не знающих, почему их арестовывают, отправляют в концентрационные лагеря или ликвидируют. Следствием этого является второй ключевой фактор, а именно то, что могильный покой, стелющийся по земле при чистой тирании, как и при деспотической власти победоносных революций, во время которого страна может восстановиться, никогда не даруется стране при тоталитарной власти. Террору нет конца, и для таких режимов отсутствие мира – это дело принципа. Как и обещают тоталитарные движения своим сторонникам до прихода к власти, все остается в постоянном движении. Троцкий, автор выражения «перманентная революция», понимал, что это реально значит, не лучше, чем Муссолини, которому мы обязаны термином «тотальное государство», знал, что означает тоталитаризм.
Это ясно и по отношению к России, и к Германии. В России концентрационные лагеря, первоначально строившиеся для врагов советского режима, начали расти в гигантских масштабах после 1930-го то есть в то время, когда не только было сокрушено вооруженное сопротивление времен гражданской войны, но и когда Сталин ликвидировал оппозиционные группы внутри партии. В первые годы нацистской диктатуры в Германии было не больше десяти лагерей, в которых содержалось не более 10000 заключенных. Примерно к 1936 г. все действенное сопротивление режиму исчезло, отчасти из-за того, что предшествовавший и чрезвычайно кровавый и жестокий террор уничтожил все его активные силы (число смертей в первых концентрационных лагерях и застенках гестапо было крайне велико), и отчасти потому, что наглядное решение проблемы безработицы расположило к нацистам многих представителей рабочего класса, первоначально бывших их противниками. Именно в это время, в первые месяцы 1937 г., Гиммлер произнес свою знаменитую речь перед вермахтом, в которой высказался о необходимости значительного расширения концентрационных лагерей и объявил, что это будет предпринято в ближайшем будущем. К началу войну было уже более сотни концентрационных лагерей, в которых, начиная с 1940 г. и далее, постоянно содержалось в среднем около миллиона узников. Соответствующие цифры для Советского Союза намного выше: они варьируются от 10 до 25 миллионов человек.
Тот факт, что террор становится тоталитарным после ликвидации политической оппозиции, не означает, что тоталитарный режим с того времени полностью отказывается от актов устрашения. Первоначальный террор заменяется драконовским законодательством, которое фиксирует в законах, что будет считаться «преступлением» – межрасовые сексуальные отношения или опоздание на работу, то есть недостаточное усвоение большевистской системы, в которой душа и тело рабочего принадлежит процессу производства, направляемого принципами политического террора, – и так ретроактивно легализует первоначальное царство террора. Эта ретроактивная легализация условий, созданных революционным террором, является естественным шагом в революционном законодательствовании. Новые драконовские меры должны были положить конец внеправовому террору и создать новое революционное право. Характерным для тоталитарных режимов является не то, что они тоже принимают новые законы такого рода, например, Нюренбергские, а то, что они на этом не останавливаются. Вместо этого они сохраняют террор в качестве силы, Действующей вне права. Вследствие этого тоталитарный террор обращает не больше внимания на законы, принятые тоталитарным режимом, чем на те, что действовали до захвата этим режимом власти.
Все законы, включая большевистские и фашистские, становятся фасадом, задача которого состоит в том, чтобы постоянно показывать людям, что законы, каким бы ни был их характер или происхождение, на самом деле не имеют значения. Это становится совершенно ясно из документов Третьего рейха, которые демонстрируют как нацистские судьи и даже партийные органы безнадежно пытались судить преступления в соответствии с определенным кодексом законов и защищать надлежащим образом осужденных от «эксцессов» террора. Здесь можно привести только один пример из многих: мы знаем, что люди, приговоренные за нарушение расовых законов после 1936 г. и отправленные в тюрьму в соответствии с обычными правовыми процедурами, отсидев свои тюремные сроки, были отправлены в концентрационные лагеря.
Из-за своей расистской идеологии нацистской Германии наполнять свои концентрационные лагеря в основном невинными людьми было гораздо проще, чем Советскому Союзу. Она могла поддерживать некоторое ощущение порядка, не нуждаясь в том, чтобы придерживаться каких-либо критериев вины или невиновности, просто подвергая аресту некоторые расовые группы ни на каких других основаниях, кроме расовой принадлежности. Сначала, после 1938 г., это были евреи; затем, без разбора, представители восточноевропейских этнических групп. Поскольку нацисты объявили эти негерманские этнические группы врагами режима, это могло поддерживать видимость их «вины». Гитлер, который в этом вопросе, как и во всех других, всегда обдумывал наиболее радикальные и далеко идущие меры, предвидел время, когда эти группы будут искоренены и появится необходимость в новых категориях. Поэтому в проекте всеобъемлющего закона о здравоохранении в рейхе от 1943 г. он предлагал после окончания войны провести рентгенографию всех немцев и поместить в концентрационные лагеря все семьи, члены которых страдали легочными или сердечными болезнями. Если бы эта мера была осуществлена, – а мало сомнений в том, что в случае победы в войне это была бы одна из первых мер в послевоенной повестке дня, – то гитлеровская диктатура подвергла бы немецкий народ такому же истреблению, как большевистский режим – русский. (Мы, конечно, знаем, что подобное систематическое истребление гораздо эффективнее самых кровавых войн. В годы искусственно организованного голода на Украине и так называемого раскулачивания этого региона каждый год погибало больше людей, чем в крайне жестокой и кровавой войне, которая шла в Восточной Европе).
В России также, во времена, когда допускались такие действия, категория невинно осужденных определялась при помощи ряда критериев. Так, не только поляки, бежавшие в Россию, но также и россияне польского, немецкого или прибалтийского происхождения во время войны в огромных количествах оказывались в концентрационных лагерях и гибли в них. И разумеется, те люди, которые были убиты, депортированы или брошены в концлагеря, объявлялись либо представителями так называемых отмирающих классов, таких как кулаки или мелкая буржуазия, либо сторонниками одного из ныне предполагаемых заговоров против режима – троцкистами, титоистами, агентами Уолл-стрит, космополитами, сионистами и т. д. Независимо от того, существуют такие заговоры или нет, уничтожаемые группы не имеют с ними вообще ничего общего, и режим очень хорошо знает это. Да, у нас нет документации, подобной той, что в удручающем изобилии имеется для нацистского режима, но мы имеем достаточно информации, чтобы знать, что аресты регулировались из центра и для каждой части Советского Союза устанавливались свои процентные показатели. Это способствует намного более произвольным арестам, чем в нацистской Германии. Бывало, что, когда некоторые заключенные в колонне на марше падали и оставались лежать, умирая, на обочине дороги, ответственный за сопровождение колонны солдат арестовывал любых попавшихся на пути людей и заставлял их присоединиться к колонне, чтобы его квота не была нарушена.
С возрастанием тоталитарного террора по мере сокращения рядов политической оппозиции и огромного роста числа невинных жертв в результате этого тесно связана последняя характеристика, имеющая далеко идущие последствия для совершенно меняющейся миссии и целей тайной полиции в тоталитарных государствах. Этой чертой является современная форма контроля над сознанием, которая заинтересована не столько в том, что действительно происходит в сознании заключенного, сколько в том, чтобы заставить его признаться в преступлениях, которые он никогда не совершал. Это также причина того, почему провокация практически не играет никакой роли в тоталитарной полицейской системе. Кто будет тем лицом, которое арестуют и ликвидируют, что он думает или планирует – все это уже заранее определено властями. Когда он арестован, его реальные мысли и планы не имеют вообще никакого значения. Его преступление определено объективно, не прибегая к помощи каких-либо «субъективных» факторов. Если он еврей, то он член заговора «сионских мудрецов»; если у него сердечная болезнь, то он паразит на здоровом теле немецкого народа; если он арестован в России, когда проводится антиизраильская и проарабская политика, то он сионист; если власти намерены искоренить память о Троцком, то он троцкист. И так далее.
В числе огромных трудностей на пути понимания этой новейшей формы господства (трудностей, которые в то же самое время доказывают, что мы действительно столкнулись с чем-то новым, а не просто разновидностью тирании) то, что не только наши политические понятия и дефиниции недостаточны для понимания феномена тоталитаризма, но также и то, что все наши мыслительные категории и нормы суждения, как кажется, взрываются у нас в руках в то мгновение, когда мы пытаемся их применить здесь. Если, к примеру, мы применяем к феномену тоталитарного террора категорию средств и целей, в соответствии с которой террор служит средством удержания власти, запугивания людей, поддержания в них страха и принуждения их вести себя определенным образом, становится ясно, что тоталитарный террор будет менее эффективен для достижения этой цели, чем любая другая форма террора. Страх не может быть надежным ориентиром, если то, чего я все время боюсь, может случиться со мной независимо от того, что я делаю. Тоталитарный террор может развернуться в полной мере только тогда, когда режим гарантирует себе, при помощи волны самого крайнего террора, что оппозиция стала невозможна. Конечно, могут сказать и часто говорят, что в этом случае средства становятся целью. Но это на самом деле не объяснение. Это только признание, прикрытое парадоксом, что категория средств и целей больше не работает; что террор явно не имеет цели; что миллионы людей приносятся в жертву без всякого смысла; что, как в случае массовых убийств, но время войны, эти меры на самом деле вредят интересам тех, кто их осуществляет. Если средства стали целями, если террор – это не просто средство порабощения людей при помощи страха, а цель, ради которой люди приносятся в жертву, то вопрос о смысле террора в тоталитарных системах должен ставиться иначе и получать ответ не в категориях средств и целей.
Чтобы понять смысл тоталитарного террора, необходимо обратить внимание на два примечательных факта, которые могут казаться совершенно несвязанными. Первый из них – та необычайная тщательность, с которой и нацисты, и большевики предпринимают меры по изоляции концентрационных лагерей от внешнего мира и обращению с теми, кто исчезает в них так, как будто бы они уже мертвы. Эти факты слишком хорошо известны и не требуют дальнейших подробностей. Власти вели себя одинаково в обоих известных нам случаях тоталитарного правления. О смертях не говорится ни слова. Предпринимаются все усилия для того, чтобы создалось впечатление не только о том. что человек, о котором идет речь, умер, а что его вообще никогда не существовало. Любые попытки узнать что-то о его судьбе тем самым становятся абсолютно бессмысленными. Поэтому распространенное представление, что большевистские концентрационные лагеря являются современной формой рабства и поэтому фундаментально отличны от нацистских лагерей смерти, функционировавших как фабрики, ошибочно по двум причинам. История не знает рабовладельцев, которые расходовали бы своих рабов- с такой невероятной скоростью. Отличается от других форм принудительного труда и способ ареста и высылки, отсекающий жертв от мира живых и следящий за тем, чтобы они «отмирали» под предлогом того, что они принадлежат к отмирающему классу; то есть их истребление оправдано, потому что их смерть, хотя, возможно, и иным образом, в любом случае предопределена.
Вторым фактом является та поразительная вещь, многократно подтвержденная, особенно для большевистского режима, что никто, кроме властвующего в данный момент вождя, не защищен от террора, что сегодняшние палачи могут легко превратиться в завтрашних жертв. Для объяснения этого феномена часто ссылаются на наблюдение, что революция пожирает своих детей. Однако это наблюдение, восходящее к Французской революции, оказалось бессмысленным, когда террор продолжился после того, как революция уже пожрала всех своих детей, правые и левые группировки и остававшиеся центры власти в армии и полиции. Так называемые чистки явно представляют собой один из наиболее поразительных и постоянных институтов большевистского режима. Они более не пожирают детей революции, потому что эти дети уже мертвы. Вместо этого они пожирают партийных и полицейских чиновников, даже на самых высоких уровнях.
Миллионы заключенных в концентрационных лагерях вынуждены покориться первой из этих мер, потому что защититься от тотального террора невозможно. Партийные и полицейские функционеры покоряются второй, потому что они, вышколенные в логике тоталитарной идеологии, так же подходят на роль жертв режима, как и его палачей. Эти два фактора, эти всегда повторяющиеся черты тоталитарных властных систем, тесно связаны друг с другом. Оба они стремятся сделать бесконечное многообразие и уникальную индивидуальность людей чем-то избыточным. Давид Руссе назвал концентрационные лагеря «самым тоталитарным обществом», и лагеря действительно служат, среди прочего, также и лабораториями, в которых самые разнообразные человеческие существа сводятся к неизменному набору реакций и рефлексов. Этот процесс заходит так далеко, что любой из этих наборов реакций может быть заменен на кого угодно другого, причем убивают не какую-то конкретную личность, с именем, неповторимой идентичностью, жизнью того или иного склада и определенными установками, и импульсами, а скорее полностью неразличимую и неопределимую особь вида homo sapiens. Концентрационные лагеря не только истребляют людей; они также продолжают чудовищный эксперимент, в соответствии со строгими научными требованиями, по уничтожению спонтанности как элемента человеческого поведения и превращению людей в нечто меньшее, чем животное, набор реакций, который при одних и тех же условиях будет реагировать одинаково. Собака Павлова, натренированная есть не тогда, когда она голодна, а когда слышит звонок, была извращенным животным. Чтобы тоталитарная власть могла достичь своей цели тотального контроля над управляемыми, нужно было лишить людей не только свободы, но и их инстинктов и побуждений, которые не запрограммированы на порождение идентичных реакций у нас всех, но всегда подвигают различных индивидов к различным действиям. Поэтому крах или успех тоталитарной власти в конечном итоге зависит от ее способности превращать человеческие существа в извращенных животных. Обычно это вообще никогда невозможно, даже в условиях тоталитарного террора. Спонтанность никогда нельзя полностью искоренить, потому что жизнь как таковая и, несомненно, человеческая жизнь зависит от нее. Однако в концентрационных лагерях спонтанность может быть искоренена в огромной степени; или в любом случае самое тщательное внимание и усилия уделяются там экспериментам в этих целях. Понятно, что для достижения этого людей надо лишить последних следов их индивидуальности и превратить в собрания идентичных реакций; их надо отрезать от всего, что делало их уникальными, опознаваемыми индивидами в человеческом обществе. Чистота эксперимента была бы нарушена, если бы допускалось, хотя бы в качестве отдаленной возможности, что эти особи вида homo sapiens когда-либо существовали как настоящие человеческие существа.
На другом полюсе от этих мер и связанных с ними экспериментов находятся чистки, повторяющиеся через регулярные интервалы и делающие сегодняшних палачей завтрашними жертвами. Для чистки крайне важно, что ее жертвы не оказывают никакого сопротивления, с готовностью принимают свою новую участь и сотрудничают в ходе широко освещаемых показательных процессов, на которых они порочат и рушат свои прошлые жизни. Признаваясь в преступлениях, которых никогда не совершали и, в большинстве случаев, никогда не могли бы совершить, они публично провозглашают, что люди, которых, как мы думали, мы видели много лет, на самом деле вообще никогда не существовали. Эти чистки также являются экспериментом. Они проверяют, действительно ли власть может полагаться на идеологическое воспитание своей бюрократии, соответствует ли внутренне принуждение, созданное индоктринацией, внешнему принуждению террора, заставляя индивида беспрекословно участвовать в показательных процессах и тем самым полностью соответствовать линии режима, какие бы чудовищные вещи он ни совершал. Чистка, которая мгновенно превращает обвинителя в обвиняемого, вешателя в повешенного, палача в жертву, подвергает людей этой проверке. Так называемые убежденные коммунисты, тысячами тихо сгинувшие в сталинских концентрационных лагерях, потому что отказались давать признательные показания, не прошли этой проверки, и только тот, кто может ее пройти, действительно является частью тоталитарной системы. Помимо других целей, чистки также служат выявлению этих, так сказать, «убежденных» сторонников власти. Тот, кто поддерживает дело по своей воле, завтра может передумать. Он – ненадежный член тоталитарной команды. Надежны только те, кто не только достаточно знает или достаточно обучен, чтобы не иметь мнения, но даже больше не знает, что такое быть убежденным. Эксперименты чисток продемонстрировали, что идеальным типом тоталитарного функционера является тот, кто функционирует несмотря ни на что, у кого нет жизни за пределами его функции.
Тоталитарный террор, таким образом, более не является средством достижения цели; он есть сама сущность такой власти. Его высшей политической целью является формирование и поддержание существования общества, основанного на господстве некоторой расы, или того, в котором классы и нации более не существуют, в котором каждый индивид был бы не более чем отдельной особью вида. Тоталитарная идеология считает этот вид человеческой расы воплощением всепроникающего, всемогущего закона. Рассматривается ли он как закон природы или закон истории, этот закон представляет собой закон бурлящего движения, находящего свое воплощение в человечестве и постоянно приводимого в действие тоталитарными лидерами.
Отмирающие классы или упадочные расы, которым история или природа в любом случае вынесла приговор, будут первыми преданы уничтожению, уже предписанному им. Идеологии, проводимые в жизнь тоталитарными властями с непоколебимой и беспрецедентной последовательностью, не являются изначально тоталитарными и значительно старше тех систем, в которых нашли свое полное выражение. Внутри своих собственных лагерей, Гитлер и Сталин часто обвинялись в посредственности, поскольку ни один из них не обогатил свою идеологию новой бессмыслицей. Но при этом забывается, что эти политики, следуя предписаниям своих идеологий, не могли не открыть подлинной сущности законов природы и истории, движение которых они должны были ускорить. Если уничтожать то, что вредно и непригодно для жизни, – закон природы, то разовое террористическое уничтожение определенных рас не слишком хорошо отвечает логически последовательной расовой политике, ибо когда невозможно найти новые категории паразитических и нездоровых жизней, это означает конец природы вообще – или, по крайней мере, конец расовой политики, которая стремится служить такому закону природы. Или если «отмирание» определенных классов представляет собой закон исторического развития, то, невозможность найти новые классы, которые нужно заставить отмереть, означает для тоталитарной власти конец человеческой истории. Иными словами, закон убийств, закон, при помощи которого тоталитарные движения приходят к власти, остается в силе как закон самих движений; и он остался бы неизменным, даже если бы произошло невероятное, то есть даже если бы они достигли своей цели, подчинив все человечество своей власти.
Карл Ясперс[32 - Речь при вручении Премии мира Немецкой книготорговли Карлу Ясперсу.]. Laudatio[33 - Похвальное слово (лат.).]
Мы собрались сегодня на вручение Премии мира. Премия эта (позволю себе процитировать президента Федеративной республики) присуждена не только за «выдающееся литературное творчество», но и за «испытание, выдержанное в деятельной и страдательной жизни». Таким образом, она присуждена лицу и присуждена творчеству – постольку, поскольку последнее остается сказанным словом и словом-поступком, которое еще не отрешилось от своего автора и еще не вступило на неопределенный, всегда щедрый на приключения путь сквозь историю. Поэтому при вручении этой премии уместно будет laudatio – похвальное слово, имеющее целью прославить не столько творчество, сколько самого человека. Научиться такой похвале можно, наверное, у римлян, которые – более, чем мы, умудренные в делах общественной важности – разъясняют, к чему должна стремиться подобная похвала: «in laudationibus… ad personarum dignitatem omnia referrentur», сказал Цицерон[34 - De oratore I, 141 (Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве (пер. ФА. Петровского). – М., 1972. С. 102).] – в «хвалебных (речах)… все сводится к оценке данного лица». Иными словами, похвальная речь имеет предметом достоинства, которыми обладает человек, поскольку он превосходит все свои дела и произведения. Распознать и прославить эти достоинства – не дело коллег и экспертов; судить о жизни, выставленной на публичное обозрение и выдержавшей испытание в публичной сфере, должна общественность. Премия лишь подтверждает то, что общественность эта давно уже знала.
Следовательно, laudatio может лишь попробовать выразить то, что всем вам известно. Но сказать гласно то, что знают многие в уединении своей приватности, – дело не праздное. Само всеуслышание придает предмету освещенность, подтверждающую его реальное существование. Однако я должна признаться, что этот «риск публичности» (Ясперс) и ее прожекторов я беру на себя нерешительно и робея. Все мы современные люди и на публике движемся неуверенно и неловко. Рабы современных предрассудков, мы считаем, что публике принадлежит только «объективное произведение», отдельное от лица; что стоящее за ним лицо и его жизнь – частное дело и что относящиеся к этим «субъективным вещам» чувства утратят подлинность и превратятся в сентиментальность, если их выставить на всеобщее обозрение. На самом же деле, решив, что при вручении премии должно прозвучать laudatio, Немецкая книготорговля вернулся к более раннему и более верному смыслу публичности, согласно которому, чтобы обрести полноту реальности, человеческое лицо как раз и должно появиться на публике во всей своей субъективности. Если мы принимаем этот ново-старый смысл, то должны переучиться и отказаться от привычки приравнивать личное к субъективному, объективное – к вещно-безличному. Происходят эти уравнения из естественных наук, и там они осмысленны. Они очевидно бессмысленны в политике, где люди в принципе выступают как действующие и говорящие лица и где, таким образом, личность ни в коей мере не есть частное дело. Но эти уравнения теряют силу и в публичной интеллектуальной жизни, которая, безусловно, включает и далеко превосходит сферу жизни академической.
Говоря точнее, мы должны научиться различать не между субъективностью и объективностью, но между индивидом и лицом. Действительно, предлагает, отдает публике какое-то объективное произведение отдельный субъект. Субъективный элемент, скажем приведший к произведению творческий процесс, вообще публики не касается. Но если это произведение не только академическое, если оно еще и итог «испытания, выдержанного в жизни», то произведение это сопровождают живые действие и голос; вместе с ними является само лицо. Что именно здесь явлено, этого сам предъявляющий не знает; он не может это контролировать, как контролирует произведение, которое подготовил для публикации, для выхода в свет. (Всякий, кто сознательно втаскивает свою личность в произведение, актерствует и тем самым проигрывает реальный шанс, который эта публикация означает для него и других.) Личностное стоит вне контроля субъекта и, следовательно, составляет точную противоположность всего лишь субъективного. Но именно субъективность «объективно» гораздо легче постижима и гораздо легче дается в распоряжение субъекта. (Под самообладанием, например, мы просто подразумеваем, что мы способны овладеть этим чисто субъективным элементом в себе, чтобы использовать его по своему усмотрению.)
Личность – совершенно иное дело. Она труднопостижима и, наверное, больше всего похожа на греческого «даймона» – духа-хранителя, сопровождавшего каждого человека всю его жизнь, но всегда только выглядывавшего у него из-за плеча – так что его легче было увидеть всем, кто с этим человеком встречался, нежели самому человеку. Этот «даймон» (в котором нет ничего демонического), этот личный элемент в человеке может появиться лишь там, где есть публичное пространство; в этом – более глубокое значение публичной сферы, далеко превосходящее то, что мы обычно подразумеваем под политической жизнью. Поскольку эта публичная сфера – сфера также и духовная, постольку в ней проявляется то, что римляне называли humanitas. Так они называли нечто, составлявшее самую вершину человечности, поскольку оно истинно, не будучи объективным. Именно это Кант и Ясперс называли Humanitat – истинную личностность, которая, однажды обретенная, уже не покидает человека, хотя бы все прочие дары тела и души уже уступили разрушительному времени. Humanitas никогда не приобретается ни в одиночестве, ни благодаря тому, что человек отдает свое произведение публике. Ее приобретает лишь тот, кто подвергает свою жизнь и личность «риску публичности» – тем самым рискуя проявить что-то не «субъективное» и, по этой самой причине, то, что сам он не может ни распознать, ни контролировать. Таким образом, «риск публичности», в котором приобретается humanitas, становится даром человечеству.
Называя личное начало, с Ясперсом вступающее в публичную сферу, словом, humanitas, я имею в виду, что никто лучше, чем он не поможет нам преодолеть наше недоверие к этой публичной сфере, почувствовать, какая это честь и радость – во всеуслышание хвалить того, кого мы любим. Ибо Ясперс никогда не разделял предрассудка интеллигентных людей, будто яркий свет публичности делает все мелким и плоским, будто благоприятен он только для посредственности и будто поэтому философ должен от этого света уклоняться. Вы помните мнение Канта, что пробным камнем для отличения подлинно сложного философского текста от «изощренного пустозвонства» служит его пригодность к популяризации. И Ясперс, который в этом отношении – как, кстати, и во всех прочих – единственный наследник Канта, не раз, подобно Канту, покидал академическую сферу и ее терминологию, чтобы обратиться к широкой читательской публике. Более того, он трижды – впервые незадолго до прихода нацистов к власти в «Духовной ситуации нашего времени» (1931), затем сразу после падения Третьего рейха в «Вопросе о вине» и теперь в «Атомной бомбе и будущем человека» – прямо вмешивался в злободневные политические вопросы[35 - Самая важная политическая публикация Ясперса с 1958 года, когда была написана эта речь, – это Wohin treibt die Bundesrepublik (1966).]. Ведь он, как и настоящий государственный деятель, знает, что политические вопросы слишком серьезны, чтобы их доверять политикам.
Утверждение публичной сферы у Ясперса уникально, так как оно исходит от философа и проистекает из фундаментального убеждения, на котором основана вся его деятельность в качестве философа: что и философия, и политика касаются всех. Вот это и объединяет философию и политику; вот в этом и заключается причина того, что обе они принадлежат публичной сфере, где берутся в расчет человеческая личность и ее способность пройти испытание. Философ – в отличие от ученого – схож с политиком, поскольку должен отвечать за свои мнения, поскольку сам как личность несет ответственность. Более того, положение политика даже легче, так как он отвечает только перед собственным народом, тогда как Ясперс, по крайней мере во всех своих сочинениях после 1933 года, всегда писал так, словно держал ответ перед всем человечеством.
Для него ответственность – отнюдь не бремя и не имеет ничего общего с моральными императивами. Скорее, она проистекает из врожденной тяги к обнародованию, к прояснению неясного, к просветлению темного. Его утверждение публичной сферы – в конечном счете, лишь следствие его любви к свету и ясности. Он любил ясность так долго, что она наложила отпечаток на всю его личность. В произведениях великого писателя мы почти всегда можем отыскать присущую только ему устойчивую метафору, в которой все его творчество словно сходится в фокус. В творчестве Ясперса одна из таких метафор – слово «ясность». Существование «проясняется» разумом; «модусы охвата» (с одной стороны, есть наше сознание, которое «охватывает» все, с чем мы сталкиваемся, с другой – есть мир, который «охватывает» нас, есть «внутринаходимость, посредством которой мы существуем») разум «выводит на свет»; наконец, сам разум, его близость к истине, удостоверяется его «простором и ясностью». Все, что выдерживает свет и не испаряется под его яркостью, причастно humanitas; взять на себя ответственность перед человечеством за каждую мысль – значит, жить в той освещенности, в которой держит испытание сам человек и все, что он думает.
Задолго до 1933 года Ясперс был, что называется, «знаменит», как бывают и другие философы, но только во время гитлеровского периода и особенно в последующие годы он стал публичной фи1урой в полном смысле слова. Связано это было не только – как можно было бы подумать – с обстоятельствами времени, которые сперва вытеснили его в безвестность гонимых, а затем превратили в символ изменившихся времен и позиций. Если обстоятельства и играли здесь какую-то роль, они лишь вытолкнули его на то место, которое ему предназначалось по природе, – на полный свет публичного мнения. Не то что он сперва пострадал, потом в этом страдании достойно выдержал испытание и наконец, когда положение стало критическим, стал воплощением так называемой «другой Германии». В таком смысле он вообще ничего не воплощал. Он всегда стоял совершенно один и оставался независим от любых группировок, включая немецкое движение сопротивления. Величественность этой позиции, которая держится только за счет веса самой личности, – именно в том, что, не воплощая ничего, кроме собственного существования, он удостоверял, что даже во тьме тотального господства, в которой все то хорошее, что еще могло сохраниться, становится абсолютно невидимо и потому бездейственно, – что даже тогда разум можно уничтожить, лишь убив – фактически и буквально – всех разумных людей.
Было самоочевидно, что он останется тверд до конца посреди катастрофы. Но все происходившее не оказалось для него даже искушением – и эта его, менее очевидная, неуязвимость для тех, кто о нем знал, означала намного больше, чем сопротивление и героизм. Она означала доверие, не нуждавшееся в подтверждениях, означала уверенность, что в эпоху, когда возможным казалось что угодно, что-то все же оставалось невозможным. Оставаясь совершенно один, Ясперс воплощал не Германию, а то, что в Германии сохранилось от humanitas. Как будто он в одиночку в своей неуязвимости мог осветить то пространство, которое разум создает и сохраняет между людьми, и как будто свет и простор этого пространства сохранятся, даже если в нем останется всего один человек. На самом деле этого не было и даже не могло быть. Ясперс часто говорил: «В одиночку, сам по себе человек не может быть разумным». И в этом смысле он никогда не был один и никогда не ставил такое одиночество сколько-нибудь высоко. Humanitas, за существование которой он ручался, вырастала из родного для его мышления пространства, а пространство это никогда не было необитаемо. Отличает Ясперса то, что в этом пространстве разума и свободы он чувствует себя уверенней, движется с большей легкостью, чем другие, кто, может быть, с этим пространством и знаком, но не выдерживает постоянного пребывания в нем. Именно потому, что само его существование сформировано страстью к ясности, и могло получиться, что он был как свет во тьме, светящий из какого-то скрытого светового источника.
В том, что человек может быть неуязвим, неискусим, непреклонен, есть что-то завораживающее. Если бы мы захотели объяснить это в психологических и биографических категориях, мы могли бы, наверное, вспомнить о родительском доме, из которого Ясперс вышел. Его отец и мать оставались тесно связаны с гордым и упрямым фризским крестьянством, обладавшим чувством независимости, в Германии совершенно необычным. Но свобода – больше, чем независимость, и Ясперсу еще предстояло развить из независимости рациональное сознание свободы, в котором человек сознает себя как самому себе подаренного. Но суверенная естественность – какая-то веселая беспечность (Ubermut), как он сам иногда говорит, – с которой он отдается публичности, оставаясь при этом независим от всех модных течений и мнений, тоже, вероятно, следствие этой крестьянской самоуверенности – по крайней мере, из нее происходит. Ему стоит только, так сказать, вмечтаться в свои личные истоки, а потом вернуться оттуда на простор человечности, чтобы убедиться, что даже в изоляции он воплощает не частное мнение, а иную, еще скрытую общественность – «тропинку», как сказал Кант, которая когда-нибудь непременно превратится «в столбовую дорогу»,
Такая безошибочность суждения и суверенность разума таят в себе риск. Неподверженность искушениям может привести к отсутствию опыта – или, по крайней мере, к неопытности в том, что любая конкретная эпоха предлагает в качестве реальности. И действительно, что может быть дальше от современного опыта, чем гордая независимость, из которой Ясперс был родом, чем веселая беззаботность по отношению к тому, что говорят и думают люди? Здесь нет даже и бунта против условностей, поскольку здесь условности всегда признаются именно в качестве таковых и никогда не принимаются всерьез как мерила поведения. Что может быть дальше от нашей ere de soupgon[36 - Эра подозрения (фр.).] (Натали Саррот), чем уверенность, лежащая в глубоком основании этой независимости, чем тайное доверие к человеку, к humanitas человеческой расы?
И раз уж мы уже обратились к субъективно-психологическим материям: Ясперсу было пятьдесят лет, когда Гитлер пришел к власти. В этом возрасте подавляющее большинство людей уже давно перестало пополнять свой опыт, и особенно интеллигенты обычно уже так давно закоснели в своих мнениях, что все реальные события воспринимают только как подтверждение этих мнений. Ясперс не реагировал на решающие события этого времени (которое он предвидел не больше, чем любой другой, и к которому был готов даже меньше, чем многие другие) ни уходом в собственную философию, ни отрицанием мира, ни меланхолией. Можно было бы сказать, что после 1933 года, то есть после завершения «Философии» в трех частях, и после 1945 года, после завершения книги «Об истине», у него начинались новые периоды производительности, но, к сожалению, это выражение слишком тесно связано с идеей жизненного обновления, случающегося иногда у крупных талантов. Но величие Ясперса именно в том, что он обновляется, так как остается неизменен – то есть по-прежнему связан с миром и следит за текущими событиями с неизменной проницательностью и способностью к заботе.
«Великие философы» не в меньшей мере, чем «Атомная бомба», целиком относятся к сфере нашего самого недавнего опыта. Эта современность или, скорее, это проживание в настоящем, продолжающееся до столь преклонного возраста, – подобны удаче, отменяющей любые разговоры о заслугах. Благодаря той же удаче Ясперс мог в течение жизни оказываться в изоляции, но никогда не бывал одинок. Удача эта основана на браке – всю его жизнь рядом с ним стояла жена, его ровесница. Если двое не падают жертвой иллюзии, будто их узы могут слить их в одно целое, они могут создать между собой новый мир. Этот брак, несомненно, никогда не был для Ясперса лишь частным делом. Оказалось, что два человека разного происхождения (жена Ясперса еврейка) могут создать между собой собственный мир. И на этом мире, как на миниатюрной модели, он узнал, что существенно для всего мира человеческих дел. В этом малом мире он развертывал и практиковал свою несравненную способность к диалогу, великолепную точность в слушании другого, постоянную готовность дать откровенный самоотчет, терпение обсуждать уже обсужденное и, главное, способность выманивать то, о чем обычно молчат, в зону разговора, делать достойным обсуждения. Так, говоря и слушая, он умеет все изменять, расширять, оттачивать – или, по его собственному прекрасному выражению, прояснять.
Величайшей опасностью для верного понимания нашего недавнего прошлого является слишком понятная тенденция историков проводить аналогии. Дело в том, что Гитлер не был похож на Чингисхана и не был хуже какого-то другого великого преступника, а был совершенно другим. Беспрецедентным является ни само убийство, ни количество жертв и даже ни «число людей, объединившихся для совершения этих преступлений». Намного более беспрецедентны идеологическая бессмыслица, ставшая их причиной, механизация их исполнения и тщательное и просчитанное создание мира умирания, в котором ничто больше не имело смысла.
Человечество и террор[31 - Речь на немецком языке для радиоуниверситета RIAS Radio University, 23 марта 1953 г.]
История учит нас, что террор как средство привести людей к покорности путем запугивания может проявляться в бесконечном разнообразии форм и может быть тесно связан с большим количеством политических и партийных систем, ставших знакомыми нам. Террор тиранов, деспотов и диктаторов засвидетельствован документально с древних времен, террор революций и контрреволюций, большинств против меньшинств и меньшинств против большинства человечества, террор плебисцитарных демократий и современных однопартийных систем, террор революционных движений и террор небольших групп заговорщиков. Политическая наука не может удовлетвориться просто установлением того факта, что террор применялся для устрашения людей. Она скорее должна разграничивать формы террора и прояснять различия между всеми эти формами террористических режимов, формами, которые наделяют террор совершенно различными функциями в рамках каждого режима.
Далее мы будем рассматривать только тоталитарный террор, как он проявляется в двух тоталитарных политических системах, наиболее нам знакомых: в нацистской Германии после 1938 г. и Советской России после 1930 г. Ключевая разница между тоталитарным террором и всеми другими известными нам формами террора не в том, что он в количественном плане осуществлялся более широкомасштабно и потребовал больше жертв. Кто дерзнет измерять и сравнивать страх, который испытали люди? И кто не задавался вопросом, нет ли тесной связи между количеством жертв и растущим безразличием к ним и ростом численности населения, воспитавшим во всех современных массовых государствах нечто вроде азиатского безразличия к ценности человеческой жизни и более даже не скрываемого убеждения в чрезмерности количества людей?
Где бы мы ни обнаруживали террор в прошлом, он коренится в применении силы, которое берет начало за пределами права и, во многих случаях, сознательно применяется для того, чтобы снести ограды закона, защищающие свободу человека и гарантирующие права и свободы граждан. Из истории нам знаком массовый террор революций, в чьей ярости гибнут виновные и невиновные до тех пор, пока кровавая баня контрреволюции не удушит эту ярость в апатии или пока новая власть закона не положит конец террору. Если выделить две формы террора, которые исторически были наиболее эффективными и политически самыми кровавыми – террор тирании и террор революции, – мы вскоре увидим, что они направлены к некоторой цели и находят цель. Террор тирании достигает цели тогда, когда он парализует или даже полностью уничтожает всю общественную жизнь и делает из граждан частных лиц, лишая их интереса к общественным делам и связи с ними. А общественные дела, конечно, касаются намного большего, чем то, что мы обычно ограничиваем понятием «политика». Тиранический террор приходит к концу, когда он устанавливает в стране могильный покой. Окончанием революции является новый кодекс законов – или контрреволюция. Террор приходит к концу, когда уничтожена оппозиция, когда никто не осмеливается и пальцем пошевельнуть или когда революция истощает все запасы сил.
Тоталитарный террор потому так часто путают с мерами устрашения тирании или террором гражданских войн и революций, что известные нам тоталитарные режимы выросли прямо из гражданских войн и однопартийных диктатур и в начале своего пути, до того, как стали тоталитарными, применяли террор точно таким же образом, как и другие деспотические режимы, известные нам из истории. Поворотный момент, когда определяется, останется ли однопартийная система диктатурой или разовьется в некоторую форму тоталитарного правления, всегда приходит тогда, когда последние остатки активной или пассивной оппозиции в стране оказываются потоплены в крови и ужасе. Однако подлинный тоталитарный террор начинается только тогда, когда у режима больше нет врагов, которых можно было бы арестовать и замучить до смерти, и когда даже различные категории подозрительных уничтожены и не могут быть более подвергнуты «превентивному аресту».
Из этой первой характеристики тоталитарного террора – что он не сокращается, но возрастает по мере сокращения оппозиции – вытекают следующие две ключевые черты. Террор, направленный ни против подозреваемых, ни против врагов режима, может обратиться только на абсолютно невинных людей, не сделавших ничего плохого и в буквальном смысле слова не знающих, почему их арестовывают, отправляют в концентрационные лагеря или ликвидируют. Следствием этого является второй ключевой фактор, а именно то, что могильный покой, стелющийся по земле при чистой тирании, как и при деспотической власти победоносных революций, во время которого страна может восстановиться, никогда не даруется стране при тоталитарной власти. Террору нет конца, и для таких режимов отсутствие мира – это дело принципа. Как и обещают тоталитарные движения своим сторонникам до прихода к власти, все остается в постоянном движении. Троцкий, автор выражения «перманентная революция», понимал, что это реально значит, не лучше, чем Муссолини, которому мы обязаны термином «тотальное государство», знал, что означает тоталитаризм.
Это ясно и по отношению к России, и к Германии. В России концентрационные лагеря, первоначально строившиеся для врагов советского режима, начали расти в гигантских масштабах после 1930-го то есть в то время, когда не только было сокрушено вооруженное сопротивление времен гражданской войны, но и когда Сталин ликвидировал оппозиционные группы внутри партии. В первые годы нацистской диктатуры в Германии было не больше десяти лагерей, в которых содержалось не более 10000 заключенных. Примерно к 1936 г. все действенное сопротивление режиму исчезло, отчасти из-за того, что предшествовавший и чрезвычайно кровавый и жестокий террор уничтожил все его активные силы (число смертей в первых концентрационных лагерях и застенках гестапо было крайне велико), и отчасти потому, что наглядное решение проблемы безработицы расположило к нацистам многих представителей рабочего класса, первоначально бывших их противниками. Именно в это время, в первые месяцы 1937 г., Гиммлер произнес свою знаменитую речь перед вермахтом, в которой высказался о необходимости значительного расширения концентрационных лагерей и объявил, что это будет предпринято в ближайшем будущем. К началу войну было уже более сотни концентрационных лагерей, в которых, начиная с 1940 г. и далее, постоянно содержалось в среднем около миллиона узников. Соответствующие цифры для Советского Союза намного выше: они варьируются от 10 до 25 миллионов человек.
Тот факт, что террор становится тоталитарным после ликвидации политической оппозиции, не означает, что тоталитарный режим с того времени полностью отказывается от актов устрашения. Первоначальный террор заменяется драконовским законодательством, которое фиксирует в законах, что будет считаться «преступлением» – межрасовые сексуальные отношения или опоздание на работу, то есть недостаточное усвоение большевистской системы, в которой душа и тело рабочего принадлежит процессу производства, направляемого принципами политического террора, – и так ретроактивно легализует первоначальное царство террора. Эта ретроактивная легализация условий, созданных революционным террором, является естественным шагом в революционном законодательствовании. Новые драконовские меры должны были положить конец внеправовому террору и создать новое революционное право. Характерным для тоталитарных режимов является не то, что они тоже принимают новые законы такого рода, например, Нюренбергские, а то, что они на этом не останавливаются. Вместо этого они сохраняют террор в качестве силы, Действующей вне права. Вследствие этого тоталитарный террор обращает не больше внимания на законы, принятые тоталитарным режимом, чем на те, что действовали до захвата этим режимом власти.
Все законы, включая большевистские и фашистские, становятся фасадом, задача которого состоит в том, чтобы постоянно показывать людям, что законы, каким бы ни был их характер или происхождение, на самом деле не имеют значения. Это становится совершенно ясно из документов Третьего рейха, которые демонстрируют как нацистские судьи и даже партийные органы безнадежно пытались судить преступления в соответствии с определенным кодексом законов и защищать надлежащим образом осужденных от «эксцессов» террора. Здесь можно привести только один пример из многих: мы знаем, что люди, приговоренные за нарушение расовых законов после 1936 г. и отправленные в тюрьму в соответствии с обычными правовыми процедурами, отсидев свои тюремные сроки, были отправлены в концентрационные лагеря.
Из-за своей расистской идеологии нацистской Германии наполнять свои концентрационные лагеря в основном невинными людьми было гораздо проще, чем Советскому Союзу. Она могла поддерживать некоторое ощущение порядка, не нуждаясь в том, чтобы придерживаться каких-либо критериев вины или невиновности, просто подвергая аресту некоторые расовые группы ни на каких других основаниях, кроме расовой принадлежности. Сначала, после 1938 г., это были евреи; затем, без разбора, представители восточноевропейских этнических групп. Поскольку нацисты объявили эти негерманские этнические группы врагами режима, это могло поддерживать видимость их «вины». Гитлер, который в этом вопросе, как и во всех других, всегда обдумывал наиболее радикальные и далеко идущие меры, предвидел время, когда эти группы будут искоренены и появится необходимость в новых категориях. Поэтому в проекте всеобъемлющего закона о здравоохранении в рейхе от 1943 г. он предлагал после окончания войны провести рентгенографию всех немцев и поместить в концентрационные лагеря все семьи, члены которых страдали легочными или сердечными болезнями. Если бы эта мера была осуществлена, – а мало сомнений в том, что в случае победы в войне это была бы одна из первых мер в послевоенной повестке дня, – то гитлеровская диктатура подвергла бы немецкий народ такому же истреблению, как большевистский режим – русский. (Мы, конечно, знаем, что подобное систематическое истребление гораздо эффективнее самых кровавых войн. В годы искусственно организованного голода на Украине и так называемого раскулачивания этого региона каждый год погибало больше людей, чем в крайне жестокой и кровавой войне, которая шла в Восточной Европе).
В России также, во времена, когда допускались такие действия, категория невинно осужденных определялась при помощи ряда критериев. Так, не только поляки, бежавшие в Россию, но также и россияне польского, немецкого или прибалтийского происхождения во время войны в огромных количествах оказывались в концентрационных лагерях и гибли в них. И разумеется, те люди, которые были убиты, депортированы или брошены в концлагеря, объявлялись либо представителями так называемых отмирающих классов, таких как кулаки или мелкая буржуазия, либо сторонниками одного из ныне предполагаемых заговоров против режима – троцкистами, титоистами, агентами Уолл-стрит, космополитами, сионистами и т. д. Независимо от того, существуют такие заговоры или нет, уничтожаемые группы не имеют с ними вообще ничего общего, и режим очень хорошо знает это. Да, у нас нет документации, подобной той, что в удручающем изобилии имеется для нацистского режима, но мы имеем достаточно информации, чтобы знать, что аресты регулировались из центра и для каждой части Советского Союза устанавливались свои процентные показатели. Это способствует намного более произвольным арестам, чем в нацистской Германии. Бывало, что, когда некоторые заключенные в колонне на марше падали и оставались лежать, умирая, на обочине дороги, ответственный за сопровождение колонны солдат арестовывал любых попавшихся на пути людей и заставлял их присоединиться к колонне, чтобы его квота не была нарушена.
С возрастанием тоталитарного террора по мере сокращения рядов политической оппозиции и огромного роста числа невинных жертв в результате этого тесно связана последняя характеристика, имеющая далеко идущие последствия для совершенно меняющейся миссии и целей тайной полиции в тоталитарных государствах. Этой чертой является современная форма контроля над сознанием, которая заинтересована не столько в том, что действительно происходит в сознании заключенного, сколько в том, чтобы заставить его признаться в преступлениях, которые он никогда не совершал. Это также причина того, почему провокация практически не играет никакой роли в тоталитарной полицейской системе. Кто будет тем лицом, которое арестуют и ликвидируют, что он думает или планирует – все это уже заранее определено властями. Когда он арестован, его реальные мысли и планы не имеют вообще никакого значения. Его преступление определено объективно, не прибегая к помощи каких-либо «субъективных» факторов. Если он еврей, то он член заговора «сионских мудрецов»; если у него сердечная болезнь, то он паразит на здоровом теле немецкого народа; если он арестован в России, когда проводится антиизраильская и проарабская политика, то он сионист; если власти намерены искоренить память о Троцком, то он троцкист. И так далее.
В числе огромных трудностей на пути понимания этой новейшей формы господства (трудностей, которые в то же самое время доказывают, что мы действительно столкнулись с чем-то новым, а не просто разновидностью тирании) то, что не только наши политические понятия и дефиниции недостаточны для понимания феномена тоталитаризма, но также и то, что все наши мыслительные категории и нормы суждения, как кажется, взрываются у нас в руках в то мгновение, когда мы пытаемся их применить здесь. Если, к примеру, мы применяем к феномену тоталитарного террора категорию средств и целей, в соответствии с которой террор служит средством удержания власти, запугивания людей, поддержания в них страха и принуждения их вести себя определенным образом, становится ясно, что тоталитарный террор будет менее эффективен для достижения этой цели, чем любая другая форма террора. Страх не может быть надежным ориентиром, если то, чего я все время боюсь, может случиться со мной независимо от того, что я делаю. Тоталитарный террор может развернуться в полной мере только тогда, когда режим гарантирует себе, при помощи волны самого крайнего террора, что оппозиция стала невозможна. Конечно, могут сказать и часто говорят, что в этом случае средства становятся целью. Но это на самом деле не объяснение. Это только признание, прикрытое парадоксом, что категория средств и целей больше не работает; что террор явно не имеет цели; что миллионы людей приносятся в жертву без всякого смысла; что, как в случае массовых убийств, но время войны, эти меры на самом деле вредят интересам тех, кто их осуществляет. Если средства стали целями, если террор – это не просто средство порабощения людей при помощи страха, а цель, ради которой люди приносятся в жертву, то вопрос о смысле террора в тоталитарных системах должен ставиться иначе и получать ответ не в категориях средств и целей.
Чтобы понять смысл тоталитарного террора, необходимо обратить внимание на два примечательных факта, которые могут казаться совершенно несвязанными. Первый из них – та необычайная тщательность, с которой и нацисты, и большевики предпринимают меры по изоляции концентрационных лагерей от внешнего мира и обращению с теми, кто исчезает в них так, как будто бы они уже мертвы. Эти факты слишком хорошо известны и не требуют дальнейших подробностей. Власти вели себя одинаково в обоих известных нам случаях тоталитарного правления. О смертях не говорится ни слова. Предпринимаются все усилия для того, чтобы создалось впечатление не только о том. что человек, о котором идет речь, умер, а что его вообще никогда не существовало. Любые попытки узнать что-то о его судьбе тем самым становятся абсолютно бессмысленными. Поэтому распространенное представление, что большевистские концентрационные лагеря являются современной формой рабства и поэтому фундаментально отличны от нацистских лагерей смерти, функционировавших как фабрики, ошибочно по двум причинам. История не знает рабовладельцев, которые расходовали бы своих рабов- с такой невероятной скоростью. Отличается от других форм принудительного труда и способ ареста и высылки, отсекающий жертв от мира живых и следящий за тем, чтобы они «отмирали» под предлогом того, что они принадлежат к отмирающему классу; то есть их истребление оправдано, потому что их смерть, хотя, возможно, и иным образом, в любом случае предопределена.
Вторым фактом является та поразительная вещь, многократно подтвержденная, особенно для большевистского режима, что никто, кроме властвующего в данный момент вождя, не защищен от террора, что сегодняшние палачи могут легко превратиться в завтрашних жертв. Для объяснения этого феномена часто ссылаются на наблюдение, что революция пожирает своих детей. Однако это наблюдение, восходящее к Французской революции, оказалось бессмысленным, когда террор продолжился после того, как революция уже пожрала всех своих детей, правые и левые группировки и остававшиеся центры власти в армии и полиции. Так называемые чистки явно представляют собой один из наиболее поразительных и постоянных институтов большевистского режима. Они более не пожирают детей революции, потому что эти дети уже мертвы. Вместо этого они пожирают партийных и полицейских чиновников, даже на самых высоких уровнях.
Миллионы заключенных в концентрационных лагерях вынуждены покориться первой из этих мер, потому что защититься от тотального террора невозможно. Партийные и полицейские функционеры покоряются второй, потому что они, вышколенные в логике тоталитарной идеологии, так же подходят на роль жертв режима, как и его палачей. Эти два фактора, эти всегда повторяющиеся черты тоталитарных властных систем, тесно связаны друг с другом. Оба они стремятся сделать бесконечное многообразие и уникальную индивидуальность людей чем-то избыточным. Давид Руссе назвал концентрационные лагеря «самым тоталитарным обществом», и лагеря действительно служат, среди прочего, также и лабораториями, в которых самые разнообразные человеческие существа сводятся к неизменному набору реакций и рефлексов. Этот процесс заходит так далеко, что любой из этих наборов реакций может быть заменен на кого угодно другого, причем убивают не какую-то конкретную личность, с именем, неповторимой идентичностью, жизнью того или иного склада и определенными установками, и импульсами, а скорее полностью неразличимую и неопределимую особь вида homo sapiens. Концентрационные лагеря не только истребляют людей; они также продолжают чудовищный эксперимент, в соответствии со строгими научными требованиями, по уничтожению спонтанности как элемента человеческого поведения и превращению людей в нечто меньшее, чем животное, набор реакций, который при одних и тех же условиях будет реагировать одинаково. Собака Павлова, натренированная есть не тогда, когда она голодна, а когда слышит звонок, была извращенным животным. Чтобы тоталитарная власть могла достичь своей цели тотального контроля над управляемыми, нужно было лишить людей не только свободы, но и их инстинктов и побуждений, которые не запрограммированы на порождение идентичных реакций у нас всех, но всегда подвигают различных индивидов к различным действиям. Поэтому крах или успех тоталитарной власти в конечном итоге зависит от ее способности превращать человеческие существа в извращенных животных. Обычно это вообще никогда невозможно, даже в условиях тоталитарного террора. Спонтанность никогда нельзя полностью искоренить, потому что жизнь как таковая и, несомненно, человеческая жизнь зависит от нее. Однако в концентрационных лагерях спонтанность может быть искоренена в огромной степени; или в любом случае самое тщательное внимание и усилия уделяются там экспериментам в этих целях. Понятно, что для достижения этого людей надо лишить последних следов их индивидуальности и превратить в собрания идентичных реакций; их надо отрезать от всего, что делало их уникальными, опознаваемыми индивидами в человеческом обществе. Чистота эксперимента была бы нарушена, если бы допускалось, хотя бы в качестве отдаленной возможности, что эти особи вида homo sapiens когда-либо существовали как настоящие человеческие существа.
На другом полюсе от этих мер и связанных с ними экспериментов находятся чистки, повторяющиеся через регулярные интервалы и делающие сегодняшних палачей завтрашними жертвами. Для чистки крайне важно, что ее жертвы не оказывают никакого сопротивления, с готовностью принимают свою новую участь и сотрудничают в ходе широко освещаемых показательных процессов, на которых они порочат и рушат свои прошлые жизни. Признаваясь в преступлениях, которых никогда не совершали и, в большинстве случаев, никогда не могли бы совершить, они публично провозглашают, что люди, которых, как мы думали, мы видели много лет, на самом деле вообще никогда не существовали. Эти чистки также являются экспериментом. Они проверяют, действительно ли власть может полагаться на идеологическое воспитание своей бюрократии, соответствует ли внутренне принуждение, созданное индоктринацией, внешнему принуждению террора, заставляя индивида беспрекословно участвовать в показательных процессах и тем самым полностью соответствовать линии режима, какие бы чудовищные вещи он ни совершал. Чистка, которая мгновенно превращает обвинителя в обвиняемого, вешателя в повешенного, палача в жертву, подвергает людей этой проверке. Так называемые убежденные коммунисты, тысячами тихо сгинувшие в сталинских концентрационных лагерях, потому что отказались давать признательные показания, не прошли этой проверки, и только тот, кто может ее пройти, действительно является частью тоталитарной системы. Помимо других целей, чистки также служат выявлению этих, так сказать, «убежденных» сторонников власти. Тот, кто поддерживает дело по своей воле, завтра может передумать. Он – ненадежный член тоталитарной команды. Надежны только те, кто не только достаточно знает или достаточно обучен, чтобы не иметь мнения, но даже больше не знает, что такое быть убежденным. Эксперименты чисток продемонстрировали, что идеальным типом тоталитарного функционера является тот, кто функционирует несмотря ни на что, у кого нет жизни за пределами его функции.
Тоталитарный террор, таким образом, более не является средством достижения цели; он есть сама сущность такой власти. Его высшей политической целью является формирование и поддержание существования общества, основанного на господстве некоторой расы, или того, в котором классы и нации более не существуют, в котором каждый индивид был бы не более чем отдельной особью вида. Тоталитарная идеология считает этот вид человеческой расы воплощением всепроникающего, всемогущего закона. Рассматривается ли он как закон природы или закон истории, этот закон представляет собой закон бурлящего движения, находящего свое воплощение в человечестве и постоянно приводимого в действие тоталитарными лидерами.
Отмирающие классы или упадочные расы, которым история или природа в любом случае вынесла приговор, будут первыми преданы уничтожению, уже предписанному им. Идеологии, проводимые в жизнь тоталитарными властями с непоколебимой и беспрецедентной последовательностью, не являются изначально тоталитарными и значительно старше тех систем, в которых нашли свое полное выражение. Внутри своих собственных лагерей, Гитлер и Сталин часто обвинялись в посредственности, поскольку ни один из них не обогатил свою идеологию новой бессмыслицей. Но при этом забывается, что эти политики, следуя предписаниям своих идеологий, не могли не открыть подлинной сущности законов природы и истории, движение которых они должны были ускорить. Если уничтожать то, что вредно и непригодно для жизни, – закон природы, то разовое террористическое уничтожение определенных рас не слишком хорошо отвечает логически последовательной расовой политике, ибо когда невозможно найти новые категории паразитических и нездоровых жизней, это означает конец природы вообще – или, по крайней мере, конец расовой политики, которая стремится служить такому закону природы. Или если «отмирание» определенных классов представляет собой закон исторического развития, то, невозможность найти новые классы, которые нужно заставить отмереть, означает для тоталитарной власти конец человеческой истории. Иными словами, закон убийств, закон, при помощи которого тоталитарные движения приходят к власти, остается в силе как закон самих движений; и он остался бы неизменным, даже если бы произошло невероятное, то есть даже если бы они достигли своей цели, подчинив все человечество своей власти.
Карл Ясперс[32 - Речь при вручении Премии мира Немецкой книготорговли Карлу Ясперсу.]. Laudatio[33 - Похвальное слово (лат.).]
Мы собрались сегодня на вручение Премии мира. Премия эта (позволю себе процитировать президента Федеративной республики) присуждена не только за «выдающееся литературное творчество», но и за «испытание, выдержанное в деятельной и страдательной жизни». Таким образом, она присуждена лицу и присуждена творчеству – постольку, поскольку последнее остается сказанным словом и словом-поступком, которое еще не отрешилось от своего автора и еще не вступило на неопределенный, всегда щедрый на приключения путь сквозь историю. Поэтому при вручении этой премии уместно будет laudatio – похвальное слово, имеющее целью прославить не столько творчество, сколько самого человека. Научиться такой похвале можно, наверное, у римлян, которые – более, чем мы, умудренные в делах общественной важности – разъясняют, к чему должна стремиться подобная похвала: «in laudationibus… ad personarum dignitatem omnia referrentur», сказал Цицерон[34 - De oratore I, 141 (Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве (пер. ФА. Петровского). – М., 1972. С. 102).] – в «хвалебных (речах)… все сводится к оценке данного лица». Иными словами, похвальная речь имеет предметом достоинства, которыми обладает человек, поскольку он превосходит все свои дела и произведения. Распознать и прославить эти достоинства – не дело коллег и экспертов; судить о жизни, выставленной на публичное обозрение и выдержавшей испытание в публичной сфере, должна общественность. Премия лишь подтверждает то, что общественность эта давно уже знала.
Следовательно, laudatio может лишь попробовать выразить то, что всем вам известно. Но сказать гласно то, что знают многие в уединении своей приватности, – дело не праздное. Само всеуслышание придает предмету освещенность, подтверждающую его реальное существование. Однако я должна признаться, что этот «риск публичности» (Ясперс) и ее прожекторов я беру на себя нерешительно и робея. Все мы современные люди и на публике движемся неуверенно и неловко. Рабы современных предрассудков, мы считаем, что публике принадлежит только «объективное произведение», отдельное от лица; что стоящее за ним лицо и его жизнь – частное дело и что относящиеся к этим «субъективным вещам» чувства утратят подлинность и превратятся в сентиментальность, если их выставить на всеобщее обозрение. На самом же деле, решив, что при вручении премии должно прозвучать laudatio, Немецкая книготорговля вернулся к более раннему и более верному смыслу публичности, согласно которому, чтобы обрести полноту реальности, человеческое лицо как раз и должно появиться на публике во всей своей субъективности. Если мы принимаем этот ново-старый смысл, то должны переучиться и отказаться от привычки приравнивать личное к субъективному, объективное – к вещно-безличному. Происходят эти уравнения из естественных наук, и там они осмысленны. Они очевидно бессмысленны в политике, где люди в принципе выступают как действующие и говорящие лица и где, таким образом, личность ни в коей мере не есть частное дело. Но эти уравнения теряют силу и в публичной интеллектуальной жизни, которая, безусловно, включает и далеко превосходит сферу жизни академической.
Говоря точнее, мы должны научиться различать не между субъективностью и объективностью, но между индивидом и лицом. Действительно, предлагает, отдает публике какое-то объективное произведение отдельный субъект. Субъективный элемент, скажем приведший к произведению творческий процесс, вообще публики не касается. Но если это произведение не только академическое, если оно еще и итог «испытания, выдержанного в жизни», то произведение это сопровождают живые действие и голос; вместе с ними является само лицо. Что именно здесь явлено, этого сам предъявляющий не знает; он не может это контролировать, как контролирует произведение, которое подготовил для публикации, для выхода в свет. (Всякий, кто сознательно втаскивает свою личность в произведение, актерствует и тем самым проигрывает реальный шанс, который эта публикация означает для него и других.) Личностное стоит вне контроля субъекта и, следовательно, составляет точную противоположность всего лишь субъективного. Но именно субъективность «объективно» гораздо легче постижима и гораздо легче дается в распоряжение субъекта. (Под самообладанием, например, мы просто подразумеваем, что мы способны овладеть этим чисто субъективным элементом в себе, чтобы использовать его по своему усмотрению.)
Личность – совершенно иное дело. Она труднопостижима и, наверное, больше всего похожа на греческого «даймона» – духа-хранителя, сопровождавшего каждого человека всю его жизнь, но всегда только выглядывавшего у него из-за плеча – так что его легче было увидеть всем, кто с этим человеком встречался, нежели самому человеку. Этот «даймон» (в котором нет ничего демонического), этот личный элемент в человеке может появиться лишь там, где есть публичное пространство; в этом – более глубокое значение публичной сферы, далеко превосходящее то, что мы обычно подразумеваем под политической жизнью. Поскольку эта публичная сфера – сфера также и духовная, постольку в ней проявляется то, что римляне называли humanitas. Так они называли нечто, составлявшее самую вершину человечности, поскольку оно истинно, не будучи объективным. Именно это Кант и Ясперс называли Humanitat – истинную личностность, которая, однажды обретенная, уже не покидает человека, хотя бы все прочие дары тела и души уже уступили разрушительному времени. Humanitas никогда не приобретается ни в одиночестве, ни благодаря тому, что человек отдает свое произведение публике. Ее приобретает лишь тот, кто подвергает свою жизнь и личность «риску публичности» – тем самым рискуя проявить что-то не «субъективное» и, по этой самой причине, то, что сам он не может ни распознать, ни контролировать. Таким образом, «риск публичности», в котором приобретается humanitas, становится даром человечеству.
Называя личное начало, с Ясперсом вступающее в публичную сферу, словом, humanitas, я имею в виду, что никто лучше, чем он не поможет нам преодолеть наше недоверие к этой публичной сфере, почувствовать, какая это честь и радость – во всеуслышание хвалить того, кого мы любим. Ибо Ясперс никогда не разделял предрассудка интеллигентных людей, будто яркий свет публичности делает все мелким и плоским, будто благоприятен он только для посредственности и будто поэтому философ должен от этого света уклоняться. Вы помните мнение Канта, что пробным камнем для отличения подлинно сложного философского текста от «изощренного пустозвонства» служит его пригодность к популяризации. И Ясперс, который в этом отношении – как, кстати, и во всех прочих – единственный наследник Канта, не раз, подобно Канту, покидал академическую сферу и ее терминологию, чтобы обратиться к широкой читательской публике. Более того, он трижды – впервые незадолго до прихода нацистов к власти в «Духовной ситуации нашего времени» (1931), затем сразу после падения Третьего рейха в «Вопросе о вине» и теперь в «Атомной бомбе и будущем человека» – прямо вмешивался в злободневные политические вопросы[35 - Самая важная политическая публикация Ясперса с 1958 года, когда была написана эта речь, – это Wohin treibt die Bundesrepublik (1966).]. Ведь он, как и настоящий государственный деятель, знает, что политические вопросы слишком серьезны, чтобы их доверять политикам.
Утверждение публичной сферы у Ясперса уникально, так как оно исходит от философа и проистекает из фундаментального убеждения, на котором основана вся его деятельность в качестве философа: что и философия, и политика касаются всех. Вот это и объединяет философию и политику; вот в этом и заключается причина того, что обе они принадлежат публичной сфере, где берутся в расчет человеческая личность и ее способность пройти испытание. Философ – в отличие от ученого – схож с политиком, поскольку должен отвечать за свои мнения, поскольку сам как личность несет ответственность. Более того, положение политика даже легче, так как он отвечает только перед собственным народом, тогда как Ясперс, по крайней мере во всех своих сочинениях после 1933 года, всегда писал так, словно держал ответ перед всем человечеством.
Для него ответственность – отнюдь не бремя и не имеет ничего общего с моральными императивами. Скорее, она проистекает из врожденной тяги к обнародованию, к прояснению неясного, к просветлению темного. Его утверждение публичной сферы – в конечном счете, лишь следствие его любви к свету и ясности. Он любил ясность так долго, что она наложила отпечаток на всю его личность. В произведениях великого писателя мы почти всегда можем отыскать присущую только ему устойчивую метафору, в которой все его творчество словно сходится в фокус. В творчестве Ясперса одна из таких метафор – слово «ясность». Существование «проясняется» разумом; «модусы охвата» (с одной стороны, есть наше сознание, которое «охватывает» все, с чем мы сталкиваемся, с другой – есть мир, который «охватывает» нас, есть «внутринаходимость, посредством которой мы существуем») разум «выводит на свет»; наконец, сам разум, его близость к истине, удостоверяется его «простором и ясностью». Все, что выдерживает свет и не испаряется под его яркостью, причастно humanitas; взять на себя ответственность перед человечеством за каждую мысль – значит, жить в той освещенности, в которой держит испытание сам человек и все, что он думает.
Задолго до 1933 года Ясперс был, что называется, «знаменит», как бывают и другие философы, но только во время гитлеровского периода и особенно в последующие годы он стал публичной фи1урой в полном смысле слова. Связано это было не только – как можно было бы подумать – с обстоятельствами времени, которые сперва вытеснили его в безвестность гонимых, а затем превратили в символ изменившихся времен и позиций. Если обстоятельства и играли здесь какую-то роль, они лишь вытолкнули его на то место, которое ему предназначалось по природе, – на полный свет публичного мнения. Не то что он сперва пострадал, потом в этом страдании достойно выдержал испытание и наконец, когда положение стало критическим, стал воплощением так называемой «другой Германии». В таком смысле он вообще ничего не воплощал. Он всегда стоял совершенно один и оставался независим от любых группировок, включая немецкое движение сопротивления. Величественность этой позиции, которая держится только за счет веса самой личности, – именно в том, что, не воплощая ничего, кроме собственного существования, он удостоверял, что даже во тьме тотального господства, в которой все то хорошее, что еще могло сохраниться, становится абсолютно невидимо и потому бездейственно, – что даже тогда разум можно уничтожить, лишь убив – фактически и буквально – всех разумных людей.
Было самоочевидно, что он останется тверд до конца посреди катастрофы. Но все происходившее не оказалось для него даже искушением – и эта его, менее очевидная, неуязвимость для тех, кто о нем знал, означала намного больше, чем сопротивление и героизм. Она означала доверие, не нуждавшееся в подтверждениях, означала уверенность, что в эпоху, когда возможным казалось что угодно, что-то все же оставалось невозможным. Оставаясь совершенно один, Ясперс воплощал не Германию, а то, что в Германии сохранилось от humanitas. Как будто он в одиночку в своей неуязвимости мог осветить то пространство, которое разум создает и сохраняет между людьми, и как будто свет и простор этого пространства сохранятся, даже если в нем останется всего один человек. На самом деле этого не было и даже не могло быть. Ясперс часто говорил: «В одиночку, сам по себе человек не может быть разумным». И в этом смысле он никогда не был один и никогда не ставил такое одиночество сколько-нибудь высоко. Humanitas, за существование которой он ручался, вырастала из родного для его мышления пространства, а пространство это никогда не было необитаемо. Отличает Ясперса то, что в этом пространстве разума и свободы он чувствует себя уверенней, движется с большей легкостью, чем другие, кто, может быть, с этим пространством и знаком, но не выдерживает постоянного пребывания в нем. Именно потому, что само его существование сформировано страстью к ясности, и могло получиться, что он был как свет во тьме, светящий из какого-то скрытого светового источника.
В том, что человек может быть неуязвим, неискусим, непреклонен, есть что-то завораживающее. Если бы мы захотели объяснить это в психологических и биографических категориях, мы могли бы, наверное, вспомнить о родительском доме, из которого Ясперс вышел. Его отец и мать оставались тесно связаны с гордым и упрямым фризским крестьянством, обладавшим чувством независимости, в Германии совершенно необычным. Но свобода – больше, чем независимость, и Ясперсу еще предстояло развить из независимости рациональное сознание свободы, в котором человек сознает себя как самому себе подаренного. Но суверенная естественность – какая-то веселая беспечность (Ubermut), как он сам иногда говорит, – с которой он отдается публичности, оставаясь при этом независим от всех модных течений и мнений, тоже, вероятно, следствие этой крестьянской самоуверенности – по крайней мере, из нее происходит. Ему стоит только, так сказать, вмечтаться в свои личные истоки, а потом вернуться оттуда на простор человечности, чтобы убедиться, что даже в изоляции он воплощает не частное мнение, а иную, еще скрытую общественность – «тропинку», как сказал Кант, которая когда-нибудь непременно превратится «в столбовую дорогу»,
Такая безошибочность суждения и суверенность разума таят в себе риск. Неподверженность искушениям может привести к отсутствию опыта – или, по крайней мере, к неопытности в том, что любая конкретная эпоха предлагает в качестве реальности. И действительно, что может быть дальше от современного опыта, чем гордая независимость, из которой Ясперс был родом, чем веселая беззаботность по отношению к тому, что говорят и думают люди? Здесь нет даже и бунта против условностей, поскольку здесь условности всегда признаются именно в качестве таковых и никогда не принимаются всерьез как мерила поведения. Что может быть дальше от нашей ere de soupgon[36 - Эра подозрения (фр.).] (Натали Саррот), чем уверенность, лежащая в глубоком основании этой независимости, чем тайное доверие к человеку, к humanitas человеческой расы?
И раз уж мы уже обратились к субъективно-психологическим материям: Ясперсу было пятьдесят лет, когда Гитлер пришел к власти. В этом возрасте подавляющее большинство людей уже давно перестало пополнять свой опыт, и особенно интеллигенты обычно уже так давно закоснели в своих мнениях, что все реальные события воспринимают только как подтверждение этих мнений. Ясперс не реагировал на решающие события этого времени (которое он предвидел не больше, чем любой другой, и к которому был готов даже меньше, чем многие другие) ни уходом в собственную философию, ни отрицанием мира, ни меланхолией. Можно было бы сказать, что после 1933 года, то есть после завершения «Философии» в трех частях, и после 1945 года, после завершения книги «Об истине», у него начинались новые периоды производительности, но, к сожалению, это выражение слишком тесно связано с идеей жизненного обновления, случающегося иногда у крупных талантов. Но величие Ясперса именно в том, что он обновляется, так как остается неизменен – то есть по-прежнему связан с миром и следит за текущими событиями с неизменной проницательностью и способностью к заботе.
«Великие философы» не в меньшей мере, чем «Атомная бомба», целиком относятся к сфере нашего самого недавнего опыта. Эта современность или, скорее, это проживание в настоящем, продолжающееся до столь преклонного возраста, – подобны удаче, отменяющей любые разговоры о заслугах. Благодаря той же удаче Ясперс мог в течение жизни оказываться в изоляции, но никогда не бывал одинок. Удача эта основана на браке – всю его жизнь рядом с ним стояла жена, его ровесница. Если двое не падают жертвой иллюзии, будто их узы могут слить их в одно целое, они могут создать между собой новый мир. Этот брак, несомненно, никогда не был для Ясперса лишь частным делом. Оказалось, что два человека разного происхождения (жена Ясперса еврейка) могут создать между собой собственный мир. И на этом мире, как на миниатюрной модели, он узнал, что существенно для всего мира человеческих дел. В этом малом мире он развертывал и практиковал свою несравненную способность к диалогу, великолепную точность в слушании другого, постоянную готовность дать откровенный самоотчет, терпение обсуждать уже обсужденное и, главное, способность выманивать то, о чем обычно молчат, в зону разговора, делать достойным обсуждения. Так, говоря и слушая, он умеет все изменять, расширять, оттачивать – или, по его собственному прекрасному выражению, прояснять.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: