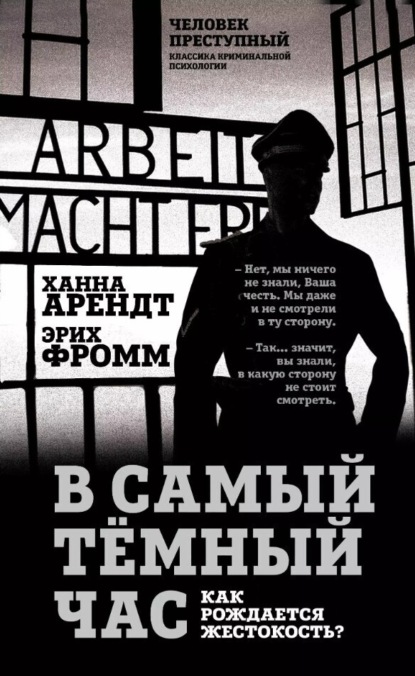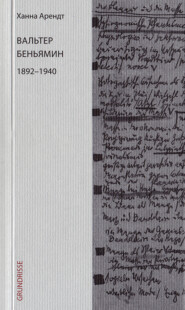По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В самый темный час. Как рождается жестокость?
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В самый темный час. Как рождается жестокость?
Эрих Фромм
Ханна Арендт
Человек преступный. Классика криминальной психологии
– И вы действительно не знали, что происходило в Аушвице. Не замечали ничего
– Нет, мы ничего не знали, Ваша Честь. Мы даже и не смотрели в ту сторону
– Так… значит, вы знали, в какую сторону не стоит смотреть.
Самыми страшными охранниками в концлагере были те, кто не выносил человеческих криков. Они злились из-за того, что узники, не понимают, какая тяжелая работа у надзирателей, и стремятся лишь усложнить неизбежное. Таких было большинство: ученые, актеры, учителя и обычные люди.
Как вели себя люди в самый темный час в истории Германии? Как рождался демон фашизма и как работает логика геноцида? На этот вопрос отвечают в своих очерках два выдающихся мыслителя, психолога и социолога XX века, на чью долю выпала страшная участь безмолвных свидетелей самой страшной трагедии XX века.
Ханна Арендт, Эрих Фромм
В самый темный час
Как рождается жестокость?
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной – заступиться за меня было уже некому.
М. Нимеллер
Ханна Арендт
Часть I. Люди в самый темный час[1 - Перевод текстов Х. Арендт: Г. Дашевского, Б. Дубина, Елены Бондал Анны Васильевой Алексея Б. Григорьева Сергея Моисеева]
Последствия нацистского правления: репортаж из Германии[2 - Опубликовано в: Commentary, 1950.]
Менее чем за шесть лет Германия разрушила нравственную структуру западного общества, совершая преступления, которые невозможно было представить, а ее победители превратили в руины зримые следы более тысячи лет германской истории. Затем в эту опустошенную землю, обрезанную границей по Одеру-Нейсе и вряд ли способную поддерживать существование своего деморализованного и истощенного населения, устремились миллионы людей из восточных провинций, с Балкан и из Восточной Европы, добавляя к общей картине катастрофы специфически современные черты физической бездомности, социальной неукорененности и политического бесправия. Можно усомниться в мудрости союзных держав, изгнавших все германоязычные меньшинства из негерманских стран, – как будто бы до этого в мире было недостаточно бездомности. Но факт состоит в том, что европейские народы, пережившие убийственную демографическую политику Германии в годы войны, были охвачены ужасом, еще большим, чем негодование, от самой мысли о том, чтобы жить вместе с немцами на одной территории.
Вид разрушенных городов Германии и знание о германских концентрационных лагерях и лагерях смерти накрыли Европу облаком меланхолии. Вместе они делают память о прошлой войне более долгой и более мучительной, а страх перед будущими войнами более реальным. Не «германская проблема», в той мере, в какой она является национальной в сообществе европейских наций, а кошмар Германии в ее физическом, нравственном и политическом разрушении стал почти столь же явным элементом в общей атмосфере европейской жизни, как и коммунистические движения.
Но нигде этот кошмар разрушения и ужаса так слабо не ощущается и так мало не обсуждается, как в самой Германии. Отсутствие отклика очевидно везде, и трудно сказать, означает ли это полубессознательный отказ поддаваться горю или подлинную неспособность чувствовать. Среди руин, немцы посылают друг другу красочные открытки, по-прежнему изображающие соборы и рыночные площади, которых более не существует. И безразличие, с которым они прохаживаются среди обломков, отражается также в отсутствии скорби по погибшим или в той апатии, с которой они реагируют или, скорее, не реагируют на участь беженцев среди них. Это общее отсутствие эмоций, по крайней мере эта внешняя бессердечность, иногда прикрытая дешевой сентиментальностью, является наиболее бросающимся в глаза открытым симптомом глубоко укорененного, упрямого и временами порочного отказа взглянуть в лицо реально случившемуся и принять его.
Безразличие и раздражение, появляющееся тогда, когда кто-то указывает на это безразличие, можно проверить на многих интеллектуальных Уровнях. Наиболее очевидным экспериментом будет прямо сказать собеседнику о том, что он заметил с самого начала разговора, а именно о том, что ты еврей. За этим обычно следует небольшая смущенная пауза, а затем идет – нет, не личный вопрос вроде «куда Вы отправились, уехав из Германии?» или знак симпатии, вроде «что произошло с Вашей семьей?», а поток историй о том, как страдали немцы (вполне достоверный, конечно, но неуместный). И если объект этого маленького эксперимента оказывается достаточно образован и умен, он далее обрисует соотношение между страданиями немцев и страданиями других, следствием чего является то, что одно уравновешивает другое, и мы вполне можем перейти к более многообещающей теме для беседы. Столь же уклончивой является обычная реакция на вид развалин. Когда какая-то открытая реакция вообще есть, она заключатся во вздохе, за которым следует наполовину риторический, наполовину тоскливый вопрос: «Почему человечество должно всегда вести войны?» Средний немец ищет причины прошлой войны не в действиях нацистского режима, а в событиях, приведших к изгнанию Адама и Евы из рая.
Такое бегство от реальности есть, конечно, также и бегство от ответственности. В этом немцы не одиноки; все народы Западной Европы сформировали привычку обвинять в своих несчастьях некую внешнюю силу: сегодня это может быть Америка и Атлантический пакт, завтра последствия нацистской оккупации и каждый день недели история в целом. Но эта позиция более выражена в Германии, где искушению винить оккупационные силы во всем трудно противостоять: в британской зоне во всем винят страх британцев перед конкуренцией со стороны Германии, во французской – французский национализм, а в американской зоне, где ситуация лучше во всех отношениях, – незнание американцами европейского менталитета. Эти жалобы совершенно естественны, и все они содержат зерно истины; но за ними кроется упрямое нежелание использовать многие возможности, предоставляемые инициативе немцев. Это, возможно, наиболее отчетливо проявляется в немецких газетах, которые выражают все свои убеждения в тщательно культивируемом стиле Schadenfreude, ехидной радости от разрушения. Это выглядит так, как будто бы немцы, лишенные возможности править миром, впали в любовь к бессилию как таковому и сейчас находят удовольствие в созерцании напряженности на международной арене и неизбежных ошибок в деле управления, независимо от возможных последствий для них самих. Страх перед русской агрессией не всегда приводит к недвусмысленно проамериканской позиции, но часто ведет к решительной нейтральности, как если бы занимать ту или иную сторону в конфликте было бы столь же абсурдным, как становиться на ту или иную сторону во время землетрясения. Осознание того, что нейтральность не изменит чьей-либо участи, в свою очередь не позволяет преобразовать это настроение в какую-то рациональную политику, и само настроение, в силу самой его иррациональности, становится еще более горьким.
Но реальность преступлений нацизма, войны и поражения, по-прежнему определяют всю ткань германской жизни, и немцы разработали массу способов для уклонения от ее шокирующего воздействия.
Реальность фабрик смерти трансформируется во всего лишь потенциальность: немцы делали только то, что способны делать другие (конечно же, со множеством иллюстрирующих примеров), или то, что другие будут делать в ближайшем будущем; поэтому любой, кто поднимает эту тему, тем самым наводит на себя подозрение в излишней уверенности в собственной правоте. В этом контексте политика союзников в Германии часто объясняется как кампания успешной мести, даже несмотря на то, что немец, предлагающий такую интерпретацию, вполне осознает, что большинство вещей, на которые он жалуется, либо являются прямым последствием проигранной войны, либо никак не зависят от воли и возможностей западных держав. Но утверждение, что существует какой-то тщательно продуманный план мести, служит утешительным аргументом, демонстрирующим равную греховность всех людей.
Реальность разрушений, окружающих каждого немца, растворяется в задумчивой, но не очень глубокой жалости к себе, легко рассеивающейся, когда уродливые маленькие одноэтажные строения, как будто бы перенесенные с главной улицы небольшого американского городка, возникают на одной из широких улиц, чтобы частично скрыть мрачность пейзажа и предложить в изобилии провинциальную элегантность в суперсовременных витринах. Во Франции и Великобритании люди испытывают большую печаль по относительно немногим памятникам культуры, разрушенным войной, чем немцы по всем своим потерянным сокровищам вместе. В Германии высказывается горделивая надежда, что страна станет «самой современной» в Европе; но это всего лишь разговоры, и некто, только что выразивший такую надежду, спустя несколько минут, при следующем повороте в разговоре, будет настаивать на том, что следующая война в Европе сделает со всеми европейскими городами то, что эта сделала с немецкими – что, конечно, возможно, но снова свидетельствует только о превращении реальности в потенциальность. Тот подтекст радости, который часто замечают в разговорах немцев о будущей войне, выражает не зловещее возрождение германских завоевательных планов, как настаивают многие наблюдатели, но скорее всего лишь еще один способ бегства от реальности: в итоговом равенстве опустошения положение в Германии потеряет свою остроту.
Но, возможно, самым поразительным и пугающим аспектом немецкого бегства от реальности является привычка обращаться с фактами так, как будто бы они всего лишь мнения. К примеру, на вопрос о том, кто начал войну, который ни в коей мере не является остродискуссионным, отвечают поразительным разнообразием мнений. Во всех иных отношениях вполне нормальная и разумная женщина из Южной Германии сказала мне, что войну начали русские нападением на Данциг; это лишь самый грубый из многих примеров. И эта трансформация фактов во мнения не ограничивается вопросами о войне; во всех сферах имеется что-то вроде джентльменского соглашения, по которому каждый имеет право на свое невежество под предлогом того, что каждый имеет право на свое мнение – и за этим стоит молчаливое допущение, что на самом деле мнения не имеют значения. Это очень серьезно, не только потому, что часто делает дискуссию столь безнадежной (обычно не носишь с собой повсюду библиотеку справочников), но прежде всего потому, что средний немец искренне верит в то, что этот общедоступный, нигилистический релятивизм относительно фактов является сущностью демократии. На самом деле, конечно, это наследие нацистского режима.
Ложь тоталитарной пропаганды отличается от обычной лжи нетоталитарных режимов в экстремальных ситуациях своим последовательным отрицанием важности фактов в целом: все факты могут измениться, и любую ложь можно сделать истиной. Нацистский отпечаток на германском сознании состоит прежде всего в обработке, благодаря которой реальность перестала быть общей суммой строгих, неизбежных фактов и стала конгломератом постоянно меняющихся событий и лозунгов, когда нечто может быть правдой сегодня и ложью завтра. Эта обработка может быть как раз одной из причин удивительно редких следов сколько-нибудь продолжающейся нацистской индоктринации и не менее удивительного отсутствия интереса к опровержению нацистских доктрин. Приходится сталкиваться не столько с индоктринацией, сколько с неспособностью или нежеланием вообще различать факт и мнение. Дискуссия о событиях гражданской войны в Испании будет вестись на том же уровне, что и дискуссия о теоретических достоинствах и недостатках демократии.
Поэтому проблемой для германских университетов является не столько повторное введение свободы преподавания, сколько возрождение честного исследования, знакомство студента с беспристрастным описанием того, что реально произошло, и устранение тех преподавателей, которые стали неспособны это сделать. Опасность для академической жизни в Германии исходит не только от тех, кто считает, что свободу слова следует обменять на диктатуру, при которой единственное необоснованное, безответственное мнение обретет монополию перед всеми остальными, но равным образом и от тех, кто игнорирует факты и реальность и утверждает свои частные мнения не обязательно в качестве единственно верных, но в качестве мнений, столь же обоснованных, как другие.
Нереальность и иррелевантность большинства этих мнений, в сравнении с неумолимой релевантностью опыта их обладателей, резко подчеркивается тем, что они сформировались до 1933 г. Есть почти инстинктивное побуждение искать убежища в мыслях и идеях, которые у тебя были до того, как случилось что-то дискредитирующее. В результате этого, хотя Германия изменилась до неузнаваемости – физически и психологически, – люди разговаривают и ведут себя так, будто с 1932 г. абсолютно ничего не произошло. Авторы немногих действительно важных книг, написанных в Германии после 1932 г. или опубликованных после 1945 г., были уже знамениты двадцать и двадцать пять лет назад. Молодое поколение кажется окаменевшим, косноязычным, не способным к последовательному мышлению.
Молодой немецкий искусствовед, ведя своих слушателей среди шедевров Берлинского музея, которые выставлялись в нескольких американских городах, указал на древнеегипетскую статую Нефертити как на скульптуру, «из-за которой весь мир завидует нам» и затем продолжил, сказав, что (а) даже американцы «не осмелились» увезти этот «символ берлинских коллекций» в Соединенные Штаты и (б) что из-за «вмешательства американцев» англичане «не решились» вывезти Нефертити в Британский музей. Две противоречивые позиции по отношению к американцам были отделены лишь одним предложением: произнесший это, будучи лишен убеждений, всего лишь автоматически подыскивал клише, из числа тех, что были в его сознании, чтобы найти подходящее к данному случаю. Клише чаще имеют старомодный националистический, а не откровенно нацистский оттенок, но в любом случае тщетно пытаться найти за ними последовательную точку зрения, пусть даже и плохую.
С падением нацизма немцы обнаружили, что перед ними снова открылись факты и реальность. Но опыт тоталитаризма лишил их всякой спонтанной речи и понимания, так что теперь, не имея никакой официальной линии, которой они могли бы руководствоваться, они оказались как будто бы безмолвны, неспособны четко сформулировать мысль и адекватно выразить свои чувства. Интеллектуальная атмосфера омрачена туманными бесцельными обобщениями, мнениями, сформировавшимися задолго до того, как на самом деле произошли события, которым они должны соответствовать; подавляет та всепроникающая общественная глупость, которой нельзя доверять в суждениях даже о самых элементарных событиях и которая, к примеру, делает возможной для газеты жаловаться, что «мир в целом опять покинул нас» – утверждение, сравнимое по своей слепой эгоцентричности с ремаркой, которую Эрнст Юнгер, как он пишет в своих военных дневниках (Strahlungen, 1949), слышал в разговоре о русских пленных, отправленных на работы в окрестностях Ганновера: «Сволочи они все. Отнимают пищу у собак». Как замечает Юнгер, «часто возникает впечатление, что германский средний класс одержим дьяволом».
Быстрота, с которой, после денежной реформы, повседневная жизнь в Германии вернулась в нормальное русло и восстановление началось во всех сферах, стала предметом разговоров в Европе. Несомненно, нигде люди не работают так много и упорно, как в Германии. Хорошо известно то, что немцы в течение многих поколений слишком сильно любили работать; и их сегодняшнее трудолюбие, на первый взгляд, подкрепляет мнение о том, что Германия по-прежнему потенциально является самой опасной европейской страной. Более того, имеется много сильных стимулов к труду. Свирепствует безработица, а профессиональные союзы занимают настолько слабые позиции, что рабочие даже не требуют компенсации за сверхурочную работу и часто отказываются сообщать о ней профсоюзам; ситуация с жильем хуже, чем может показаться по множеству новых зданий: деловые и офисные здания для крупных промышленных и страховых компаний имеют несомненный приоритет перед жилыми домами, в результате чего люди предпочитают работать по субботам и даже воскресеньям, а не оставаться дома в перенаселенных квартирах. При отстройке заново разрушенных городов, как и почти во всех сферах жизни Германии, все делается (часто крайне впечатляющим образом) для восстановления точной копии довоенной экономической и индустриальной ситуации, и очень мало делается для благополучия народных масс.
Но ни один из этих фактов не может объяснить атмосферу лихорадочной деловой активности, с одной стороны, и довольно посредственное производство – с другой. Если посмотреть глубже, немецкий подход к труду претерпел серьезное изменение. Старая добродетель стремления к совершенству в законченном продукте, независимо от того, каковы условия труда, уступила место всего лишь слепой потребности быть занятым, жадному стремлению что-то делать в любой момент дня. Видя то, как немцы с деловым видом ковыляют среди руин своей тысячелетней истории, пожимают плечами при виде разрушенных достопримечательностей или обижаются, когда им напоминают об ужасных деяниях, терзающих весь окружающий мир, приходишь к пониманию, что работа стала их главной защитой от реальности. И хочется закричать: но это реально – реальны руины, реальны ужасы прошлого, реальны мертвые, которых вы забыли. Но они – живые призраки, которых слова и аргументы, взгляд человеческих глаз и горе человеческих сердец более не трогают.
Конечно, есть много немцев, которые не соответствуют этому описанию. Прежде всего, есть Берлин, чьи жители, среди самых ужасных материальных разрушений, остались неизменными. Я не знаю, почему это так, но обычаи, манеры, речь, подход к людям даже в малейших деталях так абсолютно отличаются от всего, что видишь и с чем сталкиваешься во всей остальной Германии, что Берлин почти что другая страна. В Берлине практически нет недовольства победителями и явно никогда не было; когда первые британские ковровые бомбардировки стирали город в порошок, берлинцы, как сообщают, выползали из своих подвалов и, видя, как исчезает квартал за кварталом, замечали: «Что ж, если томми собираются продолжать в том же духе, им скоро придется привозить дома с собой». Нет смущения и чувства вины, но открытое и детальное повествование о том, что случилось с берлинскими евреями в начале войны. Важнее всего то, что в Берлине люди по-прежнему активно ненавидят Гитлера и, хотя у них больше, чем у других немцев, оснований чувствовать себя пешками в международной политике, они не считают себя бессильными, но убеждены, что их позиция что-то значит; имея даже незначительный шанс, они, по крайней мере, дорого продадут свои жизни.
Берлинцы работают столь же упорно, как и остальные в Германии, но они не столь занятые, они уделят время тому, чтобы показать развалины и несколько торжественно перечислят названия исчезнувших улиц. Этому трудно поверить, но что-то есть в утверждении берлинцев о том, что Гитлер никогда не смог их полностью подчинить. Они поразительно хорошо информированы и сохранили чувство юмора и свое характерно ироничное дружелюбие. Единственная перемена в людях – кроме того, что они стали несколько грустнее и с меньшей готовностью смеются – в том, что «красный Берлин» теперь стал неистово антикоммунистическим. Но здесь снова есть важная разница между Берлином и остальной Германией: только берлинцы берут на себя труд четко указать на сходства между Гитлером и Сталиным, и только берлинцы беспокоятся о том, чтобы сказать вам, что они, конечно, не против русского народа – чувство, еще более примечательное, если вспомнить, что случилось с берлинцами, многие из которых приветствовали Красную армию как своих подлинных освободителей в первые месяцы оккупации, и что по-прежнему происходит с ними в Восточном секторе.
Берлин является исключением, но, к несчастью, не очень важным. Ибо город герметично закрыт и мало взаимодействует с остальной частью страны, за исключением того, что везде можно встретить людей, которые из-за неопределенности покинули Берлин, перейдя в западные зоны, и теперь горько жалуются на одиночество и раздражение. Более того, имеется достаточно много «других» немцев, но они расходуют свою энергию на усилия по преодолению удушающей атмосферы, их окружающей, и остаются совершенно изолированными. В некотором отношении этим людям сегодня психологически хуже, чем в наихудшие годы гитлеровского террора. В последние годы войны действительно существовало неопределенное товарищество по оппозиции между теми, кто по той или иной причине был против режима. Вместе они надеялись на день поражения, и поскольку (кроме нескольких известных исключений) не имели реальных намерений что-либо сделать, чтобы приблизить этот день, они могли наслаждаться очарованием наполовину воображаемого бунта. Сама опасность, связанная даже с мыслью об оппозиции, создавала чувство солидарности, тем более утешительное, что оно могло выражаться лишь в таких неуловимых выражениях эмоций, как взгляд или рукопожатие, которые приобрели совершенно непропорциональное значение. Переход от этой экзальтированной близости, порождаемой опасностью, к грубому эгоизму и все ширящейся поверхностности послевоенной жизни оказывается надрывающим сердце опытом для многих людей. (Можно отметить, что сегодня в Восточной зоне, с ее полицейским режимом, к настоящему времени ненавидимым почти всем населением, существует еще более сильная атмосфера товарищества, близости и полувысказанного языка жестов, чем при нацистах, так что часто лучшим представителям Восточной зоны трудно решиться перебраться на Запад).
Денацификация основывалась на исходном допущении о том, что имеются объективные критерии не только для четкого разграничения между нацистами и ненацистами, но и для всей нацистской иерархии, в диапазоне от слегка сочувствующего до военного преступника. С самого начала вся система, основанная на длительности членства в партии, рангах и занимавшихся должностях, времени вступления и т. д., была крайне усложненной и включала почти каждого. Те очень немногие, кому удалось не влиться в жизненный поток гитлеровской Германии, не были затронуты ею, что, конечно, правильно; но к ним были присоединены некоторые совсем не похожие на них персонажи, достаточно удачливые, осторожные или влиятельные для того, чтобы избежать многих неудобств членства в партии: люди, на самом деле бывшие влиятельными в нацистской Германии, но не подвергшиеся требованию пройти через процесс денацификации. Некоторые из этих господ, в основном из верхушки среднего класса, к настоящему времени установили открытые контакты со своими менее удачливыми коллегами, приговоренными к тюремному заключению за те или иные военные преступления. Это они делают отчасти для того, чтобы советоваться с ними по вопросам экономики и промышленности, но также и потому, что они, в конце концов, устали от лицемерия. Несправедливости системы денацификации были простыми и однообразными: городской уборщик мусора, который при Гитлере должен был стать членом партии или искать другую работу, попадал в сети денацификации, тогда как его начальники оставались безнаказанными, поскольку знали, как уладить такие дела, или получали то же взыскание, что и он – что для них, конечно, имело намного менее серьезное значение.
Еще хуже этих повседневных несправедливостей было то, что система, разработанная для того, чтобы провести ясные моральные и политические разграничения в хаосе совершенно дезорганизованного населения, реально имела тенденцию размывать даже немногие подлинные различия, пережившие нацистский режим. Активные противники режима, естественно, должны были вступать в нацистские организации для прикрытия своей противозаконной деятельности, и члены любого движения сопротивления, существовавшего в Германии, попали в ту же сеть, что и их враги, к вящей радости последних. Теоретически было возможно представить доказательства антинацистской деятельности, но убедить в этом офицеров оккупационных армий, не имевших ни малейшего представления обо всех хитросплетениях террористического режима, было очень непросто. К тому же легко можно было навредить себе в глазах властей, более всего заинтересованных в поддержании мира и порядка, слишком убедительно продемонстрировав способность к независимой мысли и бунтарству.
Сомнительно, однако, что программа денацификации удушила новые политические структуры в Германии, которые могли бы вырасти из сопротивления нацизму, прежде всего потому, что само движение сопротивления было столь маложизнеспособным. Но нет сомнения в том, что денацификация создала новую нездоровую общность интересов среди более или менее дискредитировавших себя, тех, кто по соображениям выгоды стал более или менее убежденным нацистом. Эта влиятельная группа довольно сомнительных персонажей не включает и тех, кто сохранил добропорядочность, и тех, кто каким-либо впечатляющим образом участвовал в нацистском движении. Было бы неточным в каждом из этих случаев считать, что невхождение в эту группу основывается на конкретных политических убеждениях: исключение из нее убежденных антинацистов не означает, что остальные являются убежденными нацистами, и исключение «знаменитых» нацистов не означает, что остальные ненавидят нацизм. Дело просто в том, что программа денацификации была прямой угрозой для существования и выживания, и большинство пыталось ослабить давление при помощи системы взаимных гарантий, что все это не будет приниматься слишком всерьез. Такие гарантии можно было получить только от тех, кто столь же дискредитирован, сколь и ты сам. Те, кто стали нацистами по убеждению, как и те, кто остались незапятнанными, воспринимаются как чуждый и угрожающий элемент отчасти потому, что их не запугать их прошлым, но также и потому, что само их существование – живое свидетельство того, что происходило что-то действительно серьезное, что было совершено деяние, имевшее поворотное значение. Так получилось то, что не только активные нацисты, но и убежденные антинацисты в сегодняшней Германии не имеют доступа к власти и влиятельным должностям; это наиболее значимый симптом нежелания германской интеллигенции принимать прошлое всерьез или взвалить на свои плечи бремя ответственности, завещанной ей гитлеровским режимом.
Общность интересов, существующую между более или менее скомпрометировавшими себя, еще более усиливает общее немецкое – но не только немецкое! – отношение к официальным анкетам. В отличие от англосаксов и американцев, европейцы не всегда считают, что надо говорить чистую правду, когда официальный орган задает неудобные вопросы. В странах, чьи правовые системы позволяют не свидетельствовать против себя, ложь считается небольшим грехом, если правда наносит ущерб твоим шансам. Поэтому у многих немцев имеется несоответствие между их ответами на анкеты военных властей и правдой, которую знают их соседи; так что узы двуличия укрепляются.
Однако даже не сознательная нечестность привела к провалу программы денацификации. Значительное число немцев, особенно среди наиболее образованных, явно не могут больше говорить правду, даже если этого хотят. Все те, кто стали нацистами после 1933 г., поддались некоторому давлению, которое варьировало от грубой угрозы для жизни и средств к существованию до различных карьерных соображений и размышлений о «непреодолимом потоке истории». В случае физического или экономического давления должна была оставаться возможность мысленной оговорки, циничного приобретения этой абсолютно необходимой членской карточки. Однако любопытно, что, по-видимому, очень немногие немцы были способны к такому здоровому цинизму; их беспокоила не членская карточка, но мысленная оговорка, так что они часто заканчивали добавлением необходимых убеждений к своему принудительному членству, чтобы сбросить бремя двуличия. Сегодня у них есть определенная склонность помнить только первоначальное давление, которое было вполне реальным; из их позднейшего внутреннего приспособления к нацистским доктринам они вывели полуосознаваемое заключение, что предала их именно сама их совесть – опыт, не вполне способствующий нравственному совершенствованию.
Конечно, воздействию повседневной жизни, полностью пронизанной нацистскими доктринами и практиками, было непросто сопротивляться. Положение антинациста напоминало то, в каком оказался бы нормальный человек, помещенный в сумасшедший дом, где у всех обитателей один и тот же бред: в таких обстоятельствах трудно доверять своим чувствам. К тому же имелось постоянное дополнительное напряжение, связанное с необходимостью вести себя в соответствии с правилами безумного окружения, которое, в конце концов, было единственной ощутимой реальностью, где никогда нельзя было позволить себе утратить умение ориентироваться. Это требовало постоянного осознания всего своего существования, внимания, которое никогда нельзя было ослабить до уровня автоматических реакций, используемых всеми нами для того, чтобы справляться со многими жизненными ситуациями. Отсутствие таких автоматических реакций является главным элементом в тревожности, сопровождающей неприспособленность; и, хотя, объективно говоря, неприспособленность в нацистском обществе была признаком умственной нормальности, напряженность в связи с неприспособленностью была столь же велика, как и в нормальном обществе.
Глубокая нравственная сумятица в сегодняшней Германии, выросшая из этого созданного нацистами смешения истины с реальностью, является чем-то большим, чем аморальность и имеет более глубокие причины, чем всего лишь порочность. Так называемые хорошие немцы часто столь же заблуждаются в своих нравственных суждениях относительно себя и других, как и те, кто просто отказывается признать, что Германией вообще сделано что-то плохое или необычное. Существенное число немцев, которые даже несколько чрезмерно подчеркивают вину Германии в целом и свою собственную в частности, любопытным образом путаются, когда их вынуждают четко сформулировать их мнения; они могут сделать из некоторой не имеющей отношения к делу мухи слона, в то время как нечто реально чудовищное полностью ускользает от их внимания. Одним из вариантов этой сумятицы является то, что немцы, признающие свою собственную вину, во многих случаях являются совершенно невиновными в обычном, земном смысле этого слова, тогда как те, кто в чем-то по-настоящему виновен, имеют спокойнейшую совесть. Недавно опубликованный послевоенный дневник Кнута Гамсуна, который нашел большую и восторженную читательскую аудиторию в Германии, свидетельствует на высочайшем уровне об этой ужасной невинности, превращающейся в манию преследования при столкновении с суждением сохранившего нравственность мира.
Военные дневники Эрнста Юнгера представляют собой, возможно, наилучшее и наиболее честное свидетельство гигантских трудностей, с которыми сталкивается индивид, сохраняя в целости себя и свои стандарты истины и нравственности в мире, где истина и нравственность потеряли всякое видимое выражение. Несмотря на несомненное влияние ранних работ Юнгера на некоторых представителей нацистской интеллигенции, он был активным антинацистом с первого до последнего дня режима, доказывая, что несколько старомодное представление о чести, некогда принятое в прусском офицерском корпусе, вполне достаточно для индивидуального сопротивления. Но даже это несомненное благородство в чем-то остается пустым звуком; как будто бы нравственность перестала действовать и стала пустой оболочкой, в которую индивид, который должен жить, действовать и выживать весь день, уходит на время ночи и одиночества. День и ночь становятся кошмарами друг для друга. Нравственное суждение, оставляемое для ночи, становится кошмаром страха быть обнаруженным днем; и дневная жизнь – кошмаром ужаса предательства для уцелевшей совести, действующей только ночью.
Ввиду крайне сложной нравственной ситуации в стране в конце войны, неудивительно то, что самая серьезная отдельно взятая ошибка американской политики денацификации была совершена в ходе первоначальных попыток пробудить совесть немецкого народа, указав на чудовищность преступлений, совершенных его именем и в условиях организованного соучастия. В первые дни оккупации везде появились плакаты с фотографиями ужасов Бухенвальда, показывающим на зрителя пальцем и текстом: «Ты виновен». Большинство населения узнало о том, что было сделано его именем, благодаря этим изображениям. Как они могли чувствовать себя виновными, если даже не знали об этом? Все, что они видели, это указующий перст, явно показывающий не на того, на кого надо. Из этой ошибки они сделали вывод, что весь плакат – это лживая пропаганда.
Так, по крайней мере, звучит рассказ, который то и дело приходится слышать в Германии. Эта история в определенной мере вполне верна; но она не объясняет очень бурную реакцию на эти плакаты, которая даже сегодня не вполне сошла на нет, и не объясняет приводящее в замешательство пренебрежение содержанием фотографий. И ярость, и пренебрежение порождаются скрытой правдой плаката, а не его очевидной ошибкой. Ибо, хотя немецкий народ не был осведомлен обо всех преступлениях нацистов и даже сознательно держался в неведении о том, в какой именно форме они совершались, нацисты позаботились, чтобы каждый немец знал об истинности какой-либо ужасной истории, и ему не нужно было детально знать обо всех ужасах, совершенных его именем, чтобы понять, что его сделали соучастником неописуемых преступлений.
Это грустная история, которую не делает менее грустной понимание того, что при имевшихся обстоятельствах у союзников было очень мало выбора. Единственной мыслимой альтернативой программе денацификации была бы революция – вспышка спонтанного гнева немецкого народа против всех тех, кто был известен как видный деятель нацистского режима. Каким бы неконтролируемым и кровавым ни было такое восстание, оно несомненно следовало бы лучшим стандартам справедливости, чем бумажная процедура. Но революции не случилось, причем не из-за того, что трудно организоваться на глазах у четырех иностранных армий. Весьма вероятно, что не потребовалось бы и одного солдата, немецкого или иностранного, чтобы оградить реальных виновников от гнева народа. Этого гнева не существует сегодня и, по-видимому, не существовало никогда.
Программа денацификации не только не соответствовала нравственной и политической ситуации в конце войны; она быстро пришла в конфликт с американскими планами по реконструкции и переобучению Германии. Перестройка немецкой экономики в соответствии с принципами свободного предпринимательства казалась достаточно убедительной антинацистской мерой, поскольку нацистская экономика явно была плановой, хотя она не затронула (возможно, пока не затронула) отношений собственности в стране. Но владельцы предприятий как класс были хорошими нацистами или, по меньшей мере, твердыми приверженцами режима, который предложил им, в обмен на частичный отказ от частного контроля, отдать в руки Германии всю европейскую промышленность и торговлю. В этом немецкие бизнесмены вели себя таким же образом, как и бизнесмены других стран в эпоху империализма: империалистически настроенный бизнесмен не верит в свободное предпринимательство – напротив, он рассматривает государственный интервенционизм как единственную гарантию надежной прибыли от своих широко раскинувшихся предприятий. Конечно, немецкие бизнесмены, в отличие от империалистов старого типа, не контролировали государство, но использовались партией для реализации партийных интересов. Однако это отличие, сколь решающим оно бы ни стало в долгосрочной перспективе, не проявилось в полной мере.
Эрих Фромм
Ханна Арендт
Человек преступный. Классика криминальной психологии
– И вы действительно не знали, что происходило в Аушвице. Не замечали ничего
– Нет, мы ничего не знали, Ваша Честь. Мы даже и не смотрели в ту сторону
– Так… значит, вы знали, в какую сторону не стоит смотреть.
Самыми страшными охранниками в концлагере были те, кто не выносил человеческих криков. Они злились из-за того, что узники, не понимают, какая тяжелая работа у надзирателей, и стремятся лишь усложнить неизбежное. Таких было большинство: ученые, актеры, учителя и обычные люди.
Как вели себя люди в самый темный час в истории Германии? Как рождался демон фашизма и как работает логика геноцида? На этот вопрос отвечают в своих очерках два выдающихся мыслителя, психолога и социолога XX века, на чью долю выпала страшная участь безмолвных свидетелей самой страшной трагедии XX века.
Ханна Арендт, Эрих Фромм
В самый темный час
Как рождается жестокость?
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной – заступиться за меня было уже некому.
М. Нимеллер
Ханна Арендт
Часть I. Люди в самый темный час[1 - Перевод текстов Х. Арендт: Г. Дашевского, Б. Дубина, Елены Бондал Анны Васильевой Алексея Б. Григорьева Сергея Моисеева]
Последствия нацистского правления: репортаж из Германии[2 - Опубликовано в: Commentary, 1950.]
Менее чем за шесть лет Германия разрушила нравственную структуру западного общества, совершая преступления, которые невозможно было представить, а ее победители превратили в руины зримые следы более тысячи лет германской истории. Затем в эту опустошенную землю, обрезанную границей по Одеру-Нейсе и вряд ли способную поддерживать существование своего деморализованного и истощенного населения, устремились миллионы людей из восточных провинций, с Балкан и из Восточной Европы, добавляя к общей картине катастрофы специфически современные черты физической бездомности, социальной неукорененности и политического бесправия. Можно усомниться в мудрости союзных держав, изгнавших все германоязычные меньшинства из негерманских стран, – как будто бы до этого в мире было недостаточно бездомности. Но факт состоит в том, что европейские народы, пережившие убийственную демографическую политику Германии в годы войны, были охвачены ужасом, еще большим, чем негодование, от самой мысли о том, чтобы жить вместе с немцами на одной территории.
Вид разрушенных городов Германии и знание о германских концентрационных лагерях и лагерях смерти накрыли Европу облаком меланхолии. Вместе они делают память о прошлой войне более долгой и более мучительной, а страх перед будущими войнами более реальным. Не «германская проблема», в той мере, в какой она является национальной в сообществе европейских наций, а кошмар Германии в ее физическом, нравственном и политическом разрушении стал почти столь же явным элементом в общей атмосфере европейской жизни, как и коммунистические движения.
Но нигде этот кошмар разрушения и ужаса так слабо не ощущается и так мало не обсуждается, как в самой Германии. Отсутствие отклика очевидно везде, и трудно сказать, означает ли это полубессознательный отказ поддаваться горю или подлинную неспособность чувствовать. Среди руин, немцы посылают друг другу красочные открытки, по-прежнему изображающие соборы и рыночные площади, которых более не существует. И безразличие, с которым они прохаживаются среди обломков, отражается также в отсутствии скорби по погибшим или в той апатии, с которой они реагируют или, скорее, не реагируют на участь беженцев среди них. Это общее отсутствие эмоций, по крайней мере эта внешняя бессердечность, иногда прикрытая дешевой сентиментальностью, является наиболее бросающимся в глаза открытым симптомом глубоко укорененного, упрямого и временами порочного отказа взглянуть в лицо реально случившемуся и принять его.
Безразличие и раздражение, появляющееся тогда, когда кто-то указывает на это безразличие, можно проверить на многих интеллектуальных Уровнях. Наиболее очевидным экспериментом будет прямо сказать собеседнику о том, что он заметил с самого начала разговора, а именно о том, что ты еврей. За этим обычно следует небольшая смущенная пауза, а затем идет – нет, не личный вопрос вроде «куда Вы отправились, уехав из Германии?» или знак симпатии, вроде «что произошло с Вашей семьей?», а поток историй о том, как страдали немцы (вполне достоверный, конечно, но неуместный). И если объект этого маленького эксперимента оказывается достаточно образован и умен, он далее обрисует соотношение между страданиями немцев и страданиями других, следствием чего является то, что одно уравновешивает другое, и мы вполне можем перейти к более многообещающей теме для беседы. Столь же уклончивой является обычная реакция на вид развалин. Когда какая-то открытая реакция вообще есть, она заключатся во вздохе, за которым следует наполовину риторический, наполовину тоскливый вопрос: «Почему человечество должно всегда вести войны?» Средний немец ищет причины прошлой войны не в действиях нацистского режима, а в событиях, приведших к изгнанию Адама и Евы из рая.
Такое бегство от реальности есть, конечно, также и бегство от ответственности. В этом немцы не одиноки; все народы Западной Европы сформировали привычку обвинять в своих несчастьях некую внешнюю силу: сегодня это может быть Америка и Атлантический пакт, завтра последствия нацистской оккупации и каждый день недели история в целом. Но эта позиция более выражена в Германии, где искушению винить оккупационные силы во всем трудно противостоять: в британской зоне во всем винят страх британцев перед конкуренцией со стороны Германии, во французской – французский национализм, а в американской зоне, где ситуация лучше во всех отношениях, – незнание американцами европейского менталитета. Эти жалобы совершенно естественны, и все они содержат зерно истины; но за ними кроется упрямое нежелание использовать многие возможности, предоставляемые инициативе немцев. Это, возможно, наиболее отчетливо проявляется в немецких газетах, которые выражают все свои убеждения в тщательно культивируемом стиле Schadenfreude, ехидной радости от разрушения. Это выглядит так, как будто бы немцы, лишенные возможности править миром, впали в любовь к бессилию как таковому и сейчас находят удовольствие в созерцании напряженности на международной арене и неизбежных ошибок в деле управления, независимо от возможных последствий для них самих. Страх перед русской агрессией не всегда приводит к недвусмысленно проамериканской позиции, но часто ведет к решительной нейтральности, как если бы занимать ту или иную сторону в конфликте было бы столь же абсурдным, как становиться на ту или иную сторону во время землетрясения. Осознание того, что нейтральность не изменит чьей-либо участи, в свою очередь не позволяет преобразовать это настроение в какую-то рациональную политику, и само настроение, в силу самой его иррациональности, становится еще более горьким.
Но реальность преступлений нацизма, войны и поражения, по-прежнему определяют всю ткань германской жизни, и немцы разработали массу способов для уклонения от ее шокирующего воздействия.
Реальность фабрик смерти трансформируется во всего лишь потенциальность: немцы делали только то, что способны делать другие (конечно же, со множеством иллюстрирующих примеров), или то, что другие будут делать в ближайшем будущем; поэтому любой, кто поднимает эту тему, тем самым наводит на себя подозрение в излишней уверенности в собственной правоте. В этом контексте политика союзников в Германии часто объясняется как кампания успешной мести, даже несмотря на то, что немец, предлагающий такую интерпретацию, вполне осознает, что большинство вещей, на которые он жалуется, либо являются прямым последствием проигранной войны, либо никак не зависят от воли и возможностей западных держав. Но утверждение, что существует какой-то тщательно продуманный план мести, служит утешительным аргументом, демонстрирующим равную греховность всех людей.
Реальность разрушений, окружающих каждого немца, растворяется в задумчивой, но не очень глубокой жалости к себе, легко рассеивающейся, когда уродливые маленькие одноэтажные строения, как будто бы перенесенные с главной улицы небольшого американского городка, возникают на одной из широких улиц, чтобы частично скрыть мрачность пейзажа и предложить в изобилии провинциальную элегантность в суперсовременных витринах. Во Франции и Великобритании люди испытывают большую печаль по относительно немногим памятникам культуры, разрушенным войной, чем немцы по всем своим потерянным сокровищам вместе. В Германии высказывается горделивая надежда, что страна станет «самой современной» в Европе; но это всего лишь разговоры, и некто, только что выразивший такую надежду, спустя несколько минут, при следующем повороте в разговоре, будет настаивать на том, что следующая война в Европе сделает со всеми европейскими городами то, что эта сделала с немецкими – что, конечно, возможно, но снова свидетельствует только о превращении реальности в потенциальность. Тот подтекст радости, который часто замечают в разговорах немцев о будущей войне, выражает не зловещее возрождение германских завоевательных планов, как настаивают многие наблюдатели, но скорее всего лишь еще один способ бегства от реальности: в итоговом равенстве опустошения положение в Германии потеряет свою остроту.
Но, возможно, самым поразительным и пугающим аспектом немецкого бегства от реальности является привычка обращаться с фактами так, как будто бы они всего лишь мнения. К примеру, на вопрос о том, кто начал войну, который ни в коей мере не является остродискуссионным, отвечают поразительным разнообразием мнений. Во всех иных отношениях вполне нормальная и разумная женщина из Южной Германии сказала мне, что войну начали русские нападением на Данциг; это лишь самый грубый из многих примеров. И эта трансформация фактов во мнения не ограничивается вопросами о войне; во всех сферах имеется что-то вроде джентльменского соглашения, по которому каждый имеет право на свое невежество под предлогом того, что каждый имеет право на свое мнение – и за этим стоит молчаливое допущение, что на самом деле мнения не имеют значения. Это очень серьезно, не только потому, что часто делает дискуссию столь безнадежной (обычно не носишь с собой повсюду библиотеку справочников), но прежде всего потому, что средний немец искренне верит в то, что этот общедоступный, нигилистический релятивизм относительно фактов является сущностью демократии. На самом деле, конечно, это наследие нацистского режима.
Ложь тоталитарной пропаганды отличается от обычной лжи нетоталитарных режимов в экстремальных ситуациях своим последовательным отрицанием важности фактов в целом: все факты могут измениться, и любую ложь можно сделать истиной. Нацистский отпечаток на германском сознании состоит прежде всего в обработке, благодаря которой реальность перестала быть общей суммой строгих, неизбежных фактов и стала конгломератом постоянно меняющихся событий и лозунгов, когда нечто может быть правдой сегодня и ложью завтра. Эта обработка может быть как раз одной из причин удивительно редких следов сколько-нибудь продолжающейся нацистской индоктринации и не менее удивительного отсутствия интереса к опровержению нацистских доктрин. Приходится сталкиваться не столько с индоктринацией, сколько с неспособностью или нежеланием вообще различать факт и мнение. Дискуссия о событиях гражданской войны в Испании будет вестись на том же уровне, что и дискуссия о теоретических достоинствах и недостатках демократии.
Поэтому проблемой для германских университетов является не столько повторное введение свободы преподавания, сколько возрождение честного исследования, знакомство студента с беспристрастным описанием того, что реально произошло, и устранение тех преподавателей, которые стали неспособны это сделать. Опасность для академической жизни в Германии исходит не только от тех, кто считает, что свободу слова следует обменять на диктатуру, при которой единственное необоснованное, безответственное мнение обретет монополию перед всеми остальными, но равным образом и от тех, кто игнорирует факты и реальность и утверждает свои частные мнения не обязательно в качестве единственно верных, но в качестве мнений, столь же обоснованных, как другие.
Нереальность и иррелевантность большинства этих мнений, в сравнении с неумолимой релевантностью опыта их обладателей, резко подчеркивается тем, что они сформировались до 1933 г. Есть почти инстинктивное побуждение искать убежища в мыслях и идеях, которые у тебя были до того, как случилось что-то дискредитирующее. В результате этого, хотя Германия изменилась до неузнаваемости – физически и психологически, – люди разговаривают и ведут себя так, будто с 1932 г. абсолютно ничего не произошло. Авторы немногих действительно важных книг, написанных в Германии после 1932 г. или опубликованных после 1945 г., были уже знамениты двадцать и двадцать пять лет назад. Молодое поколение кажется окаменевшим, косноязычным, не способным к последовательному мышлению.
Молодой немецкий искусствовед, ведя своих слушателей среди шедевров Берлинского музея, которые выставлялись в нескольких американских городах, указал на древнеегипетскую статую Нефертити как на скульптуру, «из-за которой весь мир завидует нам» и затем продолжил, сказав, что (а) даже американцы «не осмелились» увезти этот «символ берлинских коллекций» в Соединенные Штаты и (б) что из-за «вмешательства американцев» англичане «не решились» вывезти Нефертити в Британский музей. Две противоречивые позиции по отношению к американцам были отделены лишь одним предложением: произнесший это, будучи лишен убеждений, всего лишь автоматически подыскивал клише, из числа тех, что были в его сознании, чтобы найти подходящее к данному случаю. Клише чаще имеют старомодный националистический, а не откровенно нацистский оттенок, но в любом случае тщетно пытаться найти за ними последовательную точку зрения, пусть даже и плохую.
С падением нацизма немцы обнаружили, что перед ними снова открылись факты и реальность. Но опыт тоталитаризма лишил их всякой спонтанной речи и понимания, так что теперь, не имея никакой официальной линии, которой они могли бы руководствоваться, они оказались как будто бы безмолвны, неспособны четко сформулировать мысль и адекватно выразить свои чувства. Интеллектуальная атмосфера омрачена туманными бесцельными обобщениями, мнениями, сформировавшимися задолго до того, как на самом деле произошли события, которым они должны соответствовать; подавляет та всепроникающая общественная глупость, которой нельзя доверять в суждениях даже о самых элементарных событиях и которая, к примеру, делает возможной для газеты жаловаться, что «мир в целом опять покинул нас» – утверждение, сравнимое по своей слепой эгоцентричности с ремаркой, которую Эрнст Юнгер, как он пишет в своих военных дневниках (Strahlungen, 1949), слышал в разговоре о русских пленных, отправленных на работы в окрестностях Ганновера: «Сволочи они все. Отнимают пищу у собак». Как замечает Юнгер, «часто возникает впечатление, что германский средний класс одержим дьяволом».
Быстрота, с которой, после денежной реформы, повседневная жизнь в Германии вернулась в нормальное русло и восстановление началось во всех сферах, стала предметом разговоров в Европе. Несомненно, нигде люди не работают так много и упорно, как в Германии. Хорошо известно то, что немцы в течение многих поколений слишком сильно любили работать; и их сегодняшнее трудолюбие, на первый взгляд, подкрепляет мнение о том, что Германия по-прежнему потенциально является самой опасной европейской страной. Более того, имеется много сильных стимулов к труду. Свирепствует безработица, а профессиональные союзы занимают настолько слабые позиции, что рабочие даже не требуют компенсации за сверхурочную работу и часто отказываются сообщать о ней профсоюзам; ситуация с жильем хуже, чем может показаться по множеству новых зданий: деловые и офисные здания для крупных промышленных и страховых компаний имеют несомненный приоритет перед жилыми домами, в результате чего люди предпочитают работать по субботам и даже воскресеньям, а не оставаться дома в перенаселенных квартирах. При отстройке заново разрушенных городов, как и почти во всех сферах жизни Германии, все делается (часто крайне впечатляющим образом) для восстановления точной копии довоенной экономической и индустриальной ситуации, и очень мало делается для благополучия народных масс.
Но ни один из этих фактов не может объяснить атмосферу лихорадочной деловой активности, с одной стороны, и довольно посредственное производство – с другой. Если посмотреть глубже, немецкий подход к труду претерпел серьезное изменение. Старая добродетель стремления к совершенству в законченном продукте, независимо от того, каковы условия труда, уступила место всего лишь слепой потребности быть занятым, жадному стремлению что-то делать в любой момент дня. Видя то, как немцы с деловым видом ковыляют среди руин своей тысячелетней истории, пожимают плечами при виде разрушенных достопримечательностей или обижаются, когда им напоминают об ужасных деяниях, терзающих весь окружающий мир, приходишь к пониманию, что работа стала их главной защитой от реальности. И хочется закричать: но это реально – реальны руины, реальны ужасы прошлого, реальны мертвые, которых вы забыли. Но они – живые призраки, которых слова и аргументы, взгляд человеческих глаз и горе человеческих сердец более не трогают.
Конечно, есть много немцев, которые не соответствуют этому описанию. Прежде всего, есть Берлин, чьи жители, среди самых ужасных материальных разрушений, остались неизменными. Я не знаю, почему это так, но обычаи, манеры, речь, подход к людям даже в малейших деталях так абсолютно отличаются от всего, что видишь и с чем сталкиваешься во всей остальной Германии, что Берлин почти что другая страна. В Берлине практически нет недовольства победителями и явно никогда не было; когда первые британские ковровые бомбардировки стирали город в порошок, берлинцы, как сообщают, выползали из своих подвалов и, видя, как исчезает квартал за кварталом, замечали: «Что ж, если томми собираются продолжать в том же духе, им скоро придется привозить дома с собой». Нет смущения и чувства вины, но открытое и детальное повествование о том, что случилось с берлинскими евреями в начале войны. Важнее всего то, что в Берлине люди по-прежнему активно ненавидят Гитлера и, хотя у них больше, чем у других немцев, оснований чувствовать себя пешками в международной политике, они не считают себя бессильными, но убеждены, что их позиция что-то значит; имея даже незначительный шанс, они, по крайней мере, дорого продадут свои жизни.
Берлинцы работают столь же упорно, как и остальные в Германии, но они не столь занятые, они уделят время тому, чтобы показать развалины и несколько торжественно перечислят названия исчезнувших улиц. Этому трудно поверить, но что-то есть в утверждении берлинцев о том, что Гитлер никогда не смог их полностью подчинить. Они поразительно хорошо информированы и сохранили чувство юмора и свое характерно ироничное дружелюбие. Единственная перемена в людях – кроме того, что они стали несколько грустнее и с меньшей готовностью смеются – в том, что «красный Берлин» теперь стал неистово антикоммунистическим. Но здесь снова есть важная разница между Берлином и остальной Германией: только берлинцы берут на себя труд четко указать на сходства между Гитлером и Сталиным, и только берлинцы беспокоятся о том, чтобы сказать вам, что они, конечно, не против русского народа – чувство, еще более примечательное, если вспомнить, что случилось с берлинцами, многие из которых приветствовали Красную армию как своих подлинных освободителей в первые месяцы оккупации, и что по-прежнему происходит с ними в Восточном секторе.
Берлин является исключением, но, к несчастью, не очень важным. Ибо город герметично закрыт и мало взаимодействует с остальной частью страны, за исключением того, что везде можно встретить людей, которые из-за неопределенности покинули Берлин, перейдя в западные зоны, и теперь горько жалуются на одиночество и раздражение. Более того, имеется достаточно много «других» немцев, но они расходуют свою энергию на усилия по преодолению удушающей атмосферы, их окружающей, и остаются совершенно изолированными. В некотором отношении этим людям сегодня психологически хуже, чем в наихудшие годы гитлеровского террора. В последние годы войны действительно существовало неопределенное товарищество по оппозиции между теми, кто по той или иной причине был против режима. Вместе они надеялись на день поражения, и поскольку (кроме нескольких известных исключений) не имели реальных намерений что-либо сделать, чтобы приблизить этот день, они могли наслаждаться очарованием наполовину воображаемого бунта. Сама опасность, связанная даже с мыслью об оппозиции, создавала чувство солидарности, тем более утешительное, что оно могло выражаться лишь в таких неуловимых выражениях эмоций, как взгляд или рукопожатие, которые приобрели совершенно непропорциональное значение. Переход от этой экзальтированной близости, порождаемой опасностью, к грубому эгоизму и все ширящейся поверхностности послевоенной жизни оказывается надрывающим сердце опытом для многих людей. (Можно отметить, что сегодня в Восточной зоне, с ее полицейским режимом, к настоящему времени ненавидимым почти всем населением, существует еще более сильная атмосфера товарищества, близости и полувысказанного языка жестов, чем при нацистах, так что часто лучшим представителям Восточной зоны трудно решиться перебраться на Запад).
Денацификация основывалась на исходном допущении о том, что имеются объективные критерии не только для четкого разграничения между нацистами и ненацистами, но и для всей нацистской иерархии, в диапазоне от слегка сочувствующего до военного преступника. С самого начала вся система, основанная на длительности членства в партии, рангах и занимавшихся должностях, времени вступления и т. д., была крайне усложненной и включала почти каждого. Те очень немногие, кому удалось не влиться в жизненный поток гитлеровской Германии, не были затронуты ею, что, конечно, правильно; но к ним были присоединены некоторые совсем не похожие на них персонажи, достаточно удачливые, осторожные или влиятельные для того, чтобы избежать многих неудобств членства в партии: люди, на самом деле бывшие влиятельными в нацистской Германии, но не подвергшиеся требованию пройти через процесс денацификации. Некоторые из этих господ, в основном из верхушки среднего класса, к настоящему времени установили открытые контакты со своими менее удачливыми коллегами, приговоренными к тюремному заключению за те или иные военные преступления. Это они делают отчасти для того, чтобы советоваться с ними по вопросам экономики и промышленности, но также и потому, что они, в конце концов, устали от лицемерия. Несправедливости системы денацификации были простыми и однообразными: городской уборщик мусора, который при Гитлере должен был стать членом партии или искать другую работу, попадал в сети денацификации, тогда как его начальники оставались безнаказанными, поскольку знали, как уладить такие дела, или получали то же взыскание, что и он – что для них, конечно, имело намного менее серьезное значение.
Еще хуже этих повседневных несправедливостей было то, что система, разработанная для того, чтобы провести ясные моральные и политические разграничения в хаосе совершенно дезорганизованного населения, реально имела тенденцию размывать даже немногие подлинные различия, пережившие нацистский режим. Активные противники режима, естественно, должны были вступать в нацистские организации для прикрытия своей противозаконной деятельности, и члены любого движения сопротивления, существовавшего в Германии, попали в ту же сеть, что и их враги, к вящей радости последних. Теоретически было возможно представить доказательства антинацистской деятельности, но убедить в этом офицеров оккупационных армий, не имевших ни малейшего представления обо всех хитросплетениях террористического режима, было очень непросто. К тому же легко можно было навредить себе в глазах властей, более всего заинтересованных в поддержании мира и порядка, слишком убедительно продемонстрировав способность к независимой мысли и бунтарству.
Сомнительно, однако, что программа денацификации удушила новые политические структуры в Германии, которые могли бы вырасти из сопротивления нацизму, прежде всего потому, что само движение сопротивления было столь маложизнеспособным. Но нет сомнения в том, что денацификация создала новую нездоровую общность интересов среди более или менее дискредитировавших себя, тех, кто по соображениям выгоды стал более или менее убежденным нацистом. Эта влиятельная группа довольно сомнительных персонажей не включает и тех, кто сохранил добропорядочность, и тех, кто каким-либо впечатляющим образом участвовал в нацистском движении. Было бы неточным в каждом из этих случаев считать, что невхождение в эту группу основывается на конкретных политических убеждениях: исключение из нее убежденных антинацистов не означает, что остальные являются убежденными нацистами, и исключение «знаменитых» нацистов не означает, что остальные ненавидят нацизм. Дело просто в том, что программа денацификации была прямой угрозой для существования и выживания, и большинство пыталось ослабить давление при помощи системы взаимных гарантий, что все это не будет приниматься слишком всерьез. Такие гарантии можно было получить только от тех, кто столь же дискредитирован, сколь и ты сам. Те, кто стали нацистами по убеждению, как и те, кто остались незапятнанными, воспринимаются как чуждый и угрожающий элемент отчасти потому, что их не запугать их прошлым, но также и потому, что само их существование – живое свидетельство того, что происходило что-то действительно серьезное, что было совершено деяние, имевшее поворотное значение. Так получилось то, что не только активные нацисты, но и убежденные антинацисты в сегодняшней Германии не имеют доступа к власти и влиятельным должностям; это наиболее значимый симптом нежелания германской интеллигенции принимать прошлое всерьез или взвалить на свои плечи бремя ответственности, завещанной ей гитлеровским режимом.
Общность интересов, существующую между более или менее скомпрометировавшими себя, еще более усиливает общее немецкое – но не только немецкое! – отношение к официальным анкетам. В отличие от англосаксов и американцев, европейцы не всегда считают, что надо говорить чистую правду, когда официальный орган задает неудобные вопросы. В странах, чьи правовые системы позволяют не свидетельствовать против себя, ложь считается небольшим грехом, если правда наносит ущерб твоим шансам. Поэтому у многих немцев имеется несоответствие между их ответами на анкеты военных властей и правдой, которую знают их соседи; так что узы двуличия укрепляются.
Однако даже не сознательная нечестность привела к провалу программы денацификации. Значительное число немцев, особенно среди наиболее образованных, явно не могут больше говорить правду, даже если этого хотят. Все те, кто стали нацистами после 1933 г., поддались некоторому давлению, которое варьировало от грубой угрозы для жизни и средств к существованию до различных карьерных соображений и размышлений о «непреодолимом потоке истории». В случае физического или экономического давления должна была оставаться возможность мысленной оговорки, циничного приобретения этой абсолютно необходимой членской карточки. Однако любопытно, что, по-видимому, очень немногие немцы были способны к такому здоровому цинизму; их беспокоила не членская карточка, но мысленная оговорка, так что они часто заканчивали добавлением необходимых убеждений к своему принудительному членству, чтобы сбросить бремя двуличия. Сегодня у них есть определенная склонность помнить только первоначальное давление, которое было вполне реальным; из их позднейшего внутреннего приспособления к нацистским доктринам они вывели полуосознаваемое заключение, что предала их именно сама их совесть – опыт, не вполне способствующий нравственному совершенствованию.
Конечно, воздействию повседневной жизни, полностью пронизанной нацистскими доктринами и практиками, было непросто сопротивляться. Положение антинациста напоминало то, в каком оказался бы нормальный человек, помещенный в сумасшедший дом, где у всех обитателей один и тот же бред: в таких обстоятельствах трудно доверять своим чувствам. К тому же имелось постоянное дополнительное напряжение, связанное с необходимостью вести себя в соответствии с правилами безумного окружения, которое, в конце концов, было единственной ощутимой реальностью, где никогда нельзя было позволить себе утратить умение ориентироваться. Это требовало постоянного осознания всего своего существования, внимания, которое никогда нельзя было ослабить до уровня автоматических реакций, используемых всеми нами для того, чтобы справляться со многими жизненными ситуациями. Отсутствие таких автоматических реакций является главным элементом в тревожности, сопровождающей неприспособленность; и, хотя, объективно говоря, неприспособленность в нацистском обществе была признаком умственной нормальности, напряженность в связи с неприспособленностью была столь же велика, как и в нормальном обществе.
Глубокая нравственная сумятица в сегодняшней Германии, выросшая из этого созданного нацистами смешения истины с реальностью, является чем-то большим, чем аморальность и имеет более глубокие причины, чем всего лишь порочность. Так называемые хорошие немцы часто столь же заблуждаются в своих нравственных суждениях относительно себя и других, как и те, кто просто отказывается признать, что Германией вообще сделано что-то плохое или необычное. Существенное число немцев, которые даже несколько чрезмерно подчеркивают вину Германии в целом и свою собственную в частности, любопытным образом путаются, когда их вынуждают четко сформулировать их мнения; они могут сделать из некоторой не имеющей отношения к делу мухи слона, в то время как нечто реально чудовищное полностью ускользает от их внимания. Одним из вариантов этой сумятицы является то, что немцы, признающие свою собственную вину, во многих случаях являются совершенно невиновными в обычном, земном смысле этого слова, тогда как те, кто в чем-то по-настоящему виновен, имеют спокойнейшую совесть. Недавно опубликованный послевоенный дневник Кнута Гамсуна, который нашел большую и восторженную читательскую аудиторию в Германии, свидетельствует на высочайшем уровне об этой ужасной невинности, превращающейся в манию преследования при столкновении с суждением сохранившего нравственность мира.
Военные дневники Эрнста Юнгера представляют собой, возможно, наилучшее и наиболее честное свидетельство гигантских трудностей, с которыми сталкивается индивид, сохраняя в целости себя и свои стандарты истины и нравственности в мире, где истина и нравственность потеряли всякое видимое выражение. Несмотря на несомненное влияние ранних работ Юнгера на некоторых представителей нацистской интеллигенции, он был активным антинацистом с первого до последнего дня режима, доказывая, что несколько старомодное представление о чести, некогда принятое в прусском офицерском корпусе, вполне достаточно для индивидуального сопротивления. Но даже это несомненное благородство в чем-то остается пустым звуком; как будто бы нравственность перестала действовать и стала пустой оболочкой, в которую индивид, который должен жить, действовать и выживать весь день, уходит на время ночи и одиночества. День и ночь становятся кошмарами друг для друга. Нравственное суждение, оставляемое для ночи, становится кошмаром страха быть обнаруженным днем; и дневная жизнь – кошмаром ужаса предательства для уцелевшей совести, действующей только ночью.
Ввиду крайне сложной нравственной ситуации в стране в конце войны, неудивительно то, что самая серьезная отдельно взятая ошибка американской политики денацификации была совершена в ходе первоначальных попыток пробудить совесть немецкого народа, указав на чудовищность преступлений, совершенных его именем и в условиях организованного соучастия. В первые дни оккупации везде появились плакаты с фотографиями ужасов Бухенвальда, показывающим на зрителя пальцем и текстом: «Ты виновен». Большинство населения узнало о том, что было сделано его именем, благодаря этим изображениям. Как они могли чувствовать себя виновными, если даже не знали об этом? Все, что они видели, это указующий перст, явно показывающий не на того, на кого надо. Из этой ошибки они сделали вывод, что весь плакат – это лживая пропаганда.
Так, по крайней мере, звучит рассказ, который то и дело приходится слышать в Германии. Эта история в определенной мере вполне верна; но она не объясняет очень бурную реакцию на эти плакаты, которая даже сегодня не вполне сошла на нет, и не объясняет приводящее в замешательство пренебрежение содержанием фотографий. И ярость, и пренебрежение порождаются скрытой правдой плаката, а не его очевидной ошибкой. Ибо, хотя немецкий народ не был осведомлен обо всех преступлениях нацистов и даже сознательно держался в неведении о том, в какой именно форме они совершались, нацисты позаботились, чтобы каждый немец знал об истинности какой-либо ужасной истории, и ему не нужно было детально знать обо всех ужасах, совершенных его именем, чтобы понять, что его сделали соучастником неописуемых преступлений.
Это грустная история, которую не делает менее грустной понимание того, что при имевшихся обстоятельствах у союзников было очень мало выбора. Единственной мыслимой альтернативой программе денацификации была бы революция – вспышка спонтанного гнева немецкого народа против всех тех, кто был известен как видный деятель нацистского режима. Каким бы неконтролируемым и кровавым ни было такое восстание, оно несомненно следовало бы лучшим стандартам справедливости, чем бумажная процедура. Но революции не случилось, причем не из-за того, что трудно организоваться на глазах у четырех иностранных армий. Весьма вероятно, что не потребовалось бы и одного солдата, немецкого или иностранного, чтобы оградить реальных виновников от гнева народа. Этого гнева не существует сегодня и, по-видимому, не существовало никогда.
Программа денацификации не только не соответствовала нравственной и политической ситуации в конце войны; она быстро пришла в конфликт с американскими планами по реконструкции и переобучению Германии. Перестройка немецкой экономики в соответствии с принципами свободного предпринимательства казалась достаточно убедительной антинацистской мерой, поскольку нацистская экономика явно была плановой, хотя она не затронула (возможно, пока не затронула) отношений собственности в стране. Но владельцы предприятий как класс были хорошими нацистами или, по меньшей мере, твердыми приверженцами режима, который предложил им, в обмен на частичный отказ от частного контроля, отдать в руки Германии всю европейскую промышленность и торговлю. В этом немецкие бизнесмены вели себя таким же образом, как и бизнесмены других стран в эпоху империализма: империалистически настроенный бизнесмен не верит в свободное предпринимательство – напротив, он рассматривает государственный интервенционизм как единственную гарантию надежной прибыли от своих широко раскинувшихся предприятий. Конечно, немецкие бизнесмены, в отличие от империалистов старого типа, не контролировали государство, но использовались партией для реализации партийных интересов. Однако это отличие, сколь решающим оно бы ни стало в долгосрочной перспективе, не проявилось в полной мере.