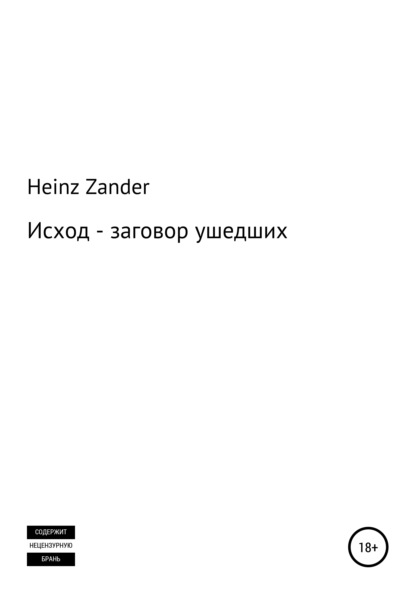По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исход – заговор ушедших. 2 часть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он думал вначале забежать в магазин, благо за углом, и позвонить в «Скорую». Но Мишку клонило в беспамятство. С каждым толчком сердца, с каждой каплей крови, с каждой секундой выходила из Мишки жизнь…
Присев, он аккуратно и бережно взял Мишку на руки. Ноги зацепились, когда он выбирался со двора. Он прошел, как утопая, по чему-то мягкому, поднимая ноги как можно выше, и, не оглядываясь, выбежал на улицу.
Он бежал вверх по улице, рыча от тяжести. Мишкина голова качалась в такт толчкам, и Мишкины глаза то открывались, то закрывались на бледневшем лице. «Мишань…Дорогой…Только не засыпай…» , – бормотал он, борясь с дыханием. Тротуар был слишком узок, и он побежал по мостовой, не слыша, как ему сзади бешено сигналят и истошно орут.
Он бежал, задыхаясь от отчаяния и, плача, не чувствуя своих рук, прижимал к себе Мишку…
Дорога пошла круто вверх. В ушах заскрежетало визгом тормозов. Он повел глазами – из остановившейся патрульной машины подбегали двое в милицейских шинелях, подхватили Мишку. «…Давай, поддержи…», – занесли Мишку в машину.
Она помчалась под рев сирены..
…Он сидел, не сняв шинели, на которой оставались следы Мишкиной крови, с опустевшей душой. По коридору ходили, бегали с криками, кого-то вели, несли. Он сидел совершенно безучастный.
Опомнился он от того, что его трясли. «…Ну, вовремя сообразил все, парень. Пять минут промедлил бы и, считай, лишился бы ты своего товарища…», – говорил молодой врач. Он едва понимая, кивал головой. Врач еще что-то сказал и подтолкнул его в плечо. Подсели двое – в форме с погонами майора, другой в штатском. «…Молодцы ребята. Задержали рецидивистов, один в бегах был. Так что обоим по медали. Мы вашему командованию все как надо доложим.» «Как он?», будто вспомнив, спросил он. «Друг твой!?» , – переспросил майор : «Все в порядке. И жить и служить будет. Вовремя ты его принес. Врач говорит, приедь мы минутой-другой позже, не удалось бы спасти. А теперь в училище ваше тебя доставим. Ты, парень натерпелся, да и сидишь ты тут часа два…» Он уже взял себя в руки : «Почему так долго?» Вмешался врач, который, оказывается, никуда не уходил : «Кровь переливали, твой друг литра полтора потерял. Но, слава богу, выкарабкался. Теперь покой, питание и крепкий здоровый сон. И раньше, чем через неделю не приходи – ему в себя надо прийти..» Который в штатском, добавил : «Если сможешь, то здесь прямо напиши обо всем, что случилось. Поподробнее. Понимаю, что нелегко, но, брат, ты себе выбрал службу, где к подобному надо привыкать и, чем скорее, тем лучше…» Он кивнул : «Да, я готов. Где?»
Его усадили за стол в кабинете главврача больницы. Хватило сорока минут, чтобы написать три страницы протокола. «…Хорошо а, главное, очень ясно пишешь. Это сейчас редкость, даже среди военных…», – похвалил его штатский, пробежав глазами написанное: «Вот только под каждой страницей, в самом низу, распишись…»
В училище, на КПП, предупрежденные звонком из горотдела милиции, его ждали. Командир роты, не говоря ни слова, провел его сразу к начальнику курса. Тот, выйдя из-за стола, отмахнувшись от его «Товарищ полков…», с усмешкой проговорил : «Ну, герой, натворил ты нам всем делов. Мало того, что сбежали, как последние разгильдяи, так еще и в хорошенькое говно попали. Товарищ твой с пробитым животом, неизвестно, что будет, а ты тут у нас герой…» Он возразил : «Курсанту Селиверстову опасность для жизни не угрожает.» Про себя он выругался за стиль произнесенной им фразы, но, скорее всего уже завершенная военная служба, видно, изменила его безвозвратно. «…Слава богу, что твой друг, которого ты увел, жив. Иначе, он был бы на твоей совести… И не стыдно самому!? Впрочем, какой тут стыд!? Дезертиров, знаешь, к чему прислоняли в военное время?», – зарычал полковник.
Он ничего не говорил, просто молча смотрел на полковника. Это молчание вывело того еще больше из себя. «Он еще и молчит! Если б парень умер, да я б тебя своими руками пристрелил!!» Командир роты, старшекурсник, сержант Белоев, крепкий осетин, его неудачливый соперник в борьбе, мрачно смотрел в окно. Полковник, так и не выплеснувший ярость, рявкнул : «Пока не пришел приказ об отчислении, будешь не только служить, как устав велит, но и сидеть бессрочно во всех нарядах – от сортира до кухни. Не посмотрим, что чемпион и книжки читаешь. Один устав будешь только читать! До конца службы! А пока – шагом марш под арест! Если только он тебе поможет… Пошел с глаз моих…» Полковник устало махнул рукой. Белоев тихо за спиной скомандовал : «Кругом…»
Опустилась тишина, и он вышел, с силой толкнув дверь. Вылетел в коридор полковник : «Он еще и дверями хлопать… Веди его под арест!! .Ишь, разошелся…Герой….»
Сидеть на гарнизонной гауптвахте ему долго не пришлось. На следущее утро, сразу после построения во дворе и до строевой подготовки, его забрали обратно в училище. На КПП его встретил уже сам начальник курса : «Давай пошел, герой. К генералу идем. Приведи себя в порядок! И чтоб никаких оправданий. Обосрался – так умей отвечать. Пшли…»
Генерал-майор Чикризов долго читал в бумагах, пока они стояли перед ним. Начальника курса генерал попросил удалиться. Как только полковник вышел, генерал поднялся с места. Постоял, вышел из-за стола. «Курсант, Вы знаете, что Вас представили к медали «За отвагу»?» Он ничему не удивился, удивил его только голос генерала, чуть высоковатый с хрипотцой.
«…Сказано – за помощь в поимке опасных преступников…», – генерал снова посмотрел на него. Он пожал плечами.
Генерал прошелся по кабинету, повернулся к нему: «По всем законам и правилам тебя надо выгнать. Даже пусть ты и геройски проявил себя. Я тебя не выгоняю лишь за то, что ты спас своего товарища. И награду ты получишь – я уже подписал приказ! – не за сраных гопников, а за спасение жизни товарища. А что будет стоять в наградном листе, меня мало интересует – да что-угодно. На тебя можно положиться, парень, и это главное…Так что иди учись и бросай гражданские вольности.» Генерал рассмеялся.
Позволил себе едва улыбнуться и он. Генерал, будто преодолевая что-то в себе, надолго замолчал и неожиданно признался : «У меня у самого нет такой медали. Я даже тебе завидую.» Потом он снова сел за стол, поднял трубку телефона : «Пусть зайдет.»
Вошел полковник…
Его не отчислили, но отношения с начальником курса испортились окончательно. Его стали сторониться многие однокурсники. Он понял, что награды становятся первой стеной, разделяющей друзей. Самым странным оказалось, что медали «За отвагу», полученные ими обоими – Мишкой и им – отдалили и их друг от друга.
Мишка долго еще провалялся в госпитале, переживая, что вот-вот его комиссуют. Приезжала Мишкина мать, немолодая, гораздо старше его матери, усталая женщина. Они вдвоем сидели в палате – мать гладила Мишку, его, снова Мишку и плакала.
Ему дали увольнительную, и он захотел показать Мишкиной матери Рязань. Но она едва одолев сотню метров, остановилась, расплакалась и сказала, что останется с сыном. А, после того как тихо поцеловала его, сказала еще : «Мишенька же у меня поздним родился. Его отец с войны пришел весь в ранах. Мишеньки, сыночка своего, только и дождался, да и умер вскорости. Тихо умер, будто от жизни освободился, во сне… А до Мишеньки еще и дочка была, сестренка Мишенькина, так и умерла, безымянная. Слабенькая очень…»
Она давилась слезами, держась за него. Он, смущенный, слушал ее причитания и долго после того не мог двинуться с места.
Он постепенно осознавал, что ранение, как и всякая слабость, делали невозможным оставаться наравне с теми, кто сумел избежать урон. Он читал и слышал о рассказах про войну – как люди возвращаются даже после самых тяжелых ранений. Но теперь он сам уже получил опыт, скорее инстинкт, несравненно куда более важный, чем получили большинство тех, кто находился бок о бок с ним.
И инстинкт этот убеждал его сильнее всего остального – раз выбывший из строя, выбывает окончательно на обочину Дороги, до конца которой дойдут немногие. Наверное, тот же инстинкт руководил и Мишкой, который все больше сторонился его. Не из-за обиды и досады, а просто моментально повзрослев.
Он был уверен, что заслужил награду по праву, что мало кто из его сослуживцев смогли бы поступить как он. Проникала в него и мысль, что он виновен во всем случившемся. Но слова генерала звучали в нем и вызывали гордость за себя.
А самым главным результатом случишегося, он считал, что пропала медлительность. Прошло то ожидание второго периода, о котором его предупреждал КаПэ. Теперь он умел моментально сосредоточиться и действовать сильно и беспощадно. Даже в отчуждении с Мишкой ему виделось благо – сентиментальность и слабость больше не владели им, и он становился безжалостной – что в них старательно вколачивали! – машиной уничтожения…
Родителям он ничего не сообщил – ни о приключении, ни о награждении. По-прежнему он звонил регулярно в Ленинград. Но теперь он заказывал разговор с центрального телефонного узла. Однажды он зашел в уличный телефон-автомат и воспользовался ротным двугривенным – двадцатикопеечной монетой с дыркой, через которую продевалась стальная проволока. По окончании разговора монета выдергивалась из монетоприемника и могла использоваться снова для «бесплатных» звонков по «межгороду».
…Отозвался отец. Даже не ответив на приветствие, недовольно сказал, что они с матерью сейчас слушают концерт по телевизору. Он подождал немного, удивленный. Отец только и спросил : «У тебя все?» Он положил, не ответив, трубку и стоял в кабинке, не обращая внимания на стук – возле будки собралась порядочная очередь. Не забыв выдернуть монету, он медленно отправился по улице. Дошел до Кремля и повернул в училище. Он сидел долго на своей койке, а потом бродил по территории училища, едва замечая кого-то.
После этого он никогда не звонил с уличного автомата.
В этот раз он заказал разговор с Ленинградом, но говорить долго не стал – о том, о сём, коротко сообщил об учёбе, старательно не касаться того, чем жили родители. Отчуждение нарастало, но оно, как ни странно, с каждым разом делало его уверенным в одиночестве.
…Родители являлись к нему в снах и чем дальше отстояло время, когда он их видел в последний раз, все яснее он различал в них черты, которые он никогда не видел, когда был рядом с ними…
…Вирзиг успел получить от дежурного рапорты патрулей – сообщалось о задержании нескольких мужчин, несших рюкзаки ‚Nike‘. Всех их отпустили после краткого опроса на улице, кроме одного, подходившего по размерам – худощавого и спортивного, на свою беду занимавшегося айкидо, так и по возрасту – между сорока и пятидесятью. Подозрительным показалось, и то, что этот мужчина явно не хотел попасться полиции. Поэтому его отвезли в ближайшее отделение, на Schlo?strasse. Вирзиг созвонился с Polizeirevier, где ему рассказали подробнее про задержанного. «С такими габаритами вполне можно было бы совершить что-то подобное, вроде позавчерашнего убийства, но вряд ли этот», – заключил Вирзиг, передав разговор с Revier Йеннингеру : «К тому же, он немец. Точнее, рожденный в Германии. Сейчас с национальностью «немец» может быть столько разных типажей, что уже впору вводить, как у наших заокеанских друзей что-то, вроде Nichtdeutscher Deutsch, ненемецкий немец.» Оба комиссара ухмыльнулись, и Вирзиг закончил : «…Еще точнее: тип не из русских по происхождению. Вряд ли его заинтересуют русские и их отношения друг с другом. Если у Вас, господин комиссар, более срочные дела, я съезжу взглянуть.» Йеннингер шумно по обыкновению вздохнул – из рассказа Вирзига следовало, что случай совершенно пустой, но надо был выполнить формальности. Он взглянул на часы – девятнадцать двенадцать. Йеннингер, раздосадованный потерей времени на пресс-конференцию и встречу с русскими, решил закончить с оформлением опроса свидетелей, чтобы было с чем идти к полицей-президенту. «Отлично, коллега! Поезжайте в управление и разберитесь сегодня с этим типом. Если что-то будет чрезывачайно интересное, сразу звоните мне. У Вас все?» Вирзиг чуть подумал и ответил : «Нет, больше ничего, кроме того, что я Вам передал. Я выезжаю.» Он встал, огромный, как и Йеннингер и им обоим стало тесно в кабинете. Йеннингер кивнул коллеге и пошел к себе.
Едва он устроился за столом и включил компьютер, как зазвонил телефон. С ним говорил комиссар из Берлина, управления Лихтенфельд. «Еще раз, простите, как Ваше имя? Ich habe akustisch nicht genau geh?rt», – извинился Йеннингер. Комиссар из Берлина, Фюрне, занимался убийством недельной давности в Берлине. Он сообщил, что информация о деле, которое было поручено Йеннингеру, в связи с чрезвычаной важностью, дошла до Берлина. Дело в том, говорил далее Фюрне, что по некоторым признакам почерки убийц очень похожи. У них есть подозреваемый или точнее, предположительно подозреваемый. Не мог бы господин комиссар Йеннингер проверить, не было ли лица, о котором идет речь, на месте преступления в пятницу!? Насколько основательны утверждения, уточнил Йеннингер у берлинского коллеги. Пока всего лишь мы основываемся на показаниях свидетеля, да на факте, что этот человек был замечен накануне убийства на месте преступления. То есть, пока речь идет, как говорится, всего лишь о предположении, оговорился берлинский коллега. «Посылайте тогда Fantombild», – согласился Йеннингер.
На фотографии был изображен мужчина неопределенных лет – от сорока до пятидесяти, или даже за пятьдесят. Вместе с фотографией пришли и полные паспортные данные, а также малоразборчивые оттиски пальцев. Йеннингер распечатал фотографию на своем принтере и сунул ее в папку с опросами свидетелей. Подумав, то же самое сделал и с отпечатками.
Берлинский коллега еще не отключился, и Йеннингер уточнил :«Судя по данным, это иностранец, приехавший из Минска Так!?..Ага!… Пока что неизвестно, пересек ли он границу!?..» Ему ответили. Йеннингер попросил оставаться возле телефона, а сам позвонил Вирзигу : «Комиссар, Вы еще не ушли?…Отлично!… Зайдите ко мне прямо сейчас и возьмите кое-что…» Через минуту вошел Вирзиг. «Комиссар!?», – Йеннингер показал ему фотографию на экране : «Задержанный имеет сходство с этим?» Вирзиг пригнулся, вглядываясь, помотал головой : «Нет. Совсем разные типажи… Да и…» – он прочитал данные на экране : «…из разных мест…» Йеннингер уточнил : «Есть подозрение, что тип с экрана не выехал из Германии, хотя виза у него должна была закончиться пару лет назад. Так что проверьте на всякий случай.» Вирзиг пометил в записной книжке, спрятал ее во внутренний карман. Легкая куртка не скрывала ремень кабуры, распираемы мощной грудью комиссара. Йеннингер поглядел на ремень, на ждавшего Вирзига и отпустил его.
«…Коллега Фюрне,», – продолжил он, убедившись, что дверь в кабинет закрылась плотно : «еще раз – я должен проверить, был ли субъект, чью физиономию Вы переслали, у нас!? Пока только как потенциальный свидетель!?… Спасибо за помощь, коллега» Он положил трубку, задумался, машинально проверил наплечную кобуру, пистолет, казавшийся игрушкой в огромных руках комиссара.
Через две минуты он выезжал в сторону Hohenzollernallee.
На место Йеннингер прибыл уже через десять минут. Кафе работало, как обычно. Никто из посторонних не смог бы сказать, что всего лишь сорок часов назад в нем произошло убийство. Но, скорее всего, в связи с начинавшейся рабочей неделей число посетителей не было чрезмерным, и Йеннингер сумел почти без помех поговорить с сотрудниками кафе. К счастью, не было и господина Миковича. Кивнув на видеокамеры на углах, Йеннингер насмешливо заметил : « «Там» увидят, что вас от работы я не отвлекал.» Он устроился на углу стойки, рядом с кассой и попросил приглашать к нему официантов по одному. Задавал он один и тот же вопрос каждому – видел ли кто человека изображенного на фотографии. Ответил утвердительно четвертый из приглашенных. Йеннингер переспросил, и официант уверенно подвел его к столу, стоявшему возле углубления в зале, из которого выходила дверь в туалет. Йеннингер припомнил видеосъемку, те кадры, на которых тщетно пытались разглядеть человека с рюкзаком Nike. «Вы уверены, что именно здесь?», – навис он горой над официантом. «Да. Я ему приносил пиво…» «Чем расплачивался?», – оживился комиссар. «Bargeld, наличными.» «Точно наличными?», – настаивал Йеннингер. «Абсолютно. А сидел он здесь, лицом к туалету…», – и официант показал на стул за пустым столом. Эта часть кафе была пуста почти вся. Йеннингер прошелся вокруг стола, кивнул официанту, стоявшему в ожидании подле него. «Wenn Sie mich noch br?uchen, bin ich f?r Sie da!», – сказал официант, удаляясь.
Йеннингер не стал задерживаться. Прямо из машины он позвонил в Берлин : «Господин комиссар, свидетели подтвердили – этот человек был здесь вечером в пятницу. Я еще только проверю по отпечаткам пальцев и сразу дам Вам знать. Хотя боюсь, что идентичности полной не достичь в связи с нечеткостью исходных отпечатков…Да, благодарю!»
Йеннингер распрощался и задумался. Несмотря на удачу, он не верил, что она продвинет следствие существенно к успешному завершению. Что-то в нем сопротивлялось слишком очевидным совпадениям…
…Ангелика Рамзайер отчасти могла быть удовлетворенной. Во-первых, Дребитц, хоть присутствовал при разговрое со свидетелем, но чувствовалось, что само дело было ему малоинтересно и он занимался им лишь из-за гарантированной оплаты без приложения особых усилий. Да они и не стоили чрезмерных затрат времени. Непосвященным, и судящим по сложной юридической жизни по сериалам и детективам, всегда кажется, что прокуратура, полиция и адвокаты бьются не на жизнь, а на смерть ради истины. В действительности, все они представляли собой стороны одного и то же механизма, непрерывная и успешная работа которого зависела от хорошо налаженного взаимодействия и согласования всех его частей.
Понятно, что защита всячески старалась оттянуть, а то и развалить обвинительные дела, но это делалось ради того, чтобы сам механизм не стоял в бездействии. Чем больше и дольше тянулись процессы, тем изощреннее приходилось работать всему механизму правосудия, тем очевиднее казалось многочисленность участников и тем гарантированне и обоснованее должны были быть расходы на содержание всех участвовавших.
В делах же, подобных тому, каким занимались Рамзайер и Фюрне, невидимая сплоченность обвинения и защиты только укреплялась. Убийства, какими бы громкими они не становились порой, были вызовом спокойствию общества и, в отличие от финансовых махинаций, приводили в движение куда менее значимые средства. И между обвинением и защитой установилась негласная поддержка усилий друг друга по снижению рисков общества.
Рамзайер в предварительной беседе с Дебритцем, договорились не касаться недоказанных пока подозрений насчет мужчины, опознанного свидетелем. Чисто формальная сложность возникла в том, как объяснить руководству, чем руководствовалась бригада по расследованию, послав фотографию во Франкфурт комиссару Йеннингеру. Ангелика не знала, как квалифицировать действия ее помощника, который, разумеется, действовал для достижения скорейшего успеха. При том, что результат оказался неожиданным и представлялся перспективным. Но процедура была нарушена. Помог Дребитц – он намеком пояснил, что, с точки зрения защиты, претензий не возникло. Тем более, что следствие могло параллельно выявить нарушение закона, не обязательно относившиеся к общему делу. Оно могло быть выделено в отдельное производство, но в случае получения доказательств связи с основным, легко вновь быть объединенным с ним. Таким образом, допускалась потеря времени на необходимые формальности, но сберегались усилия по добыче ценного следственного материала. Ведь никто не мог заранее предугадать – и это всегда принималось во внимание со снисхождением – пути, по которому придет успех.
Ангелика решила не приглашать Фюрне на встречу с адвокатом, поскольку волей-неволей приходилось идти на сделки с совестью, про которые необязательно еще было знать молодому комиссару. Он должен был сам пройти этот путь.
«Господин Дебритц, тогда, как мы условились, я не стану задавать вопросы по личности, опознанной свидетелем Штернбергом», – предложила Рамзаер : «, поскольку мы уже об этом с ним разговаривали. Точнее, мы сделаем акцент на том, что попросим просто назвать знакомых, которые проживают или с которыми он мог встречаться в Германии…» «Да,», – подхватил Дебритц : «именно, как знакомые, которые могут поделиться сведениями о том, как живут русские эмигранты в Германии. При этом прошу Вас не связывать их с подозрениями в убийстве.» Рамзайер согласно кивнула: «Мы задним числом выделим в отдельное производство, как условились…» Дебритц живо сказал : «…но я настаиваю, чтобы Вы еще раз допросили свидетеля именно в этом ключе – назвать по возможности больше знакомых, про которых он знает, что они могут быть или бывают в Германии.» «Опять столько времени потеряем.», – тяжело вздохнула фрау юстицрат : «но делать нечего – иначе целая неделя будет потеряна…Да, и вот еще : прокурор Берлина дал разрешение на осмотр квартиры убитого. Мы уже ее осмотрели. Вам протокол осмотра нужен!? » Дебритц улыбнулся, показав лошадиные зубы : «Разумеется, я Вам верю. Мне только будьте добры передать заверенную его копию, а также копию разрешения из прокуратуры.» «Секретарь передаст – у нее специально наготове папка для Вас. Мы еще раз, опять же в Вашем присутствии, спросим Вашего подопечного об угрозах, которые получил убитый, и про которые тот рассказывал в субботу утром господину Штернбергу!?» Дебритц, ухмыляясь, согласно кивал головой : «Да, естественно! Поскольку у Вас протоколо допроса по этому нет, то Вы имеете право задать все эти вопросы еще раз. Про копии я Вам уже напоминать не буду.. Если у Вас все, то у меня вопросов и, тем более претензий, к Вам нет. Мой клиент уже заждался Вас…» Дебритц еще раз улыбнулся и, кряхтя, поднялся. Ангелика слегка поддержала его под руку пока адвокат нашел нужное равновесие, и открыла перед ним дверь.
Свидетель Штернберг был расспрошен в присутствии адвоката Дебритца и обоих комиссаров. Рамзайер пригласила на всякий случай переводчика, но все-равно пришлось просидеть почти до шести вечера. Большая часть времени была потрачена на составление списка знакомых Штернберга. Фюрне едва скрывал раздражение, выслушивая постоянные уточнения написания фамилий – сначала вопросы, задаваемые фрау юстицрат, потом они же, переводимые свидетелю, затем бормотания русского. Свидетель подолгу иногда вспоминал, записывал по-русски, переводчик переписывал на немецком. Тут раздавался медлительный, чуть ворковавший голос Мани, спотыкавшейся о непривычные имена («Хотя уже давно можно ко всему привыкнуть» – иной раз думал в тоске Фюрне). Ему нечем было заняться, кроме как слушать. Но вид старательной Мани, остававшейся единственно невозмутимой среди всех присутствовавших, умиротворял, успокаивал и настраивал на работу. Снова переспрашивал переводчик и наконец еще одна позиция списка заканчивалась. Дебритц один раз извинился, когда у него зазвонил мобильник. Рамзайер поглядела на Маню, и та помогла Дебритцу выйти в коридор. Все молчали, пока он отсутствовал. Фюрне постарался незаметно поглядеть на часы. Рамзайер терпеливо ждала. Дебритц шумно вернулся, выставляя вперед колени оттого, что ступал на носках, долго устраивался за столом, и составление списка продолжилось.
Наконец список знакомых свидетеля Штернберга исчерпался. Фюрне удивило, что понадобилось почти полтора часа для того, чтобы вспомнить всего два десятка фамилий.
Снова сделали перерыв. Свидетель, понурый и заметно усталый, остался сидеть за столом– Маня налила ему кофе. Остался и переводчик, средних лет сотрудник из российских немцев. Он тихо стал говорить со свидетелем.
Дебритц вновь извинился, набирая номер в мобильнике. «Господин Дебритц,» , – остановила его Рамзайер : «мы с коллегой через десять минут вернемся.» Тот кивнул, прижимая телефон к уху.