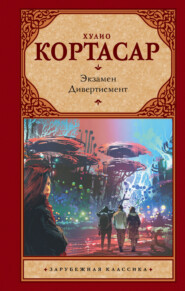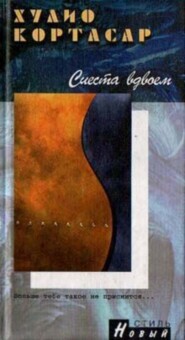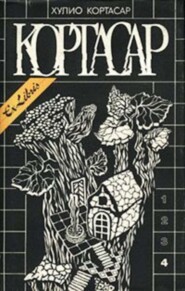По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Игра в классики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– У тебя, старик, потребность в радикальных решениях. Со мной тоже довольно долго такое творилось, а потом…
Обратно пошли с осторожностью, потому что в саду стало совсем темно и они не помнили, где там газоны, а где дорожки. Когда у самого входа они увидели под ногами начерченные мелками клетки классиков, Тревелер засмеялся тихонько, поджал одну ногу и запрыгал по клеткам. В потемках меловые линии слабо светились.
– Как-нибудь такой вот ночью, – сказал Оливейра, – я расскажу тебе, что было там. Мне это не доставит удовольствия, но, возможно, это единственный способ прикончить в конце концов собаку, если так можно выразиться.
Тревелер выпрыгнул из классиков, и в этот момент на втором этаже вспыхнули все огни. Оливейра, собиравшийся добавить что-то, увидел на мгновение, пока еще горел свет, прежде чем снова погаснуть, выступившее из темноты лицо Тревелера и удивился гримасе, исказившей его, гримасе-оскалу (которую бы определил латинским словом rictus, что значит растяжение рта, сокращение мышц губ наподобие улыбки).
– Кстати, о собаке, – сказал Тревелер, – ты обратил внимание, что фамилия главврача – Овехеро, овчар. Такие дела.
– Не это ты хотел мне сказать.
– Ты что – собираешься сетовать на мои умолчания и экивоки? – сказал Тревелер. – Конечно, ты прав, но не в этом дело. О таком не говорят. Но если хочешь попробовать… Однако у меня такое ощущение, что теперь почти поздно, че. Пицца остыла, и незачем к ней возвращаться. Лучше примемся сразу за работу, как-никак – развлечение.
Оливейра не ответил, и они поднялись в залу, где свершилась великая покупка и где администратор с Феррагуто допивали двойную порцию каньи. Оливейра присоединился к ним, а Тревелер пошел и сел на софу рядом с Талитой, которая с сонным видом читала роман. Едва была поставлена последняя подпись, как Реморино мигом убрал список и присутствовавших на церемонии больных. Тревелер заметил, что администратор погасил верхний свет, а вместо него зажег настольную лампу; все сразу стало мягким и зеленоватым, и все заговорили тихими, довольными голосами. Он слышал, как строились планы насчет того, чтобы поехать в центр, в ресторанчик, поесть потрохов по-женевски. Талита закрыла книгу и поглядела на него сонными глазами. Он провел рукою по ее волосам, и ему стало лучше. Что бы там ни было, но мысль есть потроха в такой час и в такую жару была просто-напросто безумной.
(—69) (#AutBody_0fb_69)
52
Ибо, по сути дела, он ничего не мог рассказать Тревелеру. Он пробовал потянуть конец, и из клубка вытягивалась длинная нить, метры за метрами, просто метрометрия какая-то, словометрия, анатометрия, патриометрия, болеметрия, дурнометрия, тошнометрия, все, что угодно, но только не клубок. Следовало намекнуть Тревелеру, что все рассказанное надо понимать не в прямом смысле (а в каком же?), но что это не образ и не аллегория. Непреодолимое различие, разность уровней, и ни при чем тут были ум или информированность каждого из них, одно дело играть с Тревелером во всевозможные забавные игры или спорить о Джоне Донне – это происходило как бы на общей для обоих почве, – и совсем другое – чувствовать себя вроде обезьяны среди людей и хотеть быть обезьяной в силу доводов, которых не могла объяснить и сама обезьяна, как раз потому, что ничего разумного в этих доводах не было и сила их состояла именно в этом, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Первые ночи в клинике были спокойными; персонал, который должен был уйти, еще выполнял свои обязанности, а новенькие пока только смотрели, набирались опыта и сходились в аптеке у Талиты, а та, белоснежно-белая, в волнении заново открывала для себя эмульсии и барбитураты. Проблема состояла в том, чтобы обуздать немного Куку Феррагуто, которая прочно уселась в администраторское кресло и, похоже, была полна решимости установить в клинике свои жесткие правила, так что сам Дир почтительно выслушивал new deal [[215 - Новый курс (англ.).]], излагавшийся в таких терминах, как гигиена, бог-отчизна-и-очаг, серые пижамы и липовый чай. То и дело заглядывая в аптеку, Кука держала-ухо-востро, прислушиваясь к профессиональным разговорам, которые, как ей казалось, должен был вести новый персонал. Талита заслуживала определенного доверия, у девочки был диплом, он висел тут же, на стенке, а вот ее муж и ее дружок вызывали подозрение. Беда для Куки заключалась в том, что они всегда были ей чертовски симпатичны, а потому приходилось по-корнелевски сражаться с чувством долга и платоническими пристрастиями в то время, как Феррагуто вникал в дело и постепенно приучался к тому, что теперь вместо шпагоглотателей у него – шизофреники, а вместо фуража – ампулы с инсулином. Врачи, в количестве трех человек, приходили по утрам и не слишком мешали. Дежурный врач, постоянно находившийся в клинике, страстный любитель покера, успел подружиться с Оливейрой и Тревелером, и в его кабинете на третьем этаже выстраивались такие флеш-рояли, а на кону, переходившем из рук в руки, накапливалось от десяти до ста монет, voglio dire! [[216 - Здесь: скажу вам! (ит.)]] Больные чувствуют себя лучше, спасибо.
(—89) (#AutBody_0fb_89)
53
И в один прекрасный четверг, часов в десять – оп-ля! – все по местам. К вечеру ушел старый персонал, хлопая дверями на прощание (Феррагуто и Кука только усмехались, твердо решив никому не платить никаких сверхурочных), а депутация больных провожала уходящих криками: «Конец собаке, конец собаке!», что, однако, не помешало им представить Феррагуто новое письмо с пятью подписями, в котором они требовали шоколада, вечерних газет и смерти пса. Новенькие остались одни, испытывая неуверенность, но Реморино, взяв на себя роль главного знатока, говорил, что все будет великолепно. Радиостанция «Мир» поддерживала спортивный дух буэнос-айресцев сообщениями о волне небывалой жары. Все рекорды побиты, можно было патриотически потеть в свое удовольствие, и Реморино уже подобрал в углах четыре или пять сброшенных пижам. Им с Оливейрой удалось убедить владельцев пижам надеть снова хотя бы штаны. Прежде чем засесть за покер с Феррагуто и Тревелером, доктор Овехеро дал разрешение Талите безо всякой боязни разнести лимонад всем, кроме номера шестого, восемнадцатого и тридцать первого. Тридцать первый в подобном случае всегда начинал плакать и Талите приходилось давать ему двойную порцию лимонада. Пора было начинать действовать motu proprio [[217 - По своему усмотрению (лат.)]], смерть собаке.
Но можно ли было зажить этой жизнью спокойно и не удивляться на каждом шагу? Почти без подготовки, потому что учебник психиатрии, приобретенный в лавке Томаса Пардо, не сослужил для Талиты и Тревелера пропедевтической службы. Без всякого опыта, без настоящего желания, вообще без ничего: и впрямь, человек – это животное, которое привыкает даже к тому, что не в состоянии привыкнуть. Взять, к примеру, морг: Тревелер с Оливейрой понятия о нем не имели, и нате вам, во вторник ночью Реморино по приказу доктора Овехеро пришел за ними. Оказывается, на втором этаже только что умер пятьдесят шестой номер, что, впрочем, ожидалось, и надо было, во-первых, помочь санитару, а во-вторых, отвлечь Тридцать первого, который был телепатом, а потому имел дурные предчувствия. Реморино объяснил им, что прежний персонал постоянно боролся за свои права и работал строго по распорядку с тех пор, как узнал про закон об оплате за сверхурочную работу, но теперь они остались одни, и, нечего делать, надо вгрызаться в работу, заодно и хорошая практика.
Как странно, что в инвентарном списке, зачитанном в день великой покупки, не значится морг. Как-никак, че, где-то надо держать останки, пока не явится семья или муниципалитет не пришлет фургон. Может, в том списке он был назван камерой хранения, или транзитным залом, или холодильным устройством – словом, каким-нибудь эвфемизмом, а может, просто шел как один из восьми холодильников. Что поделаешь, слово «морг» не смотрится в официальном документе, считал Реморино. А зачем восемь холодильников? Ну как же… Требование государственного департамента санитарии и гигиены, или прежний администратор просто приобрел их по случаю, но, как бы то ни было, это неплохо, бывает такой наплыв, как в тот год, когда выиграл «Сан-Лоренсо» (какой это год был? Реморино не помнил, но это был год, когда «Сан-Лоренсо» обыграл всех), – вдруг сразу четверо больных отдали концы, тот еще урожай, я вам скажу. Такое, конечно, редко бывает, Пятьдесят шестой-то давно дышал на ладан, с ним все ясно. Здесь говорите потише, чтобы не разбудить контингент. А ты, что ты шатаешься по коридору в такую поздноту, ну-ка, марш в постель, живо. Он славный парень, смотрите, как он старается. Только ночью его все время в коридор тянет, и не думайте, что тут дело в женщинах, с этим у нас полный порядок. Тянет его потому, что он сумасшедший, вот и все, как любой из нас, к слову сказать.
Оливейра с Тревелером решили, что Реморино – просто чудо. Очень развитый, сразу видно. Они помогли санитару, который был – когда не выполнял санитарских обязанностей – просто Седьмым номером (хорошо поддается лечению, так что его можно привлекать к нетяжелой работе). Каталку спустили на грузовом лифте, в кабине было тесно, и все ощутили совсем близко недвижно горбившегося под простыней Пятьдесят шестого. Семья приедет за ним в понедельник, они из Трелева, бедные люди. А Двадцать второго до сих пор не забрали, это уж – дальше некуда. Денежные люди, полагал Реморино, все такие: хуже не бывает, чистые стервятники, никаких чувств. И муниципалитет позволяет, чтобы Двадцать второй…? Да, был тут судебный эксперт, ходил. А дни-то идут, две недели пролетело, вот и видите сами: хорошо, что много холодильников. Этот да тот, вот их уже и три, потому что там еще и Второй номер, эта из основательниц. У Второго нет семьи, но похоронная контора обещала прислать фургон в течение сорока восьми часов. Реморино посчитал и засмеялся – прошло с тех пор уже триста шесть часов, почти триста семь. А основательницей он назвал ее потому, что старушка появилась тут давным-давно, еще до доктора, который продал ее дону Феррагуто. А дон Феррагуто, кажется, ужасно симпатичный, а? Подумать только, у него был цирк, потрясающе.
Седьмой открыл лифт, выкатил каталку и ринулся по коридору; это было ни к чему, Реморино осадил его и пошел впереди с ключом – открывать металлическую дверь, а Тревелер с Оливейрой между тем одновременно вытащили сигареты, ох уж эти рефлексы… Им бы лучше захватить с собой пальто, потому что о волне небывалой жары в морг не сообщили, в остальном же он походил на склад напитков: длинный стол у одной стены, а у другой – холодильник до самого потолка.
– Достань-ка пиво, – приказал Реморино. – Да, вы ведь не знаете. Иногда режим здесь чересчур… Лучше не говорить про это дону Феррагуто, словом, мы здесь, случается, выпьем пивка, только и всего.
Седьмой подошел к одной из дверей холодильника и достал бутылку. Пока Реморино открывал ее специальным приспособлением на перочинном ноже, Тревелер взглянул на Оливейру, но первым заговорил Седьмой.
– Может, лучше его сначала положить?
– Ты… – начал Реморино и остановился с раскрытым перочинным ножом в руках. – Ты прав, парень. Давай. Вот эта свободна.
– Нет, – сказал Седьмой.
– Ты мне будешь говорить?
– Простите меня и извините, – сказал Седьмой. – Свободна вон та.
Реморино уставился на него, но Седьмой улыбнулся ему и, сделав как бы приветственный жест рукой, подошел к дверце, о которой шла речь, и открыл ее. Из камеры хлынул яркий свет, словно от северного сияния или другого холодного светила; посреди сияния вырисовывались довольно крупные ступни ног.
– Двадцать второй, – сказал Седьмой. – Что я говорил? Я их всех по ногам узнаю. А вот здесь Вторая. На что спорим? Смотрите, если не верите. Убедились?
Ну вот, значит, этого мы заложим сюда, она свободна. Помогите мне, осторожней, сперва заносим голову.
– Он у нас чемпион в этих делах, – сказал Реморино тихонько Тревелеру. – По правде говоря, я не знаю, почему Овехеро держит его тут. Стаканов нет, че, так что пососем из горлышка.
Прежде чем взяться за бутылку, Тревелер глотнул дым, глубоко, до самых колен. Бутылка пошла по кругу, и первый сальный анекдотец рассказал Реморино.
(—66) (#AutBody_0fb_66)
54
Из окна своей комнаты на втором этаже Оливейра видел дворик с фонтаном, струйку воды, начерченные на земле классики, по которым прыгал Восьмой номер, три дерева, отбрасывающие тень на клумбу с мальвами и живую изгородь, и высокий-высокий забор, скрывавший все, что происходило на улице. Восьмой прыгал по клеточкам почти целый день и оставался непобедимым, Четвертый с Девятнадцатым хотели отбить у него Небо, но тщетно, нога у Восьмого была как снайперское орудие, огонь по клетке! – и камешек всегда ложился наилучшим образом, просто необыкновенно. Ночами клетки чуть светились, и Оливейре нравилось смотреть на них из окна. Восьмой, у себя в постели, поддавшись действию кубического сантиметра снотворного, спит теперь, наверное, как цапля, мысленно поджав одну ногу, а другой подбивая камешек скупым и безошибочным движением в борьбе за Небо, которое скорее всего разочарует, едва он его захватит. «Ты невыносимый романтик, – думал про себя Оливейра, потягивая мате. – А розовая пижама на что?» На столе лежало письмецо от безутешной Хекрептен: что же это такое, выпускают тебя только по субботам, это не жизнь, дорогой, я не согласна так долго оставаться одна, видел бы ты нашу комнатку. Поставив мате на подоконник, Оливейра достал из кармана ручку и взялся писать ответ. Во-первых, есть телефон (далее следовал номер); во-вторых, они очень заняты, но реорганизация продлится не более двух недель, и тогда они смогут видеться по средам, субботам и воскресеньям. И в-третьих, у него кончается трава. «Пишу как из заключения», – подумал он, ставя подпись. Было почти одиннадцать, скоро ему сменять Тревелера, который дежурит на третьем этаже. Заварив свежий мате, он перечитал письмо и заклеил конверт. Он предпочитал писать, телефон в руках у Хекрептен становился ненадежным инструментом, сколько не объясняй, она все равно не понимала.
В левом крыле погасло окно аптеки. Талита вышла во двор, заперла дверь на ключ (она прекрасно была видна под усыпанными звездами горячим небом) и нерешительно подошла к фонтану. Оливейра тихонько свистнул ей, но Талита продолжала смотреть на фонтан и даже поднесла палец к, струе, попробовала воду. Потом прошла через двор, прямо по клеточкам классиков и исчезла под окном у Оливейры. Все это немного походило на картины Леоноры Каррингтон: ночь, а в ней Талита, ступает по клеткам, не замечая их, струйка воды в фонтане. Когда фигура в розовом выступила откуда-то и медленно приблизилась к клеточкам, не решаясь наступить на них, Оливейра понял, что все приходит в порядок: вот сейчас фигура в розовом непременно выберет из множества камешков, сложенных Восьмым у клумбы, один плоский и Мага, потому что это была Мага, подожмет левую ногу и носком туфли направит камешек в первую клетку. Сверху он видел волосы Маги, покат ее плеч и как она, чуть вскидывая руки, чтобы удержать равновесие, мелкими шажками входила в первую клетку и подталкивала камешек ко второй (Оливейра даже почувствовал дрожь оттого, что камешек чуть было не выскочил за клетку, но неровность плит удержала его точно у черты), потом она легко впрыгнула во вторую клетку и застыла на секунду, как розовый фламинго, в полутьме, прежде чем тихонько приблизить носок к камешку, прикидывая расстояние до третьей клетки.
Талита подняла голову и увидела Оливейру в окне. Она не сразу узнала его и стояла, балансируя, на одной ноге, так что казалось, будто она держится руками за воздух. Разочарованно и насмешливо оглядев ее, Оливейра понял свою ошибку, увидел, что розовое вовсе не розовое, что на Талите блузка пепельного цвета, а юбка скорее всего белая. Все сразу разъяснилось; Талита вошла в дом, а потом опять вышла, привлеченная клеточками классиков, и этого секундного разрыва между ее уходом и новым появлением оказалось достаточно, чтобы он ошибся, как и той давней ночью, на носу корабля, и, может статься, таких ночей было немало. Он еле ответил на приветственный жест Талиты, которая снова опустила голову и сосредоточилась, примериваясь; камешек вылетел из второй клетки, влетел в третью, встал на ребро, покатился и выскочил за черту, на одну или две плитки в сторону от классиков.
– Тебе надо потренироваться, – сказал Оливейра, – если хочешь выиграть у Восьмого.
– Что ты тут делаешь?
– Жарко. В половине двенадцатого мне на дежурство. Письмо писал.
– А, – сказала Талита. – Какая ночь.
– Волшебная, – сказал Оливейра, а Талита коротко засмеялась и исчезла за дверью. Оливейра слышал, как она шла по лестнице, потом мимо его двери (а может быть, она поднималась на лифте), добралась до третьего этажа. «Надо признать, они здорово похожи, – подумал он. – Это, да и я полный идиот – вот и объяснение». Он все смотрел во двор, на клетки классиков, будто желая окончательно убедиться. В одиннадцать десять пришел Тревелер и передал ему дежурство. Пятый номер довольно беспокоен, сообщить Овехеро, если ему станет хуже, остальные спят.
На третьем этаже было тихо, даже Пятый утихомирился. Пятый взял предложенную Оливейрой сигарету, выкурил ее старательно и объяснил, что заговор издателей помешал публикации его замечательного труда о кометах, но он непременно подарит Оливейре один экземпляр с дарственной надписью. Оливейра оставил дверь чуть приоткрытой, поскольку знал, на что тот горазд, и стал ходить по коридору, заглядывая в глазки, проделанные в дверях взаимными усилиями предусмотрительного Овехеро, администратора и фирмы «Либер и Финкель»: каждая комната – миниатюра Ван Эйка, за исключением четырнадцатого номера, Четырнадцатая, как всегда, заклеила глазок маркой. В двенадцать часов пришел Реморино с несколькими бутылками джина, наполовину опробованными; поговорили о лошадях и о футболе, а потом Реморино ушел вниз поспать немного. Пятый совсем успокоился, в тишине полутемного коридора жара давила. Мысль, что его могут попытаться убить, до того момента, похоже, не приходила в голову Оливейре, но тут достаточно оказалось лишь очертания этой мысли, промелька, – даже не мысль, а просто озноб, – и он уже понял, что мысль эта не новая и родилась не в этом коридоре с запертыми дверями и маячившей в глубине тенью грузового лифта. Возможно, он предчувствовал ее в полдень, в магазине Рока или в туннеле метро, в пять часов пополудни. Или того раньше – в Европе, как-нибудь ночью, когда шатался по пустырям и закоулкам, где выпотрошенной консервной банки вполне хватало, чтобы перерезать глотку, стоило той и другой сойтись на узкой дорожке. Подойдя к лифту, он посмотрел вниз, в черный провал шахты, и подумал о Флегрейских полях и снова о путях и прорывах. В цирке было наоборот: дыра была вверху, она была выходом, соединяющим с открытым простором, фигурой завершения, а тут он стоял на краю бездны, дыры Элевсина, и клиника, дышавшая жаркими испарениями, лишь подчеркивала мрачный смысл этого перехода, пары сульфатаров, спуск вниз. Обернувшись, он глянул в прямизну коридора, уходящего вглубь, – слабые лампочки фиолетово светились над белыми дверями. И тут он поступил совсем глупо: подогнув левую ногу, запрыгал мелкими прыжками на одной ноге по коридору, к первой двери, а когда опустил левую ногу на зеленый линолеум, то почувствовал, что весь в поту. При каждом прыжке он сквозь зубы повторял имя Ману. «Трудно поверить, но я предчувствовал этот переход», – подумал он, прислоняясь к стене. Невозможно вычленить первую часть какой-либо мысли, чтобы она не показалась смешной. Переход, к примеру. Трудно поверить, что он его предчувствовал. Ждал перехода. Он не старался больше держаться на ногах и сполз по стене на пол, внимательно оглядел линолеум. Переход к чему? И почему клиника должна была служить переходом? В каких храмах нуждался он, в каких заступниках, в каких психических или нравственных гормонах и как они должны были воздействовать на него – изнутри или извне?
Когда пришла Талита со стаканом лимонада (ох уж эти ее идеи вроде пресловутых благотворительных намерений облагодетельствовать рабочих при помощи капли молока), он тут же выложил ей все. Талита ничему не удивилась: сев напротив, она смотрела, как он залпом выпил стакан.
– Видела бы нас Кука, на полу, – ей бы плохо стало. Дежуришь, называется. Все спят?
– Да, полагаю. Четырнадцатая заклеила глазок, поди узнай, что она там делает. А у меня рука не поднялась открыть ее дверь, че.
– Ты – сама деликатность, – сказала Талита. – Но мне-то можно, женщина к женщине…
Она вернулась почти тут же и на этот раз, прислонившись к стене, встала рядом с Оливейрой.
– Спит невинным сном. А бедного Ману мучил страшный кошмар. Всегда так: он потом заснет как ни в чем не бывало, а я – не могу и в конце концов встаю с постели. Я подумала, что тебе, наверное, жарко, тебе или Реморино, вот и приготовила вам лимонад. Ну и лето, да еще эти стены, совсем не пропускают воздуха. Значит, я похожа на ту женщину?
– Немного, да, – сказал Оливейра, – но это ничего не значит. Интересно другое: почему я видел тебя в розовом?
– Влияние обстановки, нагляделся тут на розовых.
Обратно пошли с осторожностью, потому что в саду стало совсем темно и они не помнили, где там газоны, а где дорожки. Когда у самого входа они увидели под ногами начерченные мелками клетки классиков, Тревелер засмеялся тихонько, поджал одну ногу и запрыгал по клеткам. В потемках меловые линии слабо светились.
– Как-нибудь такой вот ночью, – сказал Оливейра, – я расскажу тебе, что было там. Мне это не доставит удовольствия, но, возможно, это единственный способ прикончить в конце концов собаку, если так можно выразиться.
Тревелер выпрыгнул из классиков, и в этот момент на втором этаже вспыхнули все огни. Оливейра, собиравшийся добавить что-то, увидел на мгновение, пока еще горел свет, прежде чем снова погаснуть, выступившее из темноты лицо Тревелера и удивился гримасе, исказившей его, гримасе-оскалу (которую бы определил латинским словом rictus, что значит растяжение рта, сокращение мышц губ наподобие улыбки).
– Кстати, о собаке, – сказал Тревелер, – ты обратил внимание, что фамилия главврача – Овехеро, овчар. Такие дела.
– Не это ты хотел мне сказать.
– Ты что – собираешься сетовать на мои умолчания и экивоки? – сказал Тревелер. – Конечно, ты прав, но не в этом дело. О таком не говорят. Но если хочешь попробовать… Однако у меня такое ощущение, что теперь почти поздно, че. Пицца остыла, и незачем к ней возвращаться. Лучше примемся сразу за работу, как-никак – развлечение.
Оливейра не ответил, и они поднялись в залу, где свершилась великая покупка и где администратор с Феррагуто допивали двойную порцию каньи. Оливейра присоединился к ним, а Тревелер пошел и сел на софу рядом с Талитой, которая с сонным видом читала роман. Едва была поставлена последняя подпись, как Реморино мигом убрал список и присутствовавших на церемонии больных. Тревелер заметил, что администратор погасил верхний свет, а вместо него зажег настольную лампу; все сразу стало мягким и зеленоватым, и все заговорили тихими, довольными голосами. Он слышал, как строились планы насчет того, чтобы поехать в центр, в ресторанчик, поесть потрохов по-женевски. Талита закрыла книгу и поглядела на него сонными глазами. Он провел рукою по ее волосам, и ему стало лучше. Что бы там ни было, но мысль есть потроха в такой час и в такую жару была просто-напросто безумной.
(—69) (#AutBody_0fb_69)
52
Ибо, по сути дела, он ничего не мог рассказать Тревелеру. Он пробовал потянуть конец, и из клубка вытягивалась длинная нить, метры за метрами, просто метрометрия какая-то, словометрия, анатометрия, патриометрия, болеметрия, дурнометрия, тошнометрия, все, что угодно, но только не клубок. Следовало намекнуть Тревелеру, что все рассказанное надо понимать не в прямом смысле (а в каком же?), но что это не образ и не аллегория. Непреодолимое различие, разность уровней, и ни при чем тут были ум или информированность каждого из них, одно дело играть с Тревелером во всевозможные забавные игры или спорить о Джоне Донне – это происходило как бы на общей для обоих почве, – и совсем другое – чувствовать себя вроде обезьяны среди людей и хотеть быть обезьяной в силу доводов, которых не могла объяснить и сама обезьяна, как раз потому, что ничего разумного в этих доводах не было и сила их состояла именно в этом, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Первые ночи в клинике были спокойными; персонал, который должен был уйти, еще выполнял свои обязанности, а новенькие пока только смотрели, набирались опыта и сходились в аптеке у Талиты, а та, белоснежно-белая, в волнении заново открывала для себя эмульсии и барбитураты. Проблема состояла в том, чтобы обуздать немного Куку Феррагуто, которая прочно уселась в администраторское кресло и, похоже, была полна решимости установить в клинике свои жесткие правила, так что сам Дир почтительно выслушивал new deal [[215 - Новый курс (англ.).]], излагавшийся в таких терминах, как гигиена, бог-отчизна-и-очаг, серые пижамы и липовый чай. То и дело заглядывая в аптеку, Кука держала-ухо-востро, прислушиваясь к профессиональным разговорам, которые, как ей казалось, должен был вести новый персонал. Талита заслуживала определенного доверия, у девочки был диплом, он висел тут же, на стенке, а вот ее муж и ее дружок вызывали подозрение. Беда для Куки заключалась в том, что они всегда были ей чертовски симпатичны, а потому приходилось по-корнелевски сражаться с чувством долга и платоническими пристрастиями в то время, как Феррагуто вникал в дело и постепенно приучался к тому, что теперь вместо шпагоглотателей у него – шизофреники, а вместо фуража – ампулы с инсулином. Врачи, в количестве трех человек, приходили по утрам и не слишком мешали. Дежурный врач, постоянно находившийся в клинике, страстный любитель покера, успел подружиться с Оливейрой и Тревелером, и в его кабинете на третьем этаже выстраивались такие флеш-рояли, а на кону, переходившем из рук в руки, накапливалось от десяти до ста монет, voglio dire! [[216 - Здесь: скажу вам! (ит.)]] Больные чувствуют себя лучше, спасибо.
(—89) (#AutBody_0fb_89)
53
И в один прекрасный четверг, часов в десять – оп-ля! – все по местам. К вечеру ушел старый персонал, хлопая дверями на прощание (Феррагуто и Кука только усмехались, твердо решив никому не платить никаких сверхурочных), а депутация больных провожала уходящих криками: «Конец собаке, конец собаке!», что, однако, не помешало им представить Феррагуто новое письмо с пятью подписями, в котором они требовали шоколада, вечерних газет и смерти пса. Новенькие остались одни, испытывая неуверенность, но Реморино, взяв на себя роль главного знатока, говорил, что все будет великолепно. Радиостанция «Мир» поддерживала спортивный дух буэнос-айресцев сообщениями о волне небывалой жары. Все рекорды побиты, можно было патриотически потеть в свое удовольствие, и Реморино уже подобрал в углах четыре или пять сброшенных пижам. Им с Оливейрой удалось убедить владельцев пижам надеть снова хотя бы штаны. Прежде чем засесть за покер с Феррагуто и Тревелером, доктор Овехеро дал разрешение Талите безо всякой боязни разнести лимонад всем, кроме номера шестого, восемнадцатого и тридцать первого. Тридцать первый в подобном случае всегда начинал плакать и Талите приходилось давать ему двойную порцию лимонада. Пора было начинать действовать motu proprio [[217 - По своему усмотрению (лат.)]], смерть собаке.
Но можно ли было зажить этой жизнью спокойно и не удивляться на каждом шагу? Почти без подготовки, потому что учебник психиатрии, приобретенный в лавке Томаса Пардо, не сослужил для Талиты и Тревелера пропедевтической службы. Без всякого опыта, без настоящего желания, вообще без ничего: и впрямь, человек – это животное, которое привыкает даже к тому, что не в состоянии привыкнуть. Взять, к примеру, морг: Тревелер с Оливейрой понятия о нем не имели, и нате вам, во вторник ночью Реморино по приказу доктора Овехеро пришел за ними. Оказывается, на втором этаже только что умер пятьдесят шестой номер, что, впрочем, ожидалось, и надо было, во-первых, помочь санитару, а во-вторых, отвлечь Тридцать первого, который был телепатом, а потому имел дурные предчувствия. Реморино объяснил им, что прежний персонал постоянно боролся за свои права и работал строго по распорядку с тех пор, как узнал про закон об оплате за сверхурочную работу, но теперь они остались одни, и, нечего делать, надо вгрызаться в работу, заодно и хорошая практика.
Как странно, что в инвентарном списке, зачитанном в день великой покупки, не значится морг. Как-никак, че, где-то надо держать останки, пока не явится семья или муниципалитет не пришлет фургон. Может, в том списке он был назван камерой хранения, или транзитным залом, или холодильным устройством – словом, каким-нибудь эвфемизмом, а может, просто шел как один из восьми холодильников. Что поделаешь, слово «морг» не смотрится в официальном документе, считал Реморино. А зачем восемь холодильников? Ну как же… Требование государственного департамента санитарии и гигиены, или прежний администратор просто приобрел их по случаю, но, как бы то ни было, это неплохо, бывает такой наплыв, как в тот год, когда выиграл «Сан-Лоренсо» (какой это год был? Реморино не помнил, но это был год, когда «Сан-Лоренсо» обыграл всех), – вдруг сразу четверо больных отдали концы, тот еще урожай, я вам скажу. Такое, конечно, редко бывает, Пятьдесят шестой-то давно дышал на ладан, с ним все ясно. Здесь говорите потише, чтобы не разбудить контингент. А ты, что ты шатаешься по коридору в такую поздноту, ну-ка, марш в постель, живо. Он славный парень, смотрите, как он старается. Только ночью его все время в коридор тянет, и не думайте, что тут дело в женщинах, с этим у нас полный порядок. Тянет его потому, что он сумасшедший, вот и все, как любой из нас, к слову сказать.
Оливейра с Тревелером решили, что Реморино – просто чудо. Очень развитый, сразу видно. Они помогли санитару, который был – когда не выполнял санитарских обязанностей – просто Седьмым номером (хорошо поддается лечению, так что его можно привлекать к нетяжелой работе). Каталку спустили на грузовом лифте, в кабине было тесно, и все ощутили совсем близко недвижно горбившегося под простыней Пятьдесят шестого. Семья приедет за ним в понедельник, они из Трелева, бедные люди. А Двадцать второго до сих пор не забрали, это уж – дальше некуда. Денежные люди, полагал Реморино, все такие: хуже не бывает, чистые стервятники, никаких чувств. И муниципалитет позволяет, чтобы Двадцать второй…? Да, был тут судебный эксперт, ходил. А дни-то идут, две недели пролетело, вот и видите сами: хорошо, что много холодильников. Этот да тот, вот их уже и три, потому что там еще и Второй номер, эта из основательниц. У Второго нет семьи, но похоронная контора обещала прислать фургон в течение сорока восьми часов. Реморино посчитал и засмеялся – прошло с тех пор уже триста шесть часов, почти триста семь. А основательницей он назвал ее потому, что старушка появилась тут давным-давно, еще до доктора, который продал ее дону Феррагуто. А дон Феррагуто, кажется, ужасно симпатичный, а? Подумать только, у него был цирк, потрясающе.
Седьмой открыл лифт, выкатил каталку и ринулся по коридору; это было ни к чему, Реморино осадил его и пошел впереди с ключом – открывать металлическую дверь, а Тревелер с Оливейрой между тем одновременно вытащили сигареты, ох уж эти рефлексы… Им бы лучше захватить с собой пальто, потому что о волне небывалой жары в морг не сообщили, в остальном же он походил на склад напитков: длинный стол у одной стены, а у другой – холодильник до самого потолка.
– Достань-ка пиво, – приказал Реморино. – Да, вы ведь не знаете. Иногда режим здесь чересчур… Лучше не говорить про это дону Феррагуто, словом, мы здесь, случается, выпьем пивка, только и всего.
Седьмой подошел к одной из дверей холодильника и достал бутылку. Пока Реморино открывал ее специальным приспособлением на перочинном ноже, Тревелер взглянул на Оливейру, но первым заговорил Седьмой.
– Может, лучше его сначала положить?
– Ты… – начал Реморино и остановился с раскрытым перочинным ножом в руках. – Ты прав, парень. Давай. Вот эта свободна.
– Нет, – сказал Седьмой.
– Ты мне будешь говорить?
– Простите меня и извините, – сказал Седьмой. – Свободна вон та.
Реморино уставился на него, но Седьмой улыбнулся ему и, сделав как бы приветственный жест рукой, подошел к дверце, о которой шла речь, и открыл ее. Из камеры хлынул яркий свет, словно от северного сияния или другого холодного светила; посреди сияния вырисовывались довольно крупные ступни ног.
– Двадцать второй, – сказал Седьмой. – Что я говорил? Я их всех по ногам узнаю. А вот здесь Вторая. На что спорим? Смотрите, если не верите. Убедились?
Ну вот, значит, этого мы заложим сюда, она свободна. Помогите мне, осторожней, сперва заносим голову.
– Он у нас чемпион в этих делах, – сказал Реморино тихонько Тревелеру. – По правде говоря, я не знаю, почему Овехеро держит его тут. Стаканов нет, че, так что пососем из горлышка.
Прежде чем взяться за бутылку, Тревелер глотнул дым, глубоко, до самых колен. Бутылка пошла по кругу, и первый сальный анекдотец рассказал Реморино.
(—66) (#AutBody_0fb_66)
54
Из окна своей комнаты на втором этаже Оливейра видел дворик с фонтаном, струйку воды, начерченные на земле классики, по которым прыгал Восьмой номер, три дерева, отбрасывающие тень на клумбу с мальвами и живую изгородь, и высокий-высокий забор, скрывавший все, что происходило на улице. Восьмой прыгал по клеточкам почти целый день и оставался непобедимым, Четвертый с Девятнадцатым хотели отбить у него Небо, но тщетно, нога у Восьмого была как снайперское орудие, огонь по клетке! – и камешек всегда ложился наилучшим образом, просто необыкновенно. Ночами клетки чуть светились, и Оливейре нравилось смотреть на них из окна. Восьмой, у себя в постели, поддавшись действию кубического сантиметра снотворного, спит теперь, наверное, как цапля, мысленно поджав одну ногу, а другой подбивая камешек скупым и безошибочным движением в борьбе за Небо, которое скорее всего разочарует, едва он его захватит. «Ты невыносимый романтик, – думал про себя Оливейра, потягивая мате. – А розовая пижама на что?» На столе лежало письмецо от безутешной Хекрептен: что же это такое, выпускают тебя только по субботам, это не жизнь, дорогой, я не согласна так долго оставаться одна, видел бы ты нашу комнатку. Поставив мате на подоконник, Оливейра достал из кармана ручку и взялся писать ответ. Во-первых, есть телефон (далее следовал номер); во-вторых, они очень заняты, но реорганизация продлится не более двух недель, и тогда они смогут видеться по средам, субботам и воскресеньям. И в-третьих, у него кончается трава. «Пишу как из заключения», – подумал он, ставя подпись. Было почти одиннадцать, скоро ему сменять Тревелера, который дежурит на третьем этаже. Заварив свежий мате, он перечитал письмо и заклеил конверт. Он предпочитал писать, телефон в руках у Хекрептен становился ненадежным инструментом, сколько не объясняй, она все равно не понимала.
В левом крыле погасло окно аптеки. Талита вышла во двор, заперла дверь на ключ (она прекрасно была видна под усыпанными звездами горячим небом) и нерешительно подошла к фонтану. Оливейра тихонько свистнул ей, но Талита продолжала смотреть на фонтан и даже поднесла палец к, струе, попробовала воду. Потом прошла через двор, прямо по клеточкам классиков и исчезла под окном у Оливейры. Все это немного походило на картины Леоноры Каррингтон: ночь, а в ней Талита, ступает по клеткам, не замечая их, струйка воды в фонтане. Когда фигура в розовом выступила откуда-то и медленно приблизилась к клеточкам, не решаясь наступить на них, Оливейра понял, что все приходит в порядок: вот сейчас фигура в розовом непременно выберет из множества камешков, сложенных Восьмым у клумбы, один плоский и Мага, потому что это была Мага, подожмет левую ногу и носком туфли направит камешек в первую клетку. Сверху он видел волосы Маги, покат ее плеч и как она, чуть вскидывая руки, чтобы удержать равновесие, мелкими шажками входила в первую клетку и подталкивала камешек ко второй (Оливейра даже почувствовал дрожь оттого, что камешек чуть было не выскочил за клетку, но неровность плит удержала его точно у черты), потом она легко впрыгнула во вторую клетку и застыла на секунду, как розовый фламинго, в полутьме, прежде чем тихонько приблизить носок к камешку, прикидывая расстояние до третьей клетки.
Талита подняла голову и увидела Оливейру в окне. Она не сразу узнала его и стояла, балансируя, на одной ноге, так что казалось, будто она держится руками за воздух. Разочарованно и насмешливо оглядев ее, Оливейра понял свою ошибку, увидел, что розовое вовсе не розовое, что на Талите блузка пепельного цвета, а юбка скорее всего белая. Все сразу разъяснилось; Талита вошла в дом, а потом опять вышла, привлеченная клеточками классиков, и этого секундного разрыва между ее уходом и новым появлением оказалось достаточно, чтобы он ошибся, как и той давней ночью, на носу корабля, и, может статься, таких ночей было немало. Он еле ответил на приветственный жест Талиты, которая снова опустила голову и сосредоточилась, примериваясь; камешек вылетел из второй клетки, влетел в третью, встал на ребро, покатился и выскочил за черту, на одну или две плитки в сторону от классиков.
– Тебе надо потренироваться, – сказал Оливейра, – если хочешь выиграть у Восьмого.
– Что ты тут делаешь?
– Жарко. В половине двенадцатого мне на дежурство. Письмо писал.
– А, – сказала Талита. – Какая ночь.
– Волшебная, – сказал Оливейра, а Талита коротко засмеялась и исчезла за дверью. Оливейра слышал, как она шла по лестнице, потом мимо его двери (а может быть, она поднималась на лифте), добралась до третьего этажа. «Надо признать, они здорово похожи, – подумал он. – Это, да и я полный идиот – вот и объяснение». Он все смотрел во двор, на клетки классиков, будто желая окончательно убедиться. В одиннадцать десять пришел Тревелер и передал ему дежурство. Пятый номер довольно беспокоен, сообщить Овехеро, если ему станет хуже, остальные спят.
На третьем этаже было тихо, даже Пятый утихомирился. Пятый взял предложенную Оливейрой сигарету, выкурил ее старательно и объяснил, что заговор издателей помешал публикации его замечательного труда о кометах, но он непременно подарит Оливейре один экземпляр с дарственной надписью. Оливейра оставил дверь чуть приоткрытой, поскольку знал, на что тот горазд, и стал ходить по коридору, заглядывая в глазки, проделанные в дверях взаимными усилиями предусмотрительного Овехеро, администратора и фирмы «Либер и Финкель»: каждая комната – миниатюра Ван Эйка, за исключением четырнадцатого номера, Четырнадцатая, как всегда, заклеила глазок маркой. В двенадцать часов пришел Реморино с несколькими бутылками джина, наполовину опробованными; поговорили о лошадях и о футболе, а потом Реморино ушел вниз поспать немного. Пятый совсем успокоился, в тишине полутемного коридора жара давила. Мысль, что его могут попытаться убить, до того момента, похоже, не приходила в голову Оливейре, но тут достаточно оказалось лишь очертания этой мысли, промелька, – даже не мысль, а просто озноб, – и он уже понял, что мысль эта не новая и родилась не в этом коридоре с запертыми дверями и маячившей в глубине тенью грузового лифта. Возможно, он предчувствовал ее в полдень, в магазине Рока или в туннеле метро, в пять часов пополудни. Или того раньше – в Европе, как-нибудь ночью, когда шатался по пустырям и закоулкам, где выпотрошенной консервной банки вполне хватало, чтобы перерезать глотку, стоило той и другой сойтись на узкой дорожке. Подойдя к лифту, он посмотрел вниз, в черный провал шахты, и подумал о Флегрейских полях и снова о путях и прорывах. В цирке было наоборот: дыра была вверху, она была выходом, соединяющим с открытым простором, фигурой завершения, а тут он стоял на краю бездны, дыры Элевсина, и клиника, дышавшая жаркими испарениями, лишь подчеркивала мрачный смысл этого перехода, пары сульфатаров, спуск вниз. Обернувшись, он глянул в прямизну коридора, уходящего вглубь, – слабые лампочки фиолетово светились над белыми дверями. И тут он поступил совсем глупо: подогнув левую ногу, запрыгал мелкими прыжками на одной ноге по коридору, к первой двери, а когда опустил левую ногу на зеленый линолеум, то почувствовал, что весь в поту. При каждом прыжке он сквозь зубы повторял имя Ману. «Трудно поверить, но я предчувствовал этот переход», – подумал он, прислоняясь к стене. Невозможно вычленить первую часть какой-либо мысли, чтобы она не показалась смешной. Переход, к примеру. Трудно поверить, что он его предчувствовал. Ждал перехода. Он не старался больше держаться на ногах и сполз по стене на пол, внимательно оглядел линолеум. Переход к чему? И почему клиника должна была служить переходом? В каких храмах нуждался он, в каких заступниках, в каких психических или нравственных гормонах и как они должны были воздействовать на него – изнутри или извне?
Когда пришла Талита со стаканом лимонада (ох уж эти ее идеи вроде пресловутых благотворительных намерений облагодетельствовать рабочих при помощи капли молока), он тут же выложил ей все. Талита ничему не удивилась: сев напротив, она смотрела, как он залпом выпил стакан.
– Видела бы нас Кука, на полу, – ей бы плохо стало. Дежуришь, называется. Все спят?
– Да, полагаю. Четырнадцатая заклеила глазок, поди узнай, что она там делает. А у меня рука не поднялась открыть ее дверь, че.
– Ты – сама деликатность, – сказала Талита. – Но мне-то можно, женщина к женщине…
Она вернулась почти тут же и на этот раз, прислонившись к стене, встала рядом с Оливейрой.
– Спит невинным сном. А бедного Ману мучил страшный кошмар. Всегда так: он потом заснет как ни в чем не бывало, а я – не могу и в конце концов встаю с постели. Я подумала, что тебе, наверное, жарко, тебе или Реморино, вот и приготовила вам лимонад. Ну и лето, да еще эти стены, совсем не пропускают воздуха. Значит, я похожа на ту женщину?
– Немного, да, – сказал Оливейра, – но это ничего не значит. Интересно другое: почему я видел тебя в розовом?
– Влияние обстановки, нагляделся тут на розовых.