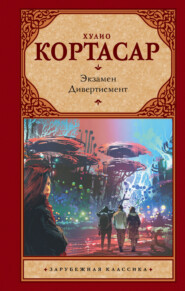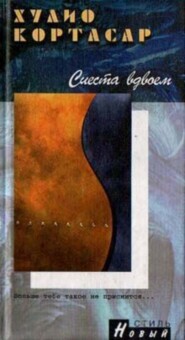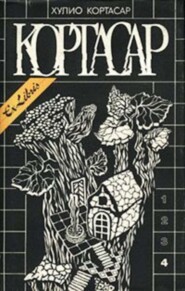По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Игра в классики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, вполне возможно. А почему тебе вздумалось играть в классики? Тоже нагляделась?
– Ты прав, – сказала Талита. – Почему вдруг? Мне никогда не нравилась эта игра. Только не строй, пожалуйста, своих теорий, я ничей не зомби.
– Нет никакой необходимости так кричать.
– Ничей, – повторила Талита тише. – Просто увидела классики у входа, и камешек там лежал… Поиграла и ушла.
– Ты проиграла на третьей клетке. С Магой было бы то же самое, у нее совсем нет упорства и никакого чувства расстояния, время разлетается вдребезги у нее в руках, она натыкается на все на свете. Благодаря чему, замечу кстати, с поразительным совершенством разоблачает мнимое совершенство других. Но я рассказывал тебе о грузовом лифте, по-моему.
– Да, что-то о нем, а потом выпил лимонад. Нет, погоди, сперва выпил лимонад.
– Наверное, я выглядел очень несчастным, когда ты пришла: я находился в трансе, как шаман, и чуть было не бросился в дыру, чтобы раз и навсегда покончить со всеми догадками, назовем это таким прекрасным словом.
– Дыра кончается в подвале, – сказала Талита. – А там тараканы, к твоему сведению, разноцветное тряпье на полу. И все мокрое, черное, а по соседству мертвецы лежат. Ману мне рассказывал.
– Ману спит?
– Да, ему приснился страшный сон, он кричал: какой-то галстук потерял. Я тебе уже говорила.
– Сегодня у нас ночь больших откровений, – сказал Оливейра, кротко глядя на нее.
– Очень больших, – сказала Талита. – Раньше Мага была просто именем, а теперь у нее есть лицо. Но кажется, она пока еще ошибается в цвете одежды.
– Одежда – дело десятое, поди знай, что на ней будет, когда я ее снова увижу. Может, окажется голой или с ребенком на руках и будет петь ему «Les amants du Havre» – песенка такая, ты ее не знаешь.
– А вот и ошибаешься, – сказала Талита. – Ее часто передавали по радиостанции «Бельграно». Ля-ля-ля, ля-ля-ля…
Оливейра замахнулся на пощечину, но она вышла мягкой, и получилось: не ударил, а погладил. Талита откинула голову назад и стукнулась о стену. Сморщилась и потерла затылок, но мелодию не оборвала. Послышался щелчок, за ним жужжание, показавшееся в потемках коридора синим. Лифт поднимался, и они переглянулись, прежде чем вскочить на ноги. Кто бы это в такой час… Снова клацк, вот он на первом этаже, синее жужжание. Талита отступила назад и стала позади Оливейры. Клацк. Розовая пижама отчетливо различалась в стеклянном зарешеченном кубе. Оливейра подбежал к лифту и открыл дверцу. Оттуда пахнуло почти холодом. Старик смотрел на него, и словно не узнавая, продолжал гладить голубя. Легко представить, что голубь когда-то был белым, но непрерывное поглаживание стариковской руки превратило его в пепельно-серого. Прикрыв глаза, голубь застыл на ладони у старика, у самой его груди, а пальцы все гладили и гладили, от шеи к хвосту, от шеи к хвосту.
– Идите спать, дон Лопес, – сказал Оливейра, тяжело дыша.
– В постели жарко, – сказал дон Лопес. – Смотрите, как он доволен, что я его прогуливаю.
– Уже поздно, идите к себе в комнату.
– А я принесу вам холодного лимонада, – пообещала Талита – Найтингейл.
Дон Лопес погладил голубя и вышел из лифта. Они услышали, как он спускается по «лестнице.
– Тут каждый делает что ему вздумается, – пробормотал Оливейра, закрывая дверь лифта. – Так в одну прекрасную ночь нам всем головы поотрезают. Говорю тебе, к этому идет. А голубь у него в руке, как револьвер.
– Надо сказать Реморино. Старик поднимался из подвала, странно.
– Знаешь, подожди тут немножко, подежурь, а я спущусь в подвал, погляжу, не откалывает ли там еще кто-нибудь номера.
– Я с тобой.
– Ладно, эти все спят спокойным сном. Свет в кабине был синеватым, лифт снускался с жужжанием, как в научно-фантастическом фильме. В подвале не было ни единой живой души, но из-за одной дверцы холодильника, приоткрытой, сочился свет. Талита остановилась в дверях, прижав руку ко рту, а Оливейра пошел вперед. Это был Пятьдесят шестой, он хорошо помнил, его семья должна была явиться с минуты на минуту из Трелева. А пока суд да дело, к Пятьдесят шестому в гости пришел друг; представить только, как разговаривал старик с голубем тут, верно, вел один из тех псевдодиалогов, когда собеседник не обращает никакого внимания на то, что говорит другой, или на то, что он не говорит вообще, лишь бы был он тут, лишь бы было тут не важно что – лицо или ступни, торчащие из холодильника. Да и сам он только что точно так же разговаривал с Талитой, рассказывал ей о том, что видел, рассказывал, что ему страшно, говорил и говорил о дырах и переходах Талите или кому-то еще – ступням, торчащим из холодильника, чему угодно, как бы это ни выглядело, лишь бы способно было выслушать и согласиться. Он закрыл дверцу холодильника, зачем-то оперся о край стола и почувствовал, что тошнота воспоминаний одолевает его; он подумал, что еще день или два назад казалось совершенно невозможным рассказать что-нибудь Тревелеру, обезьяна ничего не может рассказать человеку, и вдруг нате вам – услышал, как рассказывает Талите, будто это не Талита, а Мага и он знает, что это не Мага, но все-таки рассказывает ей про классики, и про страх, который испытал в коридоре, и про искусительную дыру. А значит (Талита была тут, у него за спиной в четырех метрах и ждала), значит, это был конец, он взывал к чужой жалости, он возвращался обратно, в семью человечью, губка, отвратительно хлюпнув, шлепнулась на середину ринга. Было такое чувство, будто он бежит от себя самого, бросает себя, блудный (сукин) сын, и кидается в объятия легкого примирения, а оттуда – еще более легкий поворот к миру, к вполне возможной жизни во времени, в котором он живет, и к здравому рассудку, каковой руководит поступками всех добронравных аргентинцев и прочих малых сил. Он был в своем маленьком, уютном, прохладном Аду, только без Эвридики, которую надо искать, не говоря уже о том, что спустился сюда он спокойно, в грузовом лифте, и теперь, когда дверца холодильника закрыта, а бутылка с пивом вынута, все что угодно годилось, лишь бы покончить с этой комедией.
– Иди сюда, выпей, – позвал он. – Гораздо лучше, чем твой лимонад.
Талита сделала шаг и остановилась.
– Ты что – некрофил? – сказала она. – Выходи оттуда.
– Согласись, это единственное прохладное место. Я, кажется, поставлю здесь раскладушку.
– Ты побледнел от холода, – сказала Талита, подходя к нему. – Выйди, мне не нравится, что ты тут.
– Тебе не нравится? Да не съедят они меня, те, что наверху, страшнее.
– Выйди, Орасио, – повторила Талита. – Я не хочу, чтобы ты здесь оставался.
– Ты… – сказал Оливейра, метнув в нее яростный взгляд, и остановился, чтобы открыть бутылку прямо о край стола. Он так ясно видел бульвар под дождем, только на этот раз не он вел под руку и не он говорил слова жалости, а его вели, ему из сострадания протянули руку, его утешили, его жалели, и это, оказывается, было приятно. Прошлое перевернулось, изменило знак на противоположный, и в конце концов выходило, что Сострадание не изничтожало. Эта женщина, любительница сыграть в классики, жалела его, это было так отчетливо ясно, что обжигало.
– Мы можем поговорить и наверху, – убеждала Талита. – Захвати бутылку, нальешь мне немножко.
– Oui madame, bien s?r madame [[218 - Да, мадам, безусловно, мадам (фр.)]], – сказал Оливейра.
– Наконец-то заговорил по-французски. А мы с Ману решили, что ты дал обет. Никогда…
– Assez, – сказал Оливейра. – Tu m’as eu, petite, Cеline avait raison, tu croit enculе d’un centim?tre et on l’est dеja de plusieurs mеtres [[219 - Хватит. Ты своего добилась, малышка. Седин прав, ты думаешь, что уступил всего на сантиметр, а у тебя, оказывается, целый метр оттяпали (фр.).]].
Талита посмотрела на него каким-то непонятным взглядом, но ее рука поднялась сама собой, Талита даже не почувствовала как, и на мгновение легла на грудь Оливейры. Когда же она отняла руку, Оливейра поглядел на нее как бы снизу, и взгляд этот шел будто совсем из иных краев.
– Как знать, – сказал Оливейра кому-то, кто не был Талитой. – Как знать, может, и не ты сейчас выплюнула в меня столько жалости. Как знать, может, на самом-то деле надо плакать от любви и наплакать пять тазов слез. Или чтоб тебе их наплакали, ведь их уже льют, эти слезы.
Талита повернулась к нему спиной и пошла к двери. А когда остановилась подождать его, в полном смятении, но все же чувствуя, что подождать его надо непременно, потому что уйти от него в эту минуту – все равно что дать ему упасть в бездну (с тараканами и разноцветным тряпьем), она увидела, что он улыбается и что улыбка эта – не ей. Никогда она не видела, чтобы он улыбался так: улыбка жалкая, но лицо открыто и обернуто к ней, без обычной иронии, словно внимал чему-то, что шло к нему из самой сердцевины жизни, из той, другой, бездны (где были тараканы, разноцветное тряпье и лицо, плывущее в грязной воде), и он, внимавший тому, что не имело названия и заставляло его улыбаться, становился ей ближе. Но поцеловал он не ее, и произошло это не здесь, в смехотворной близости от холодильника с мертвецами и от спящего Ману. Они как будто добирались друг к другу откуда-то совсем с другой стороны, с другой стороны самих себя, и сами они тут были ни при чем, они словно платили или собирали дань с других, а сами были всего-навсего големами неосуществимой встречи их хозяев. И Флегрейские поля, и то, что Орасио бормотал насчет спуска вниз, – это представлялось такой нелепицей, что и Ману, и все, что было Ману, и все, что находилось на уровне Ману, никак не могло в этом участвовать; тут начиналось иное: все равно как гладить голубя, или встать с постели и приготовить лимонад дежурному, или, поджав ногу, прыгать с камешком из первой клетки во вторую, из второй – в третью. Каким-то образом они вступили в иное, туда, где можно одеться в серое, а быть в розовом, где можно давным-давно утонуть в реке (а это не она так думала) и появиться ночью в Буэнос-Айресе, чтобы на клетках классиков воспроизвести образ того, к чему они только что пришли: последнюю клеточку, центр мандалы, головокружительное древо Иггдрасиль, откуда можно выйти на открытый берег, на безграничный простор, в мир, таящийся под ресницами, в мир, который взгляд, устремленный внутрь, узнает и почитает.
(—129) (#AutBody_0fb_129)
55
Но Тревелер не спал, в два приема кошмарный сон доканал его, кончилось тем, что он сел на постели и зажег свет. Талиты не было, этой сомнамбулы, этой ночной бабочки бессонниц. Тревелер выпил стакан каньи и надел пижамную куртку. В плетеном кресле казалось прохладнее, чем в постели, в такую ночь только читать. Иногда в коридоре слышались шаги, и Тревелер два раза выглядывал за дверь, которая находилась над административным крылом. Однако никого не увидел, не увидел даже и административного крыла. Талита, наверное, ушла работать в аптеку, поразительно, с какой радостью вернулась она к больничной работе, к своим аптекарским весам и пилюлям. Тревелер сел читать, попивая канью. И все-таки странно, что Талита до сих пор не пришла из аптеки. Когда наконец она появилась с таким видом, будто свалилась с неба, каньи в бутылке оставалось на донышке, и Тревелеру было уже почти все равно, видит он ее или не видит; они поговорили немного о всякой всячине, и Талита, доставая ночную рубашку, развивала какие-то теории, к которым Тревелер отнесся вполне спокойно, потому что в таком состоянии делался добродушным. Талита заснула лежа на спине и во сне двигала руками и стонала. Всегда так: Тревелер не мог заснуть, пока Талита не успокоится, но едва усталость его одолеет, как она просыпается и сна – ни в одном глазу, потому что он, видите ли, во сне ворочается или бунтует, и так – всю ночь напролет: один засыпает, другой просыпается. Хуже всего, что свет остался включенным, а дотянуться до выключателя было безумно трудно, и кончилось тем, что оба совсем проснулись, и тогда Талита погасила свет, прижалась чуть к Тревелеру, а тот все ворочался и потел.
– Орасио сегодня видел Магу, – сказала Талита. – Во дворе, два часа назад, когда ты дежурил.
– А, – сказал Тревелер, переворачиваясь на спину и нашаривая сигареты по системе Брайля. И добавил какую-то туманную фразу, видно, только что вычитанную.
– А Магой была я, – сказала Талита, прижимаясь к Тревелеру еще больше. – Не знаю, понимаешь ты или нет.
– Пожалуй, да.
– Это должно было случиться. Одно странно: почему он так удивился своей ошибке.
– Ты же знаешь, какой он, Орасио: сам кашу заварит и смотрит с таким видом, с каким щенок пялится на собственные какашки.
– Мне кажется, с ним уже было такое в день, когда мы встречали его в порту, – сказала Талита. – Трудно объяснить, он ведь даже не взглянул на меня, и вы оба вышвырнули меня, как собачку, да вдобавок с котом под мышкой.
– Ты прав, – сказала Талита. – Почему вдруг? Мне никогда не нравилась эта игра. Только не строй, пожалуйста, своих теорий, я ничей не зомби.
– Нет никакой необходимости так кричать.
– Ничей, – повторила Талита тише. – Просто увидела классики у входа, и камешек там лежал… Поиграла и ушла.
– Ты проиграла на третьей клетке. С Магой было бы то же самое, у нее совсем нет упорства и никакого чувства расстояния, время разлетается вдребезги у нее в руках, она натыкается на все на свете. Благодаря чему, замечу кстати, с поразительным совершенством разоблачает мнимое совершенство других. Но я рассказывал тебе о грузовом лифте, по-моему.
– Да, что-то о нем, а потом выпил лимонад. Нет, погоди, сперва выпил лимонад.
– Наверное, я выглядел очень несчастным, когда ты пришла: я находился в трансе, как шаман, и чуть было не бросился в дыру, чтобы раз и навсегда покончить со всеми догадками, назовем это таким прекрасным словом.
– Дыра кончается в подвале, – сказала Талита. – А там тараканы, к твоему сведению, разноцветное тряпье на полу. И все мокрое, черное, а по соседству мертвецы лежат. Ману мне рассказывал.
– Ману спит?
– Да, ему приснился страшный сон, он кричал: какой-то галстук потерял. Я тебе уже говорила.
– Сегодня у нас ночь больших откровений, – сказал Оливейра, кротко глядя на нее.
– Очень больших, – сказала Талита. – Раньше Мага была просто именем, а теперь у нее есть лицо. Но кажется, она пока еще ошибается в цвете одежды.
– Одежда – дело десятое, поди знай, что на ней будет, когда я ее снова увижу. Может, окажется голой или с ребенком на руках и будет петь ему «Les amants du Havre» – песенка такая, ты ее не знаешь.
– А вот и ошибаешься, – сказала Талита. – Ее часто передавали по радиостанции «Бельграно». Ля-ля-ля, ля-ля-ля…
Оливейра замахнулся на пощечину, но она вышла мягкой, и получилось: не ударил, а погладил. Талита откинула голову назад и стукнулась о стену. Сморщилась и потерла затылок, но мелодию не оборвала. Послышался щелчок, за ним жужжание, показавшееся в потемках коридора синим. Лифт поднимался, и они переглянулись, прежде чем вскочить на ноги. Кто бы это в такой час… Снова клацк, вот он на первом этаже, синее жужжание. Талита отступила назад и стала позади Оливейры. Клацк. Розовая пижама отчетливо различалась в стеклянном зарешеченном кубе. Оливейра подбежал к лифту и открыл дверцу. Оттуда пахнуло почти холодом. Старик смотрел на него, и словно не узнавая, продолжал гладить голубя. Легко представить, что голубь когда-то был белым, но непрерывное поглаживание стариковской руки превратило его в пепельно-серого. Прикрыв глаза, голубь застыл на ладони у старика, у самой его груди, а пальцы все гладили и гладили, от шеи к хвосту, от шеи к хвосту.
– Идите спать, дон Лопес, – сказал Оливейра, тяжело дыша.
– В постели жарко, – сказал дон Лопес. – Смотрите, как он доволен, что я его прогуливаю.
– Уже поздно, идите к себе в комнату.
– А я принесу вам холодного лимонада, – пообещала Талита – Найтингейл.
Дон Лопес погладил голубя и вышел из лифта. Они услышали, как он спускается по «лестнице.
– Тут каждый делает что ему вздумается, – пробормотал Оливейра, закрывая дверь лифта. – Так в одну прекрасную ночь нам всем головы поотрезают. Говорю тебе, к этому идет. А голубь у него в руке, как револьвер.
– Надо сказать Реморино. Старик поднимался из подвала, странно.
– Знаешь, подожди тут немножко, подежурь, а я спущусь в подвал, погляжу, не откалывает ли там еще кто-нибудь номера.
– Я с тобой.
– Ладно, эти все спят спокойным сном. Свет в кабине был синеватым, лифт снускался с жужжанием, как в научно-фантастическом фильме. В подвале не было ни единой живой души, но из-за одной дверцы холодильника, приоткрытой, сочился свет. Талита остановилась в дверях, прижав руку ко рту, а Оливейра пошел вперед. Это был Пятьдесят шестой, он хорошо помнил, его семья должна была явиться с минуты на минуту из Трелева. А пока суд да дело, к Пятьдесят шестому в гости пришел друг; представить только, как разговаривал старик с голубем тут, верно, вел один из тех псевдодиалогов, когда собеседник не обращает никакого внимания на то, что говорит другой, или на то, что он не говорит вообще, лишь бы был он тут, лишь бы было тут не важно что – лицо или ступни, торчащие из холодильника. Да и сам он только что точно так же разговаривал с Талитой, рассказывал ей о том, что видел, рассказывал, что ему страшно, говорил и говорил о дырах и переходах Талите или кому-то еще – ступням, торчащим из холодильника, чему угодно, как бы это ни выглядело, лишь бы способно было выслушать и согласиться. Он закрыл дверцу холодильника, зачем-то оперся о край стола и почувствовал, что тошнота воспоминаний одолевает его; он подумал, что еще день или два назад казалось совершенно невозможным рассказать что-нибудь Тревелеру, обезьяна ничего не может рассказать человеку, и вдруг нате вам – услышал, как рассказывает Талите, будто это не Талита, а Мага и он знает, что это не Мага, но все-таки рассказывает ей про классики, и про страх, который испытал в коридоре, и про искусительную дыру. А значит (Талита была тут, у него за спиной в четырех метрах и ждала), значит, это был конец, он взывал к чужой жалости, он возвращался обратно, в семью человечью, губка, отвратительно хлюпнув, шлепнулась на середину ринга. Было такое чувство, будто он бежит от себя самого, бросает себя, блудный (сукин) сын, и кидается в объятия легкого примирения, а оттуда – еще более легкий поворот к миру, к вполне возможной жизни во времени, в котором он живет, и к здравому рассудку, каковой руководит поступками всех добронравных аргентинцев и прочих малых сил. Он был в своем маленьком, уютном, прохладном Аду, только без Эвридики, которую надо искать, не говоря уже о том, что спустился сюда он спокойно, в грузовом лифте, и теперь, когда дверца холодильника закрыта, а бутылка с пивом вынута, все что угодно годилось, лишь бы покончить с этой комедией.
– Иди сюда, выпей, – позвал он. – Гораздо лучше, чем твой лимонад.
Талита сделала шаг и остановилась.
– Ты что – некрофил? – сказала она. – Выходи оттуда.
– Согласись, это единственное прохладное место. Я, кажется, поставлю здесь раскладушку.
– Ты побледнел от холода, – сказала Талита, подходя к нему. – Выйди, мне не нравится, что ты тут.
– Тебе не нравится? Да не съедят они меня, те, что наверху, страшнее.
– Выйди, Орасио, – повторила Талита. – Я не хочу, чтобы ты здесь оставался.
– Ты… – сказал Оливейра, метнув в нее яростный взгляд, и остановился, чтобы открыть бутылку прямо о край стола. Он так ясно видел бульвар под дождем, только на этот раз не он вел под руку и не он говорил слова жалости, а его вели, ему из сострадания протянули руку, его утешили, его жалели, и это, оказывается, было приятно. Прошлое перевернулось, изменило знак на противоположный, и в конце концов выходило, что Сострадание не изничтожало. Эта женщина, любительница сыграть в классики, жалела его, это было так отчетливо ясно, что обжигало.
– Мы можем поговорить и наверху, – убеждала Талита. – Захвати бутылку, нальешь мне немножко.
– Oui madame, bien s?r madame [[218 - Да, мадам, безусловно, мадам (фр.)]], – сказал Оливейра.
– Наконец-то заговорил по-французски. А мы с Ману решили, что ты дал обет. Никогда…
– Assez, – сказал Оливейра. – Tu m’as eu, petite, Cеline avait raison, tu croit enculе d’un centim?tre et on l’est dеja de plusieurs mеtres [[219 - Хватит. Ты своего добилась, малышка. Седин прав, ты думаешь, что уступил всего на сантиметр, а у тебя, оказывается, целый метр оттяпали (фр.).]].
Талита посмотрела на него каким-то непонятным взглядом, но ее рука поднялась сама собой, Талита даже не почувствовала как, и на мгновение легла на грудь Оливейры. Когда же она отняла руку, Оливейра поглядел на нее как бы снизу, и взгляд этот шел будто совсем из иных краев.
– Как знать, – сказал Оливейра кому-то, кто не был Талитой. – Как знать, может, и не ты сейчас выплюнула в меня столько жалости. Как знать, может, на самом-то деле надо плакать от любви и наплакать пять тазов слез. Или чтоб тебе их наплакали, ведь их уже льют, эти слезы.
Талита повернулась к нему спиной и пошла к двери. А когда остановилась подождать его, в полном смятении, но все же чувствуя, что подождать его надо непременно, потому что уйти от него в эту минуту – все равно что дать ему упасть в бездну (с тараканами и разноцветным тряпьем), она увидела, что он улыбается и что улыбка эта – не ей. Никогда она не видела, чтобы он улыбался так: улыбка жалкая, но лицо открыто и обернуто к ней, без обычной иронии, словно внимал чему-то, что шло к нему из самой сердцевины жизни, из той, другой, бездны (где были тараканы, разноцветное тряпье и лицо, плывущее в грязной воде), и он, внимавший тому, что не имело названия и заставляло его улыбаться, становился ей ближе. Но поцеловал он не ее, и произошло это не здесь, в смехотворной близости от холодильника с мертвецами и от спящего Ману. Они как будто добирались друг к другу откуда-то совсем с другой стороны, с другой стороны самих себя, и сами они тут были ни при чем, они словно платили или собирали дань с других, а сами были всего-навсего големами неосуществимой встречи их хозяев. И Флегрейские поля, и то, что Орасио бормотал насчет спуска вниз, – это представлялось такой нелепицей, что и Ману, и все, что было Ману, и все, что находилось на уровне Ману, никак не могло в этом участвовать; тут начиналось иное: все равно как гладить голубя, или встать с постели и приготовить лимонад дежурному, или, поджав ногу, прыгать с камешком из первой клетки во вторую, из второй – в третью. Каким-то образом они вступили в иное, туда, где можно одеться в серое, а быть в розовом, где можно давным-давно утонуть в реке (а это не она так думала) и появиться ночью в Буэнос-Айресе, чтобы на клетках классиков воспроизвести образ того, к чему они только что пришли: последнюю клеточку, центр мандалы, головокружительное древо Иггдрасиль, откуда можно выйти на открытый берег, на безграничный простор, в мир, таящийся под ресницами, в мир, который взгляд, устремленный внутрь, узнает и почитает.
(—129) (#AutBody_0fb_129)
55
Но Тревелер не спал, в два приема кошмарный сон доканал его, кончилось тем, что он сел на постели и зажег свет. Талиты не было, этой сомнамбулы, этой ночной бабочки бессонниц. Тревелер выпил стакан каньи и надел пижамную куртку. В плетеном кресле казалось прохладнее, чем в постели, в такую ночь только читать. Иногда в коридоре слышались шаги, и Тревелер два раза выглядывал за дверь, которая находилась над административным крылом. Однако никого не увидел, не увидел даже и административного крыла. Талита, наверное, ушла работать в аптеку, поразительно, с какой радостью вернулась она к больничной работе, к своим аптекарским весам и пилюлям. Тревелер сел читать, попивая канью. И все-таки странно, что Талита до сих пор не пришла из аптеки. Когда наконец она появилась с таким видом, будто свалилась с неба, каньи в бутылке оставалось на донышке, и Тревелеру было уже почти все равно, видит он ее или не видит; они поговорили немного о всякой всячине, и Талита, доставая ночную рубашку, развивала какие-то теории, к которым Тревелер отнесся вполне спокойно, потому что в таком состоянии делался добродушным. Талита заснула лежа на спине и во сне двигала руками и стонала. Всегда так: Тревелер не мог заснуть, пока Талита не успокоится, но едва усталость его одолеет, как она просыпается и сна – ни в одном глазу, потому что он, видите ли, во сне ворочается или бунтует, и так – всю ночь напролет: один засыпает, другой просыпается. Хуже всего, что свет остался включенным, а дотянуться до выключателя было безумно трудно, и кончилось тем, что оба совсем проснулись, и тогда Талита погасила свет, прижалась чуть к Тревелеру, а тот все ворочался и потел.
– Орасио сегодня видел Магу, – сказала Талита. – Во дворе, два часа назад, когда ты дежурил.
– А, – сказал Тревелер, переворачиваясь на спину и нашаривая сигареты по системе Брайля. И добавил какую-то туманную фразу, видно, только что вычитанную.
– А Магой была я, – сказала Талита, прижимаясь к Тревелеру еще больше. – Не знаю, понимаешь ты или нет.
– Пожалуй, да.
– Это должно было случиться. Одно странно: почему он так удивился своей ошибке.
– Ты же знаешь, какой он, Орасио: сам кашу заварит и смотрит с таким видом, с каким щенок пялится на собственные какашки.
– Мне кажется, с ним уже было такое в день, когда мы встречали его в порту, – сказала Талита. – Трудно объяснить, он ведь даже не взглянул на меня, и вы оба вышвырнули меня, как собачку, да вдобавок с котом под мышкой.