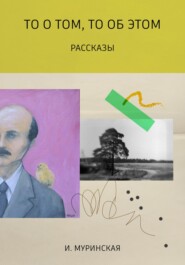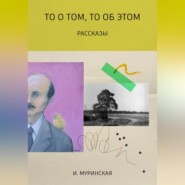По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мартин М.: Цветы моего детства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– …Фиии!
Фи брал трубку и говорил «привет» немного в нос. Мартин находил это трогательным. После диктовки домашнего задания они обсуждали совместные планы на будущее. Например, где и как можно построить снежный тоннель, о котором никто не будет знать, кроме них. В этот раз Мартин рассказывал Фи о том, как во время болезни он всегда просил принести ему все его книги, и часами, лежа в постели, листал их, рассматривая картинки. Иногда говорить было не о чем, и они просто молчали в трубки, стараясь что-нибудь придумать.
Привычка
Наступал необычно теплый для зимы день. Один из тех, что обманчиво похожи на долгожданное весеннее послабление, которое случается как будто только для того, чтобы потом с новыми силами хлестнуть по лицу ледяной стужей. Октавия собиралась на работу. Она надела кашемировое пальто терракотового цвета, подобрала помаду в тон ботинкам и с удовлетворением посмотрела на себя в зеркало. Слегка выбивался из общего ансамбля только мясистый заусенец на большом пальце ее правой руки. У нее имелся прекрасный маникюрный набор в крокодиловом чехле, но использовала она в нем обычно только острые серебристые ножницы и пилку – чтобы под корень срезать свои мужиковатые широкие ногти и придавать им округлую форму. Расстаться с заусенцем было выше ее сил. Она теребила и мусолила его указательным пальцем той же руки, подносила к чувствительному хоботку на верхней губе, чтобы ощутить его шершавую остроту, иногда даже, когда никто не видел, слегка полизывала его твердый сухой край кончиком языка. Это был далеко не первый ее заусенец – пристрастие к ним она осознала еще в детстве. Но этот оказался особенно стойким и основательным. На его внутренней стороне уже образовалась довольно глубокая розовая ранка (они никогда отчего-то не болели до тех пор, пока заусенец не отваливался). Он был с ней уже пять дней. Октавия так к нему привязалась, что даже сочинила про него рассказ – «Я и друг мой заусенец».
Я и друг мой заусенец
В моей жизни всегда было много хороших вещей. К примеру, вкус весеннего льда или звук, который издает английский бульдог когтями, когда бегает по паркету соседской квартиры над моей головой. Но ничто не утешало меня в моем одиночестве так, как друг мой заусенец. Мы были вместе очень долго, так что я уже и не мог вспомнить себя без него. Со временем он стал таким большим, что было сложно сказать, растет ли он из меня, или я из него. Я даже придумал ему имя – Эллиот. Мне всегда оно нравилось, и я был рад, что наконец-то смог к нему приобщиться. Иногда мне казалось, что я слышу его голос, похожий на негромкий сухой скрежет. В нем не было ни одного слова, но было очень много смысла. Я бы даже сказал, что это был смысл в чистом виде. Тот смысл, который мы иногда улавливаем во сне, а проснувшись, не можем в своей косности вспомнить. Мне, однако, всегда чудилось, что я не теряю его полностью, что где-то он все-таки остается. И теперь я понял, где. Моя бабушка называла заусенцы заустрицами. Перед смертью она дала мне последнее наставление – жить “потихонечку” и “как получится”. Она говорила об этом очень серьезно. Мне кажется, я ему прекрасно следую. С годами я понял, что в этом чрезвычайно много мудрости. Незачем гнаться за истиной, ее следует терпеливо высиживать, как страусиное яйцо, пока она сама себя не покажет. Из меня она буквально проросла. Так мы с Эллиотом и жили, в согласии с космическим равновесием: он рос, а я уменьшался. Сегодня утром я проснулся и понял, что меня больше нет. Вместо меня на кровати лежал полутораметровый кусок кутикулы с влажным кожистым основанием и заостренным полупрозрачным краем.
Никто не знает, почему в мире все происходит так, а не иначе, а я ни о чем не жалею и никого ни в чем не виню.
Кухня
Мартин впервые побывал в квартире Клелии. Они возвращались с уроков музыки, и он разодрал колено, спускаясь по кривым бетонным ступенькам с отбитыми краями. Мартин застенчиво запротестовал, но Клелия настояла на том, чтобы обработать рану у нее дома, который был ближе, чем дом Мартина. Кроме них в квартире никого не было. Комната Клелии удивила и немного разочаровала Мартина. Она была похожа на его собственную, только книг тут было значительно больше. На полках между ними стояли фарфоровые куры и дешевые вазочки. Клелия протерла его колено сначала мокрой ваткой, потом зеленкой и заклеила пластырем.
– А теперь пошли пить чай.
Она привела его на кухню и поставила чайник. Яблочное варенье в хрустальной креманке было покрыто подсохшей корочкой. А может быть, это было грушевое варенье. Он не был уверен. На подоконнике стояли горшки с каланхоэ. Чужие кухни и гостиные при первом посещении казались Мартину улучшенными версиями кухни и гостиной в его квартире. В них отчего-то всегда было уютнее и наряднее, чем у него. Он еще не достиг того возраста (вообще-то говоря, он его никогда не достигнет), когда такие места, да вообще любые места, но в особенности такие оцениваются с помощью сформировавшегося и вполне осознанного вкуса. Искренне восхищаясь штампованными розами на флизелиновых обоях, салатовой бахромой на золотистых портьерах и стеклянными бусинами на люстре, Мартин принимал их как есть, с открытой душой, вообще не оценивая степень их красоты или уродства. Они существовали для него разом, все вместе, а не по-отдельности, составляя с внешним миром какие-то особые отношения, будучи одновременно изолированными от него и связанными с ним его собственным, трудно установимым образом. Они были даром, исключительным моментом, который принадлежал только ему, а не результатом чьих-то неправильных решений, до которых ему не было дела.
Он пил чай и смотрел в окно на неузнаваемый под новым ракурсом двор. С улицы веяло ласковой весенней свежестью. Сквозь кружевные занавески проникал яркий, но мягкий свет. Ему казалось бесконечно трагичным то, что он не может быть на этой кухне никем, кроме как случайным и не совсем уместным гостем, но это только увеличивало ценность проведенных им здесь минут. Это была самая уютная и нарядная кухня из всех, на которых бывал Мартин.
Клелия никогда не делала бестактных замечаний относительно его поведения или внешнего вида. Если бы в этот момент с ним оказался здесь любой другой человек, он обязательно сказал бы что-нибудь вроде ироничного "Какой серьезный!", насаждая свое превосходство над Мартином, которому ничего не оставалось в таких случаях, кроме как улыбаться и краснеть от обиды или смущения. Но Клелия была не такой. Она просто сидела рядом и пила чай, как будто все в порядке, как будто так все и должно быть. Чай был горячий. Мартин прихлебывал его большими глотками, и от этого его десны у внутренней стороны зубов ритмично пульсировали. Интересно, думал он, чувствует ли Клелия сейчас то же самое и получает ли от этого такое же сильное удовольствие, как он?
Альбом для рисования
На первом этаже их дома жил старик, который никогда ни с кем не разговаривал. Неизвестно, был ли он немой, или просто не хотел говорить. Он был так одинок, что никто не знал его имени. Время от времени его видели на пустыре позади дома. Очень медленно он пересекал небольшую поляну, поросшую низкой травой, садился на уцелевшую половину лавки без спинки, клал на колени одну из своих, таких же старых, как он, книг и сидел так часами, временами отвлекаясь от чтения и глядя куда-то в несуществующую даль. Иногда в его руках возникал листок, и старик что-то там ни то писал, ни то рисовал. Никто, даже дети, которые приходили на пустырь ловить жуков и строить шалаши, не обращал внимания на его присутствие. Как если бы он был курицей или кошкой. Однажды Мартин видел, как он выходит из леса, а позади него закатное солнце сияло так, как будто было спрятано прямо между деревьями. С тех пор Мартину казалось, что старик носит с собой повсюду туманный розовый свет.
Однажды он видел из окна своей комнаты, как старик сорвал несколько цветков ромашки и люцерны и унес с собой. В тот же вечер Мартин заглянул в его окно и обнаружил на подоконнике букетик в фарфоровой чашке с дикой розой на перламутровом боку. В глубине комнаты, за тяжелыми от пыли занавесками, можно было разглядеть клетчатый плед на кушетке и несколько портретов в настольных рамах из темного дерева перед сервантом, освещенным теплым ламповым светом.
Утром, по дороге в школу, Мартин заметил, что букет завял, а свет в окне горит, как и вчера. Вечером ничего не изменилось. Так продолжалось несколько дней. Мартин был заворожен этим светом и этим завядшим букетом, и смутное беспокойство, зародившееся где-то в глубине его сознания, не довело его до идеи что-то предпринять. Потом ему сказали, что старик умер. Свет в его комнате, наконец, погас. Рядом с дверью в его квартиру выставили кипы потрепанных книг и тетрадей. Мартин взял одну наугад. Это был альбом для рисования. На первой странице был портрет мальчика, заглядывающего в окно, и подпись: «Нет и не было прекрасней моей жизни».
Годовщина
Его мать похоронили на том самом кладбище, что располагалось позади их дома. До него было полчаса ходьбы через поле. У Мартина появилась привычка время от времени воровать на городских клумбах цветы и приносить их к ее надгробию. Никто, кроме него, туда не ходил. В первую годовщину ее смерти он пришел к ней с краденым гиацинтом. Ее могила была все там же, слегка запущенная, скромная, окруженная другими похожими друг на друга могилами. Нет, он не встретил рядом с ней загадочного незнакомца, который открыл бы для него мать с неожиданной стороны. Он вообще никого там не встретил. Солнце светило ярко и тепло, как и в любой другой летний день после ее смерти и до нее. Мартин уже свыкся с тем, что конец одного человека не означает конца всего мира, но ему казалась невыносимой обыденность, которая его здесь окружала. Он пытался, но больше не мог сковырнуть ту нежность, которую открыл в себе после ухода матери, связанную с потерей и чувством вины. В траве тихо стрекотали кузнечики, а его душа оставалась такой же тихой и ясной, как этот погожий день вокруг него. Над коваными оградами и каменными плитами кружила мошкара. Единственная протоптанная тропинка вела в лес. Мартин припомнил, как однажды они собирали в этом лесу грибы. Воспоминание это было таким далеким и пронзительным, как будто оно не угасало в нем постепенно все это время, как это обычно бывает, а, исчезнув в самом начале, возникло сейчас совершенно внезапно из неведомой, но живой темноты, как что-то новое, непохожее на то реальное, вполне заурядное событие, которое его продиктовало. Ему даже показалось, что это был какой-то совсем другой, не здешний лес, и только знание о том, что он провел в этих местах всю свою жизнь, и ни в каких других лесах бывать не мог, не позволяло ему в этом увериться. Его мать сидела рядом с ним на корточках, держа в одной руке огромный белый гриб, а в другой крохотный опенок, и разыгрывала импровизированный спектакль. На ней было белое ситцевое платье. Большой гриб говорил что-то грозное басом, а маленький жалобно пищал в ответ. Мартин не помнил больше ничего из того дня, но знал: он был счастлив, и этим счастьем он обязан ей, а значит, она заслуживает всех цветов, которые можно украсть в этом городе. И тут впервые он ощутил не одну только смутную вину перед ней, но и все то сочувствие, которое не далось ему, пока она была больна. Он с ужасом понял, как ей, должно быть, было страшно в ту ночь, когда она умирала. Он не знал, как мог быть так далек от нее, как мог не постараться сделать всего, что от него зависело, чтобы помочь ей. И как хорошо, если кому-то все же удалось хоть немного облегчить ее страдания в эти мучительные последние минуты, пусть даже этим человеком и была глупая Грета.
Корнелиус
У старшего брата Мартина был свой способ находить смысл в хаосе бытия. Ну вот я и пришел, говорил он каждый раз сам себе, приближаясь к местной лечебнице для душевнобольных. «Лечебницой» она являлось, вообще-то, довольно условно. Все понимали, что туда попадают совсем не для того, чтобы лечиться. Любому, кто бы предпринял попытку там кого-нибудь вылечить, рассмеялись бы в лицо. Это было бы все равно что лечить от смерти или от чего-то подобного, что было в порядке вещей, даже если и расценивалось как большая неприятность или необычайная крайность. В первый раз он попал сюда в наказание за взорванную в школьном туалете петарду. Невозможно было оставаться настоящим, бессмысленно-нигилистичным «крутым подростком» и хоть разок не подорвать что-нибудь из школьного хозяйства. Отец пожурил его почти что ласково. Корнелиус отчетливо разглядел гордость и признание в его глазах, когда они выходили из кабинета школьного директора, но в этом не оказалось ничего лестного. Вот они мы какие с тобой – настоящие мужчины, м?! Корнелиус был не склонен к отвлеченным размышлениям, но полоснувшее по какому-то мягкому месту внутри него отвращение при виде заговорщического прищура отца что-то в нем расшевелило, что-то, до сих пор едва ли его беспокоившее. А петарду-то он вообще подорвал не специально.
Господин Котосинский находился в «лечебнице» уже так долго, что только самая древняя из сестер, Жаклин-Франсуаза, могла бы рассказать, когда и при каких обстоятельствах он здесь появился. Могла бы, если б с недавних пор не начала страдать от кратковременных и долговременных провалов в памяти. Страдали, точнее сказать, от этого в основном пациенты. Особенно те из них, которые были уже не в состоянии воспротивиться, когда она вела их мыться шестой раз на дню. Жаклин-Франсуазе с ее не по годам крепким телосложением вообще не так легко было воспротивиться, когда она имела твердое намерение что-либо сделать. А намерения ее всегда были исключительно твердыми. Бывают такие люди – с исключительно твердыми намерениями.
В обязанности Корнелиуса входило посещение господина Котосинского дважды в неделю и развлечение его «легким чтением» или настольными играми, представленными в виде одного-единственного набора из шахматной доски и фишек, позволявших осуществлять состязания по шашкам и поддавкам, причем вместо одной из недостающих черных фишек приходилось использовать что-нибудь подручное, близкое по размеру – отвалившуюся от пальто пуговицу или, скажем, засохший изюм. Игроком господин Котосинский был неплохим, но рассеянным. Однажды вместо того, чтобы сделать свой ход, он положил засохший изюм себе в рот и наотрез отказался его оттуда доставать, так что пришлось звать на помощь Жаклин-Франсуазу. С чтением дела обстояли значительно лучше. Господин Котосинский улыбался, кивал, поддакивал, водил по воздуху указательным пальцем, а по окончании чтения всегда протяжно и на высокой ноте заключал:
– Дааа….
К основным положениям ньютоновских законов из школьного учебника по физике и греческим трагедиям он относился с одинаковым энтузиазмом. Сначала Корнелиусу показалось, что господин Котосинский не слушает, или, точнее, слышит все время что-то свое. Но когда он прочитал ему «Царя Эдипа», который, видимо, попадал, по мнению администраторов «лечебницы», под определение «легкое чтение», господин Котосинский оживился сильнее обыкновенного:
– Дааа… А знаешь, почему на самом деле Эдип сошел с ума, Джулиус?
– Меня зовут Корнелиус.
– На самом деле, Джулиус, Эдип сошел с ума, потому что его постоянно спрашивали: «Ну как ты, Эдип?» Он этого терпеть не мог. Ты думаешь, им правда было дело до того, как он себя чувствует? Как же. Они просто хотели помучить его, напомнить ему, какой он ничтожный. А если он просил их перестать, они злились и обижались, называли его неблагодарным. И ему становилось еще хуже. Понимаешь, Джулиус?
– Понимаю.
И он действительно понимал. Когда срок его «полезно-воспитательных работ» истек, он продолжил посещать господина Котосинского с такой же регулярностью, а потом и еще чаще. В общем-то ему некуда было больше пойти. Он читал ему все, что попадалось под руку, выбирая книжки свободно-интуитивным методом, исходя из привлекательности названия, обложки или смутных образных ассоциаций, которые связались с тем или иным автором вследствие его скудных знаний, полученных на уроках литературы. До этого он не читал почти ничего, так что почти все было ему одинаково интересно. Господин Котосинский никогда не оспаривал его выбор. Корнелиусу нравилось нахлынувшее на него в этих стенах чувство раскрепощенности. Казалось, не было ничего такого, что он мог бы, находясь в этой палате, сказать или сделать и вызвать этим в своем собеседнике враждебность, удивление или насмешку.
– Иди, иди, он не спит, – сказала Жаклин-Франсуаза, когда он появился в коридоре перед палатой.
– А! Джулиус!
– Добрый день, господин Котосинский.
Корнелиус приоткрыл форточку, чтобы разбавить крепкий запах мочи и скипидара, всегда стоявший здесь, когда он приходил. Ему самому запах не мешал, но ему хотелось сделать что-нибудь для господина Котосинского.
Пение горлицы
Мартин не сразу понял, отчего возникло в нем чувство, которое невозможно описать никакими словами – как отчетливое, но совершенно абстрактное воспоминание о некотором фрагменте сна, которое могло завладеть им на несколько мгновений и уйти, не оставив после себя ничего, кроме изумления. Лучшие моменты всегда были заключены для него между возникновением ощущения и осознанием, чем оно вызвано. Это ощущение было вызвано пением горлицы. В городе К. он никогда его не слышал. Зато много раз слышал у бабушки, к которой они больше не ездили, так как она умерла вскоре после матери – своей дочери, и теперь слышал здесь, на морском побережье. Он тогда не знал ни названия этой птицы, ни того, как она выглядит. И ее пение никогда раньше ничем его не привлекало. Но теперь, когда все то, с чем оно было связано, достаточно отдалилось от него, Мартин не мог представить себе более волнующего звука. Каждый день он искал его, и каждый раз, когда находил, испытывал такой тонкий душевный трепет, что не мог поделиться им даже с Фи, который тоже был здесь. Они ночевали в одной комнате, на двухэтажной кровати, Мартин на верхней полке, Фи на нижней. По ночам он слышал его мирное дыхание, когда засыпал, а днем на пляже они вместе искали ракушки и красивые гладкие камни. Это было хорошо, но не шло ни в какое сравнение с пением горлицы в тени сосен. Мартин вспомнил и другие звуки: звон цепи, на которой сидел бабушкин пес Джек, отдаленные петушиные крики перед рассветом, стук тяжелой калитки, жужжание бронзовок, перелетавших с цветка на цветок, протяжное «Молокоооо! Сметаааааана!» под гул медленно передвигающегося по улице грузовика. Перед ним сверкало море, на краю длинного пирса виднелся полосатый маяк. Но Мартин думал о пирамидальных тополях, покрытых пылью, сухой, не такой как здесь, жаре, от которой черные крыши сараев раскалялись и годились только для того, чтоб сушить на них яблоки, об угольных дорогах, из-за которых на пятках оставались черные трещины до самого октября, и о голубых елках, росших перед самым высоким зданием города Н. в три этажа.
Госпожа Петра
Урок английского начался как обычно. Примерно полкласса встало, чтобы поприветствовать госпожу Петру. Вон сильно ударил Слепую Марию ногой в пах, когда она нагнулась, чтобы подобрать тетрадки, которые сбросил с парты Габриэль. Слепая Мария покраснела от боли, но не извлекла никаких звуков, надеясь избежать дальнейших унижений. Вон и Габриэль громко заржали, а госпожа Петра вытянула шею в знак того, что она их слышит, видит и не одобряет происходящего. Дальше этого ее воспитательные приемы почти никогда не заходили.
Госпожа Петра была самой молодой учительницей в их школе. Необычным был не только ее возраст. Казалось, она так и не смогла войти в свою роль, как другие учительницы и учителя – в ее голосе никогда не звучало тех особых металлических нот, которые требовались для сохранения порядка в классе. Напротив, ее голос был тихий и мягко шелестящий, как луг из высокой травы ветреным летним днем. Выглядела она соответствующе – длинные русые волосы окаймляли ее кроткое овальное лицо с маленькими драконьими ноздрями, которому она в минуты кризиса безуспешно пыталась придать более решительное выражение.
Мартину давно хотелось спросить Фи, жалко ли ему Слепую Марию и госпожу Петру. Продемонстрировать такие чувства открыто было бы делом необычайным. Не принимать участия в травле, не изводить учительниц и учителей было уже довольно опасно, и Мартин мужественно принимал этот риск. Но ему казалось, что этого недостаточно. Ему было совестно оттого, что он не заступается за несправедливо обиженных. Однако и они за него никогда не заступались, когда его несправедливо обижали, и эта мысль его немного успокаивала.
Госпожа Петра была Слепой Марией из учительниц. Даже самые тихие, во многих случаях совсем не злые ученицы и ученики не считались с ней. Ее голос тонул в гаме всеобщего веселья во время всех ее занятий.
Мартин вспоминал ее первый урок. Разумеется, когда она появилась, прозвучало несколько унизительных звуков и комментариев по случаю ее молодости и половой принадлежности. Но по-настоящему невыносимым в этой истории был энтузиазм на ее лице. Она в самом деле верила, что доброе отношение и продуманная метода принесут здесь какую-то пользу. Мартину тоже хотелось в это верить, но уже в тот первый момент, когда она возникла перед ними со своим кротким воодушевленным лицом, ему стало тяжело и больно за ее горькое разочарование в самое ближайшее время. Заниматься на ее уроках едва могли даже те немногие, кто пытался это делать, из-за постоянного шума в классе. И госпожа Петра была вынуждена с этим примириться.
Но сегодня энтузиазм по какой-то неведомой причине к ней вернулся. Наверно, она прочитала накануне какую-нибудь вдохновившую ее книгу, подумал Мартин. Даже Вон и Габриэль на несколько минут забылись и притихли в лучах ее улыбки победительницы. Но уже ко второй четверти урока все вернулось на свои места, и голос госпожи Петры был снова с трудом различим на фоне полногласных возгласов и смешков. Однако в этот раз учительница не хотела с этим мириться. Она как будто решила во что бы то ни стало не провалить больше ни единого урока. И одним вытягиванием шеи в сторону источников безобразий в этот раз не ограничивалась. А класс, в противовес ей, особенно разошелся. Через парты летали жеваные бумажки, застревая в волосах Слепой Марии и вызывая шквал веселья. Воздержавшиеся от этой забавы громко обсуждали не имевшие отношения к уроку английского дела. На госпожу Петру почти никто не обращал внимания. Некоторые все же приумолкли, когда она, возможно, впервые в жизни, слегка повысила свой мягкий голос. Но в целом ничего не изменилось. Мартин видел, что она в отчаянии. Обычно в таких ситуациях учительницы и учителя грозили выгнать самых буйных нарушителей. Но госпожа Петра сделала по-другому.
– Если вы не успокоитесь, я уйду.
Ухмылок с большинства лиц это заявление не стерло, но многие были удивлены. Парта Вона раскачивалась как шлюпка, попавшая в шторм. Госпожа Петра вышла так тихо, что последние парты даже не сразу это заметили. Мартину было стыдно, грустно и тоскливо. Ему показалось, что когда она уходила, в ее глазах стояли слезы. В классе стало почти тихо. Все сидели на своих местах в замешательстве и ждали, что случится дальше. А дальше случилось невероятное. Фи встал и тоже вышел за дверь. За ним никто не последовал. Через минуту он вернулся вместе с госпожой Петрой. Мартин никогда не спрашивал, что он ей тогда сказал. До конца урока в классе сохранялась поразительная тишина, в которой было прекрасно различимо каждое шелестящее английское слово госпожи Петры.
Кошмар
Мартину снилось, что госпожа Лилия, новая подруга отца, протягивает ему с улыбкой маленькую дамскую сумочку, расшитую стеклярусом, и предлагает поместить в нее шифоньер из их гостиной. Он не знает, что ответить и как разрешить эту ситуацию, так что она длится бесконечно долго и кажется как-то связанной с картиной, на которой у слонов длинные тонкие ножки. А потом шифоньер вместе с сумочкой превращаются в огромную фигуру с кожей человека, но без лица и только с отдаленно напоминающими руки и ноги конечностями, скрученными и перепутанными между собой. Мартин смотрит на эту фигуру и одновременно сам является ею, он страдает, но не от боли, а чего-то такого, чему нет названия, и только предложение госпожи Лилии поместить шифоньер в маленькую дамскую сумочку могло бы описать это страдание.
Когда Мартин проснулся, он продолжал ощущать его, и не знал, куда ему от него деться. Он встал и пошел на кухню, выпил немного воды и прильнул лбом к прохладному оконному стеклу. Лампу он не включал, так что в слабом голубоватом свете нескольких фонарей были отчетливо видны турники и качели на площадке перед их домом. Мартин попытался представить, как днем он с Фи кувыркается вокруг этих турников; всего было два способа кувыркаться – вперед через пояс и назад через колени. Или как Клелия ищет их по всему двору, пока они сидят в канаве позади дома (играют в прятки). Ему стало легче от этих мыслей, хотя все это и казалось ужасно далеким, а качели с турниками выглядели сюрреалистично и даже зловеще. Он не мог заставить себя вернуться в постель, и к нему пришла отличная идея. Он закрыл на кухне дверь, чтобы никого не разбудить, зажег лампу, поставил на огонь чайник и включил телевизор. Следующие несколько часов он смотрел рекламу и очень странный фильм. Он был про женщину, которая любила наряжаться в экстравагантные наряды и, возможно, была как-то связана со смертью своего брата. И про мужчину, который случайно провел с этой женщиной ночь, а потом и день и так и остался жить в ее доме, представлявшим из себя промежуточный вариант между старым дворянским гнездом и современной дизайнерской виллой. Обои в этом доме были исключительно розового цвета, из стен прихожей торчали такие же розовые свиные головы, а ужин подавали за таким длинным столом, что сидевший с одного его края не мог различить лица сидевшего с другого. В каждом новом кадре на женщине менялись наряды, в основном пышные длинные платья, похожие на те, что девушки в его городе надевают на выпускной бал. Было совершенно неясно, задумывался ли этот фильм как комедия, или мелодрама, или триллер, или детектив или что-то еще. Нельзя сказать, что все эти жанры были в нем одинаково сильно выражены. Скорее ни один из них не был выражен почти никак. Мартин был уже достаточно искушен и понимал, что это «плохой» фильм. Гораздо позже он будет специально отыскивать такие «плохие» фильмы и смотреть их, наслаждаясь чувством безопасности, которое они ему внушают, а также испытывая вдохновение, подобное тому, которое открылось ему при виде зазора с мусором на грязной городской лавочке. Он вообще будет много чего смотреть. Банальные фильмы про любовь, небанальные фильмы про любовь, фильмы про дружескую любовь, фильмы про несчастную любовь, фильмы про счастливую любовь, фильмы про запретную любовь, фильмы про смерть, фильмы про смерть от любви, фильмы про смерть без любви, фильмы про спасение от смерти, фильмы без спасения, фильмы без смерти, фильмы о красивых людях в красивых костюмах с красивыми вещами, фильмы о смерти среди красивых костюмов и красивых вещей, фильмы о любви среди красивых костюмов и красивых вещей, фильмы о любви и смерти среди красивых костюмов и красивых вещей, фильмы о некрасивых людях в некрасивых костюмах с некрасивыми вещами, фильмы о смерти среди некрасивых костюмов и некрасивых вещей, фильмы о любви среди некрасивых костюмов и некрасивых вещей, фильмы о любви и смерти среди некрасивых костюмов и некрасивых вещей, веселые и смешные фильмы, веселые и смешные фильмы о любви, веселые и смешные фильмы о смерти, фильмы со счастливым финалом, фильмы с несчастливым финалом, фильмы с открытым финалом, фильмы-загадки, фильмы-аллегории, фильмы-путешествия, фильмы-пародии, фильмы-откровения и, его любимые, плохие-фильмы-непонятно-о-чем. Он будет смотреть их все, иногда по несколько штук за сутки.
В городе К. он обнаружил видео-прокат, в котором фильмы на любой вкус выдавала за вполне приемлемую плату госпожа Козетта, женщина-вамп преклонного возраста, очень умная и красивая – подметил про себя Мартин, всегда обвешенная таким количеством украшений, что каждое ее движение производило звонкое металлическое бряцанье.
Ваза