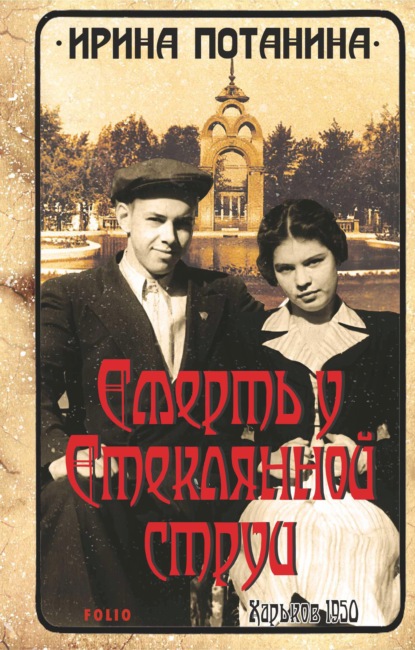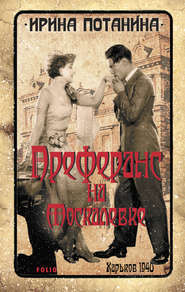По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смерть у стеклянной струи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Незнакомец сел, по-бабьи скрестив ноги, и, сложив руки на груди, принялся дробно стучать пальцами. Колю это ужасно отвлекало.
– Знакомься, Горленко. Это… – Тут Глеб растерянно поморщился, словно не зная, может ли назвать имя длинного. – Это представитель заводской общественности Изюма. Их предприятие и вызвало чехословацкую делегацию в Харьков. Вернее в область. А в Харьков они уже на завершающем этапе приехали. Чтобы, как я понимаю, закрепить успех совместной деятельности и город посмотреть…
– Скорее, чтобы утвердить планы с кем следует, – поправил незнакомец. – И утвердили. И мы с вами должны сделать так, чтобы происшедшее наших партнерских связей с Чехословакией не отменило. Эта делегация много значит для нашего завода. Я не могу компетентно рассказать о технических подробностях, мои обязанности лежат немного в другой сфере, но просто знайте – эти люди нам важны. Жизненно необходимо, чтобы оставшиеся члены делегации уехали от нас в добром здравии и без страха вернуться снова. Покажите класс советской милиции! Найдите преступников поскорее!
«Он из Первого отдела завода, – смекнул Коля. – Секретчик, причем явно не из простых. Вот «счастье» привалило!»
– В общем, – Глеб взглядом спросил у посетителя разрешения продолжать и, получив добро, выпалил: – Пока ты осматривал место преступления, мне позвонили и очень попросили добиться права вести это дело. Нам оно, конечно, сто раз еще аукнется и поперек горла встанет, но раз нужна наша помощь, отказать мы не можем. Как сказал Максим Горький: «Личный эгоизм – родной отец подлости». – После недавних курсов профпереподготовки Глеб стал повсюду вставлять красивые цитаты, и Коля, который курсы тоже посещал, немного завидовал, что у шефа оказалась такая всеобъемлющая память.
Глеб продолжал: – Я хорошим людям подлянку подкладывать не хочу, поэтому согласился. Нам повезло, что грабители накалякали кошачью метку – раз я считаю, что на вверенной мне территории орудуют преступники такого масштаба, я могу поднять скандал и возмутиться, что нас хотели отстранить от дела. Имею право требовать причастности, так сказать. И потребовал. На самом деле я отчеты-то читал и понимаю, что это убийство – дело дилетантов. Но нужно было сделать вид, что я поверил в «Кошку». А дальше – разберемся. Вернее – ты разберешься. Завод просил привлечь к расследованию лучших спецов. Я и привлек. И тут ты со своим «слишком хорошо знаком»…
– И это радует! – вмешался незнакомец. – Я ведь вам говорил, Глеб Викторович, как важна в этом деле деликатность. Иностранные гости, несмотря на ужас сложившейся ситуации, должны остаться довольны не только профессионализмом, но и человечностью советских органов милиции. Мы, конечно, распространили это мнение по всем инстанциям, но будет спокойнее, если лично вы… Впрочем, я вчера вам уже все объяснил…
Коля еле сдержал вырывающееся: «А мне не объяснили!»
– А вам, – заметил посетитель, будто прочитав его мысли, – Глеб Викторович сам все растолкует, если сочтет нужным. Я, собственно, пришел сейчас осведомиться, кто будет вести дело и, так сказать, взглянуть опытным взглядом. Взглянул, доволен. Это очень хорошо, что вы с Ириной Грох знакомы. Тем больше у нее поводов доверять нам и не нервничать попусту. О вашем отстранении от дела речи быть не может!
Коля уже предчувствовал, что пропал, но все же обернулся с надеждой и возмущением к Глебу.
– Что? – буркнул тот. – И мог бы, ничего не стал бы делать. У нас ответственное дело с повышенным контролем. В том числе от производства – от ключевой опоры государства, которое, между прочим, окружено врагами и нуждается сейчас в защите каждого спеца. – Глеб говорил четко, словно на партсобрании. – Естественно, что ты, Горленко, должен расследовать… Гордись…
За спиной тихонько скрипнула дверь. Таинственный представитель завода вышел не прощаясь, и сразу стало ясно, что Глеб его присутствием ужасно тяготился. Он тут же оживился, выскочил из-за стола и потащил Колю в глубь кабинета. Несмотря на хромоту, небольшой рост и очки хлюпика-интеллигента, лапища у Глеба Викторовича была крепкая. Горленко через миг уже торчал у распахнутого окна.
– Кто его знает, что он после себя оставил, – шепнул Глеб, явно опасаясь прослушки. – А тут шум с улицы. Хоть каплю, да надежней. – Он тяжело дышал и делал «страшное» лицо. – Меня про этого типа с са-а-амого верха предупредили, – Глеб показал рукой на потолок. – Мол, слушайся и цени, что обратится именно к тебе. Но я и сам помогал бы ему. Ты же знаешь, у меня отец в Изюме не последний человек. Наверное, потому к нам и обратились. Похоже, недоверие назрело у заводчан к кое-кому из наших. Там, – тут он указал рукой на дальний угол потолка, – не хотят скандала и мечтают всё быстренько раскрыть и вернуть трех оставшихся в живых инженеров на родину, чтобы те потом, как и планировалось, приезжали вновь без камня за пазухой. А там, – другой рукой Глеб показал прицельно на карниз, – наших хлебом не корми – дай шпионов найти. И тут, – он указал на люстру, – всем наплевать, кто прав, кто виноват, а важно только, чтобы дело побыстрее рассосалось, и к майской демонстрации мы были истинным примером для остального соцлагеря – ни банд, ни попрошаек, ни пьяных рож, ни преступлений…
Коля давно привык, что в голове у Глеба разные части потолка означают разное начальство, но не запоминал, какое где, и даже разбираться в этом мракобесии не хотел.
Суть разговора уже была понятна. От дела не откажешься, хоть вой. И почему-то, вместо того, чтобы кричать, что Глеб ввязался в интриги, а всему отделению придется отдуваться, расшаркиваясь с пострадавшими иностранцами, Коля думал совсем о другом. И было это другое ничуть не менее болезненным и неприятным: сейчас придет Морской. С ним нужно будет как-то говорить…
Решив передать дело, Николай планировал и встречу с Морским перекинуть на коллег. Пусть расспросят еще раз, все запротоколируют да отпускают восвояси. А тут, выходит, снова нужно общаться лично. И ведь наверняка как вчера – достойно и по-деловому – уже не выйдет. Зря Коля радовался, что вроде пообщались спокойно, сыграли завершающий почти мажорный аккорд в многолетней дружбе, и можно, чтобы снова не испортить память руганью, на этом всё завершить и больше не общаться. Но нет!
«Вы многое уже мне рассказали, но сейчас нужно задокументировать», – мысленно проговорил Коля, продумывая правильное начало разговора.
«Ты трус и предатель, – отвечал в мыслях Николая голос Морского. – При Вере просто не хотелось об этом говорить».
Подобным образом Морской в воображении Коли давно уже отвечал на любые мысленные попытки пообщаться. Даже когда Коля хотел помириться и прокручивал в голове возможное извинение. Хотя ведь извиняться по сути было не за что!
Год назад Галина Морская устраивала, как обычно, пятничные посиделки. Светлана поехала сразу после работы, чтобы помочь накрыть на стол, а Коля прибыл позже, причем даже не переодевшись после отвратительного ареста маньяка. Ладно бы, после чего нормального – а тут… Обычный мотальщик[10 - Так в народе в те годы называли эксгибиционистов-онанистов (от глагола «мотать»).] из сада Шевченко, на которого милиция закрывала глаза уже полгода – не хватать же всех извращенцев без разбора, – перешел черту и стал убийцей. И заподозрили его лишь после третьей жертвы… Нашлись свидетели, Коля с ребятами гада задержал. Потом в мерзейшем настроении после такого дела все же поехал за женой в гости и чуть ли не с порога услышал от Морского каверзный вопрос: «Вот вы, прогрессивная общественность, охранники порядка, что думаете о критических статьях в адрес советского театра? И даже – плевать на остальных – что лично ты, Коля, считаешь? Надо бранить или пускай халтурят?» Горленко и сказал, как думал: «Критиковать – проще всего и, главное, бессмысленно, не по-товарищески и не по-советски. Особенно, когда речь о театре. Люди пошли в деятели культуры, а не в бандиты и убийцы, как многие после войны. Им хотя бы за это надо сказать спасибо, а не тыкать носом в успехи чужих постановок, особенно, если постановки эти были давным-давно, показывались только богачам и угнетателям народа». Коля действительно с некоторых пор стал думать о работе друга плохо. Пусть лучше бы Морской писал в газетах на другие темы, а в институте преподавал не критику, а… ну… историю театра, например. Раньше просто не было повода высказаться, а тут ведь попросили. «Но смысл искусства критики в том, чтобы, указывая на недостатки, искоренять их», – пролепетал кто-то из присутствующих. «Газеты и журналы – не искусство, а ответственная работа, призванная укреплять патриотизм и искоренять упаднические настроения!» – неожиданно для самого себя выпалил Коля услышанную недавно по радио мысль. И добавил для полноты картины фразу приглашенного оратора, выступавшего недавно на закрытом совещании в отделении: «Сейчас нельзя жить и работать, не ощущая гордости за успехи советского народа. Так может поступать только вредитель»… Да, не свои слова сказал, но мысль-то подходящая. И этой честной мыслью Коля, похоже, Морского и добил. Тот побледнел и перешел на «вы»: «Не может быть, что… Впрочем, да… Мне говорили, что от вас и надо ждать подобного. Трус и предатель! Я не ожидал…»
Все выяснилось позже, когда Светлана по дороге домой, всхлипывая, озвучила свое: «Честно, но ужасно». За мнение она, конечно, мужа не корила – у нас в конце концов свобода слова. Но вот за то, что не промолчал и не поддержал этим молчанием друга в трудный момент – ругала страшно. Оказалось, у Морского неприятности на работе: его снимают с должностей и песочат на собраниях, и разоблачение вредителей-критиканов, о котором говорят по радио, касается не только центральной прессы и тамошних деятелей, но и Харькова. Откуда Коля мог знать, что как раз сегодня Морскому устроили проволочку на работе? А знал бы, разве б на прямой вопрос стал другу врать? И, кстати, трое человек из тех, кто был тогда на вечере (всего их было шестеро), потом нашли Горленко и сказали спасибо, что не стал кривить душой, как они, поддерживая раздутое самомнение хозяина квартиры. С раздутостью самомнения они, конечно, перегнули – Морской действительно был умным и хорошим человеком, заслуживающим уважение своими знаниями… Просто запутался и забыл, что служить нужно, прежде всего, своей стране, а уж потом – искусству или еще чему-нибудь эдакому. А еще забыл, что друзья, если они настоящие, а не подхалимы какие-то, говорят правду, и обзывать их предателями по этому поводу – низко. Ну, в общем, вышла ссора, и бывшие друзья разошлись, как в небе журавли.
– Ты меня слушаешь? – Глеб Викторович даже стукнул задумавшегося Колю по плечу, чтобы растормошить. Тот вздрогнул, закивал и сделал вид, что пялится в окно. – А! Это же Морской? – воскликнул Глеб через миг, указывая на спешащего ко входу в отделение визитера. – Раз так, то ясно, отчего ты весь в раздумьях. И мой ответ: да, надо вербовать. Если у Ирины Грох имеются какие-то тайны, то Морскому, сделайся он с твоей подачи опять ей мил, она наверняка расскажет все, как есть. Так что ты уж постарайся, найди, чем надавить – пусть он ее расколет.
День становился для Коли Горленко все гаже и гаже.
Глава 4. От судьбы не уйдешь
Попытка поговорить с бывшей женой обернулась для Морского очередной нелепостью. Неудивительно – с Ириной все всегда было непросто. Накрученный увещеваниями Галочки о совести и удачно подвернувшейся «просьбой» Николая, Морской все же решил наведаться к гражданке Грох с соболезнованиями.
Нет, разумеется, он сказал, что ничего не обещает, в ответ на спутанные доводы Горленко. Все эти: «Я не хотел бы, но должен обязать вас поговорить с пострадавшими в неофициальной обстановке. Расценивайте это как призыв их успокоить…» попахивали четким «Станьте нашими ушами». Горленко напрямую не сказал, Морской не слишком внятно отказался, но все-таки пошел.
И вот, уже дойдя от площади Розы Люксембург до гостиницы «Интурист», Морской чуть не повстречался с собственной дочерью. Ларочку, судя по всему, бывшая мачеха взяла в оборот еще с утра. Сейчас Ирина и Лариса сидели на ступеньках входа в ресторан, которым Морской собирался воспользоваться по привычке. Бывший газетчик, по долгу службы частенько навещавший гастролеров, он знал, что это самый быстрый способ: администрация в вестибюле торопливостью не отличалась, а официанты в ресторане, предвидя чаевые, охотно соглашались телефонировать в нужный номер и спросить у постояльцев о желании перекусить с внезапным визитером.
Сперва, признаться, заслышав воодушевленное щебетание на крыльце, Морской решил, что это здешние кокетки-сердцеедки, коих в СССР гоняли почему-то везде, кроме гостиниц. Он быстро надвинул шляпу на нос и уже собирался уверенно пройти мимо, но тут приблизился настолько, что разобрал слова и голоса.
– А если сахара не жалко, то кудри крутишь на газету и закрепляешь сладкой водой. Держатся неделю, как железные. – говорила Лара. – И волосы завивкой не палишь, и выглядишь прилично. Если, конечно, осы не налетят и тополиный пух не налипнет. Хотя Олегу больше нравится, когда я, вот как ты, хожу с пучком. Но тебе идет. А мне, смотри, не очень… Олегу, может, потому и нравится, что на такую прилизанную крысу никто не посмотрит…
– Не выдумывай! Тебе по-всякому красиво, – серьезно вторила Ирина. – Кстати, я недавно читала в газете, что в Америке для закрепления кудрей придумали специальный спрей. Такая распыляющаяся паутина для волос. До нас это, конечно, не дошло. И не дойдет уже, в Чехословакии теперь все очень строго. В общем, пока у нас все крутят волосы на пиво.
– Фу-у-у! – перебила Ларочка. – Я пробовала. Запашище – жуть… Хотя, возможно, пиво пиву рознь…
– И кстати – только не надумай обижаться, – продолжала Ирина, – хочу сказать, что накладные плечи, которые у советских дам сейчас в ходу, нигде в мире уже не носят. Во всех парижских журналах пишут, что подплечники категорически устарели. Отпори их…
– Да уж, – хмыкнула в ответ Лариса. – Хорошенький у вас социализм: новости про Америку в газете оповещают не о загнивании, а о прическах, да еще и парижские журналы под рукой… У нас такого нет. И хорошо! Завидовать противно…
Собеседницы тихонько рассмеялись. Ирина – горько, Ларочка – задорно. Морской стоял к ним очень близко, но не выходил из-за колонны и оставался незамеченным. Сначала он оторопел: и оттого, как эти две болтуньи легкомысленны – услышать разговор мог кто угодно!) – и оттого, как с истинно женским талантом совмещать несовместимое они умудряются одновременно обсуждать и моду, и политику, и мужчин. И оттого, что два облака дыма и характерный запах сообщали, что и Лариса, и Ирина курят.
Морской, конечно, знал, что дочь уже большая, и даже удивлялся, если в своих кругах встречал светскую женщину Ларочкиного возраста без папирос. Но все же то были коллеги и чужие дети, а тут – своя… С Ириной тоже все отныне было ясно. Папироса в ее руках означала две вещи. Первая: мадам бросила балет – обладая слабыми легкими, она с детства боялась не справиться с дыханием в ритме танца и тщательно следила за здоровьем, сокрушаясь, что все коллеги, мол, еще с подросткового возраста смалят без остановки, а ей, увы, нельзя. Вторая: оказывается, давние Иринины рассказы о непереносимости табачного дыма были выдумкой. То есть Морской семь лет семейной жизни зря рисковал схватить воспаление легких, выходя для перекуров на балкон или распахивая окно кухни в лютый холод. Кругом обманы и напрасный риск!
– Как мило, Лара, что ты пришла со мною пообедать, – вздохнула между тем Ирина. – Мне правда было очень одиноко и страшно. Но теперь уже лучше. Спасибо!
– Я не могла не прийти, ты же знаешь. Вчера я растерялась и не успела ничего сказать… Конечно, глупо, что и сегодня все так на бегу и до отъезда обо всем не поговоришь.
– До отъезда? – Ирина удивилась, но тут же со свойственным ей эгоизмом истолковала Ларочкину мысль по-своему: – Почему ты так уверена, что я уезжаю? То есть по планам мы действительно должны были завтра покинуть Харьков. Но ведь все вместе, понимаешь? А теперь спешить некуда. Или есть куда, я уже не понимаю. Я не могу решить, уехать или нет, и значит, буду придерживаться уже намеченного плана. Вернее, перенамеченного заново. Вчера я уговорила руководителя делегации в память о Ярославе продлить командировку и остаться всем тут, пока убийцу не найдут. Нельзя же уезжать, оставив тело Ярослава тут. А следователи его пока не… ну… не отдают. Значит остаемся. Но так рискованно… Мне страшно. Нет, все же уезжаем… Я немедленно скажу, что передумала и надо уехать. Правильно? – Разговаривала она явно сама с собой, но Ларочка решила вмешаться.
– Ты говоришь так, будто нездорова. Или сосредоточься и все четко объясни, или давай спишем все на переутомление, и ты пообещаешь, что станешь разбираться с этой путаницей, только когда отдохнешь.
– Решение-то я должна принять сейчас! – вздохнула Ирина с явным отчаянием в голосе. – Но если сосредоточиться, то оно очевидно. Но ведь помимо всего прочего еще важно, что пристальное внимание нашей делегации ускорит дело. Наших у вас ценят. Хотя без Ярослава, наверное, уже и не так сильно. – Тут она сменила тональность и повторила нараспев: – Бе-ез Яро-слава… Дикость какая-то! Никак не могу поверить, что это случилось…
– Сочувствую, – осторожно подала голос Ларочка.
– Только больше не расспрашивай, – резко перебила Ирина. – Я попросту не справлюсь отвечая. Прости. Я соберусь с духом и все тебе расскажу. Кому как не тебе можно раскрыться?
Морской скривился от презрения к себе. Горленко был бы счастлив! Его посланник, мол, не только сам пришел просить откровенного разговора, но и не гнушается подслушивать чужие беседы… Но что же делать? Выйти из-за колонны – значит показать, что ты стоял в засаде. Удалиться – слишком рискованно: кто знает этих сплетниц, может, сначала не заметили, а на любое новое движение отреагируют. Вот незадача! Он продолжал стоять как истукан, изображая прилипшего к колонне идиота.
– Расскажи лучше побольше о себе, – просила в это время Ларочку Ирина. – Или опять про Леночку… Ты так чудесно говоришь о ней, я таю…
Своих детей у Ирины быть не могло по медицинским причинам. Она не признавалась, но, конечно, переживала. Как грубо и глупо в этой ситуации вела себя Лариса, хвастаясь Еленой! Морскому немедля захотелось отчитать дочь за бестактность. Что было, в общем-то, смешно, с учетом его нынешнего куда более неприличного поведения.
– А лучше, – не унималась Ирина, – опиши-ка мне Олега. Насколько он похож на твоего отца? Такой же пижон или скромняга? Ты в детстве заявляла, что выйдешь замуж только за Морского. Помнишь?
– Не помню, – призналась Лариса. – Мне говорили, что я была умненькой, а выходит, нет… – Снова раздался приглушенный смех. – А про Олега и не знаю, что сказать. Мы вместе счастливы. Надеюсь, так будет и дальше. Но начиналось все, конечно, со скандала, – по тону чувствовалось, что Ларочке нравится это вспоминать. – Познакомились мы в гостях, причем нас все друзья давно уже настойчиво хотели видеть парой, потому при мне все беспрерывно говорили об Олеге, а при нем – обо мне… В общем, еще до встречи мы друг другу изрядно надоели.
Морской затаил дыхание, осознав, что не знал эту историю. Причем не потому, что дочь что-то скрывала – просто он сам ни разу не спросил.
– Я к тому времени три года, как оплакивала Митю – свою первую настоящую любовь, – продолжала Лариса. – Думала, никогда не справлюсь с горем. Жених-не жених – не важно. На самом деле я и не знала его толком. Хотя в любви друг другу признавались… Он был приписан к восстановителям Харькова, но в 44-м их внезапно отправили на фронт. И… похоронка. Вокруг таких историй очень много, и я, конечно, понимала, что негоже уподобляться мрачным вдовам, – Лариса допустила очередную бестактность, но снова не заметила, – и ставить крест на будущем. Но поделать ничего не могла. Злилась ужасно, когда в институте политрук твердил: каждая советская женщина обязана создать ячейку общества, родить советскому народу новых граждан… Далее по тексту. Ты знаешь наверняка, что они там говорят, – у них у всех одно и то же в методичках…
– Не знаю, – поправила Ирина. – Но и не удивлена.