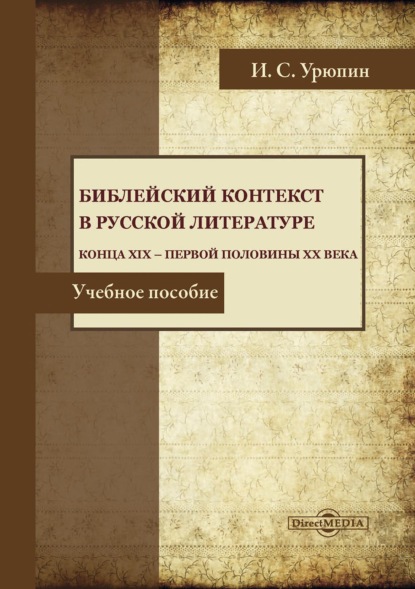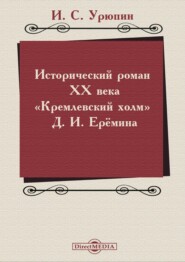По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Библейский контекст в русской литературе конца ХIХ – первой половины ХХ века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Библейский контекст в русской литературе конца ХIХ – первой половины ХХ века
Игорь Сергеевич Урюпин
Учебное пособие посвящено анализу творческой рецепции библейского текста в русской литературе конца XIX – первой половины XX века, является частью (модулем) учебной дисциплины «Неомифологизм в русской литературе XX века». В центре внимания автора оказываются произведения В.Г.Короленко, Л.Н.Андреева, Ю. Л. Слёзкина, С. С. Бехтеева, И. А. Бунина, М. Горького, Б. К. Зайцева, Е. И. Замятина, М. М. Пришвина, М. А. Булгакова, С. Н. Булгакова, в которых художественно трансформировались мотивы, образы, мифологемы Священного Писания.
Пособие предназначено для студентов-магистрантов и аспирантов гуманитарных направлений подготовки и всем тем, кто интересуется русской литературой и культурой.
Игорь Сергеевич Урюпин
Библейский контекст в русской литературе конца ХIХ – первой половины ХХ века. Учебное пособие
Предисловие
Наверное, кто-то скажет, открыв это учебное пособие, что вся русская литература, и даже в значительной степени советская, имеет религиозный, как правило, христианский подтекст. Кто-то даже заметит, что и вся классическая европейская литература во многом на нем построена – и тоже будет прав. А уж о русской классической и говорить нечего. Без библейского контекста невозможно себе представить не только романы конца XIX века, но и поэзию его начала. Вот только период Серебряного века, о котором говорится в настоящем учебном пособии, представляется как будто несколько выходящим за рамки общей традиции.
Тем важнее труд, за который взялся и достойно осуществил автор этой работы И. С. Урюпин, – он представил литературу рубежа XIX и XX веков как литературу также вполне христианскую. Пусть и трактующую христианство порою далеко не ортодоксально. Что, в общем, естественно. Ведь, как и в целом общественная мысль в то время была на определенном изломе, в поиске чего-то нового, так и привычный для отечественной словесности библейский контекст очень часто оказывался полем для разного рода экспериментов и споров литераторов друг с другом.
Урюпин отмечает эти полемики, заочные нередко, например, между А. М. Горьким и И. А. Буниным. Их позиции действительно были противоположны друг другу, но, как казалось, отнюдь не по религиозному вопросу и в большей степени уже после революции. Но все-таки сравнение их духовных позиций представляется совершенно справедливым. Студентам-филологам легче понять, почему русская литература и вообще общественная мысль России раскололась на условных «большевиков», большинство литераторов, поддержавших Великий Октябрь, и не менее условных «меньшевиков», которые, напротив, революцию не приняли.
Для художников слова это был не только классовый и социальный выбор, но и морально-нравственный. Одни сохранили прежнюю веру, а многие, видя народные страдания, ее утратили и стали предвозвестниками новой религии. Образно говоря, бывшие богоискатели продолжили свои поиски, а недавние богостроители стали строить нечто совершенно новое, невиданное в человеческой цивилизации верование – во вселенское счастье и братство на земле.
Споры были жаркими, приведшими в конечном счете фактически к расколу русской литературы в ходе Гражданской войны. Хотя общего корня те и другие, белые и красные, уже без кавычек, не теряли. Те и другие по-своему любили Россию, искали и строили пути для ее процветания. Но в итоге разочарование ждало тех и других. Белые так и не нашли своего Бога и понимания в широких массах, а красные так и не смогли построить альтернативу в полном смысле этого слова.
Но парадокс заключается еще и в том, что и те, и другие все равно говорили со своими читателями на одном общем, во многом евангельском языке. Именно его очень удачно расшифровывает для читателей Урюпин. Но он не пытается разгадать все загадки с библейским подтекстом, давая возможность тем, кто будет использовать его учебное пособие, самим найти рецепцию Евангелия и других библейских текстов самыми разными литераторами – не только упомянутыми выше Буниным и Горьким, но и Андреевым, Замятиным, Зайцевым, Пришвиным и мн. др. Возможно, не хватает знаменитых поэтов Серебряного века, но это открывает широкое поле для дальнейших исследований, причем как самим автором книги, так и теми, кто пойдет по его стопам.
Очень важно также включение в контекст исканий рубежа веков такой выдающейся фигуры, как Л. Н. Толстой и основанного им течения – толстовства. Оно стало не только закономерным и ожидаемым итогом его духовных исканий, пришедшимся волею судьбы на это переломное время
Толстовская «Исповедь» словно передала горьковской духовную эстафету. Тот ее подхватил, слегка приземлив. Впрочем, не менее религиозной, о чем много говорилось и говорится, представляется его «Мать». Она фактически предопределила эволюцию автора от богостроительства к марксизму, пусть и не вполне научному.
Мировоззрение Горького было в той же степени сложным и противоречивым, как и само то время, в которое он жил и работал. В дальнейшем сам себя он представлял как убежденного атеиста. Даже в последние свои часы в бреду Алексей Максимович спорил с Богом. Но, с другой стороны, раз спорил, то невольно перед кончиной признал существование некоей высшей силы.
Хотя сам в определенном смысле оказывался уже для новой волны литераторов в известном смысле вплетенным в евангельский контекст. Андрей Платонов в известных своих литературоведческих эссе «Пушкин – наш товарищ» и «Пушкин и Горький» представил его ни больше ни меньше, как новым Иоанном Крестителем. Он в оригинальном понимании автора «Чевенгура» и «Котлована» предвозвестник Спасителя, нового Пушкина.
Учебное пособие Урюпина дает возможность поразмышлять над подобными, иногда парадоксальными концепциями. Хотя формально книга, которую вы держите сейчас в руках, – это курс лекций, вобравший опыт преподавательской деятельности автора, фактически же это гораздо более широкое учебное издание, рассчитанное на творческий подход тех, кому оно предназначено. После каждой главы даются не только вопросы для закрепления изученного, но и темы исследований, в которые могут превратиться конспекты и доклады студенты.
Собственно, это и делает труд Урюпина особенно полезным в качестве пособия для начинающих литературоведов. В своих работах они смогут подтвердить или опровергнуть гипотезы автора. Одна из таких тем-предположений «Библейская «археология» в творчестве В. Я. Брюсова и Д. С. Мережковского» очень точно передает суть той тонкой литературоведческой методологии, которую реализует в своей научной деятельности сам Урюпин и которую настоятельно советует тем, кто идет по его стопам. Им действительно предстоит провести настоящие «раскопки» в архивах и библиотеках, чтобы найти тот самый библейский контекст, который может быть скрыт под толщей слов и мыслей.
В рефератах они смогут наметить контуры возможных поисков – а это ключевая задача любого учебного пособия для слушателей магистратур и аспирантов. И с ней И. С. Урюпин блестяще справляется. Он дает в руки будущих исследователей инструмент, который поможет им увидеть христианские корни в самых разных текстах как эпохи рубежа XIX и XX веков, так и предшествующих и последующих. Ведь в литературоведческой науке сделать предстоит еще немало удивительных открытий о Серебряном веке. И книга Урюпина дает для этого молодым исследователям необходимый задел.
Александр Евдокимов,
Старший научный сотрудник ИМЛИ РАН
DOI: 10.23681/599934
Введение
Великой Книгой стало для человека и человечества Священное Писание – сокровищница божественной мудрости и вдохновения. «Чтение Библии», – замечал В. В. Розанов, – «омывает душу» [197, 462], «поднимает, облагораживает; и сообщает душе читающего тот же священный оттенок, то есть настроенность в высшей степени серьезную, до торжественности и трагизма, каким само обладает. В сравнении со всякими другими книгами, это – как чистая вода горного ключа», несущая «освежение и воскресение» [197, 463]. На протяжении веков Библия была и остается главной Книгой человечества, поистине Книгой Книг, в которой содержатся ответы на все без исключения вопросы о жизни человека во времени и вечности, о смысле его бытия. И потому неудивительно, что Священное Писание духовно питает мировое искусство, философию, науку и, конечно же, литературу, выступая источником ее сюжетов и образов, мотивов и мифологем.
Русская литература, укорененная в отечественной религиозной культуре, на протяжении веков развивалась под мощным влиянием Священного Писания, используя и художественно трансформируя ее образно-смысловой ресурс, полижанровую природу и идейно-аксиологическую направленность. Выявление характера и степени творческой рецепции библейского текста русскими писателями конца ХIХ – первой половины ХХ века составляет главную цель предлагаемого учебного курса, являющегося частью (модулем) дисциплины «Неомифологизм в русской литературе ХХ–ХХI веков».
Учебное пособие раскрывает идейно-философские, культурно-исторические, когнитивно-онтологические закономерности в литературном процессе конца ХIХ – первой половины ХХ веков, которые необходимо учитывать при системном анализе художественных произведений. Интерпретация мотивов, мифологем, сюжетов, аллюзий и реминисценций, связанных с Библией, исследование этико-эстетических доминант и архетипических образов, генетически восходящих к ветхозаветному и новозаветному текстам, определяют логику модульного курса, его содержание и методологический аппарат.
Русская литература ХХ века, вобравшая в себя и творчески синтезировавшая социокультурные и этико-эстетические традиции предшествующих эпох, оказалась предельно насыщена мифо-философским содержанием, потребовавшим оригинальной формы отражения действительности, особого способа универсализации микро – и макрокосма. Таким «способом» миропостижения в литературе (и шире – в искусстве) явился неомифологизм – гуманитарный феномен, обращенный к выявлению в художественном произведении «архетипического» компонента, необходимого для реконструкции идейно-смыслового, семиотического пространства текста.
Представленный учебный курс призван расширить и углубить знания студентов о литературном процессе конца ХIХ – первой половины ХХ столетия, осмыслить его логику и ведущие тенденции. В процессе занятий студенты совершенствуют навыки анализа художественных произведений в историко-культурном, филолого-философском аспектах, развивают умение интерпретировать литературные факты и явления в соответствии с духовно-эстетическими исканиями писателя и эпохи, с учетом жанрового канона, мифопоэтического «шифра», «декодируемого» в тексте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• знать: основные этапы и особенности развития литературного процесса конца ХIХ – первой половины ХХ века, категориальный аппарат современного литературоведения; литературные направления и их типологические разновидности; главные тенденции жанрово-стилевых поисков русских писателей ХIХ–ХХ веков; библейский канон (структуру и состав Священного Писания); формы и способы рецепции библейского текста в произведениях изящной словесности; парадигматические и синтагматические связи литературы и экстралитературных феноменов;
• уметь: собирать и систематизировать литературный материал, оценивать и сопоставлять различные историко-литературные, культурно-философские концепции; анализировать художественные явления и феномены (произведения разных стилей и жанров) в типологическом, историко-генетическом, герменевтическом аспектах, выявлять формы и характер рецепции библейского текста в творчестве русских писателей;
• владеть: теоретическими и методологическими знаниями в области литературоведения, навыками анализа и интерпретации художественных произведений в историко-литературном, социокультурном контекстах, приемами и принципами изучения русской литературы конца ХIХ – первой половины ХХ века в аксиологической, религиозно-философской парадигме современной гуманитаристики; навыками обобщения результатов критического анализа результатов научно-исследовательской деятельности; междисциплинарного применения полученных результатов.
Настоящее учебное пособие, исправленное и дополненное, снабженное методическим аппаратом (вопросы и задания, темы докладов и рефератов), сложилось из курса лекций, которые в 2015 году были изданы в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина и получили дальнейшую разработку и развитие.
Мотивы священного писания в «Павловских очерках» В. Г. Короленко
«Павловские очерки» (1889–1890) В. Г. Короленко, посвященные весьма злободневному в конце ХIХ века вопросу проникновения капиталистических отношений в жизнь и быт русской деревни, не без подачи самого автора, трактовавшиеся исключительно в социологическом ключе (что дало повод В. И. Ленину ссылаться на это произведение в своей знаменитой книге «Развитие капитализма в России»), отнюдь не ограничиваются сиюминутным общественно-политическим содержанием, за которым отчетливо проступает мощный идейно-этический и даже религиозный подтекст. Нижегородский период в жизни В. Г. Короленко, который справедливо считают «расцветом его творчества, активной общественной деятельности, семейного счастья» [119, 359], «можно по праву считать сложным с точки зрения поиска и выработки философских и эстетических принципов, но вполне цельным и законченным этапом становления личности и художественного сознания писателя» [131, 110]. Оказавшись в недрах народного мира, с его многовековыми духовно-нравственными устоями, в незыблемости которых не сомневалась консервативная часть русской интеллигенции, В. Г. Короленко вынужден был наблюдать болезненный для деревни (и – шире – для всего традиционного уклада России) процесс утраты «нашей “самобытности”» в результате «вторжения чуждого строя» [129, 9] не только в сферу хозяйствования, но вообще – в само национальное бытие.
Оплотом старого, а точнее – старинного, заведенного дедами и прадедами жизненного порядка на Нижегородчине считалось село Павлово, что раскинулось «над Окой, на нескольких горах и по оврагам», знаменитое своими кустарными промыслами и «громадным колоколом, каких не много» было на Руси «даже и в больших городах» [129, 5]. Но вместо торжественного благовеста павловский колокол издавал жалкие, надтреснутые и хриплые звуки. «Бухает, бухает, а толку мало» [129, 8], – с сожалением замечал старик, сидевший на скамейке в глубине церковного двора, и в сознании автора вдруг промелькнули картины духовного и физического оскудения крестьянства, оторвавшегося от земли и втянутого в буржуазные отношения, несовместимые с исконной жизнью общины, чуждой какого бы то ни было меркантилизма и индивидуализма. «Неужели это и есть настоящее впечатление, которого я искал?» – вопрошал самого себя герой-повествователь. – «Неужто этот старик, проживавший здесь свой век, сказал правду, и этот грузный, надтреснутый колокол есть настоящий символ, прообраз знаменитого кустарного села?..» [129, 9]. «Зияющая трещина» действительно оказывается знаком символическим, указывающим на тот изъян в русской жизни предреволюционного десятилетия, который неминуемо приведет Россию к социальной и политической катастрофе, предвозвещаемой «последним глухим хрипом» [129, 9] павловского колокола. «Надтреснутый хрип», который издавало «чугунное сердце» [129, 8] колокола, становясь лейтмотивом очерков, актуализирует религиозно-философский контекст, ведь «в христианской традиции звук колокола оповещает о присутствии Христа» [121, 216], о котором вставшие на путь безбожного/бессовестного обогащения купцы-скупщики вспоминают все реже и реже. А между тем, несмотря на «трещину» в бытийно-бытовом укладе самой жизни русского человека, Христос не только «присутствует» в ней незримо, но и освещает ее своим «невечерним» светом – светом путеводной рождественской звезды.
Мотив Рождества и самой рождественской надежды на обновление мира сопутствует в очерках сыну местного почтмейстера Зернову и сыну протопопа Фаворскому, которым с детства претило «тяжелое, надтреснутое павловское буханье» [129, 55] и которые по окончании один – технологического института, другой – юридического факультета университета замыслили в родном селе «без окончательной гибели самой кустарной формы» открыть «новый путь» развития павловских промыслов. «Они хотели уничтожить или, вернее, обойти ту стену, которая отделяла мир кустарный от остального божьего мира» – «широкого, разнообразного, заманчивого, с его далекими перспективами, с его изменчивыми запросами» [129, 56]. «Все способствовало, казалось, практическому начинанию двух идеалистов, потому что в это время, – подчеркивает В. Г. Короленко, – была вера, а формула всякой веры: “на земли мир, в человецех благоволение” – казалась основным законом жизни» [129, 57]. Однако, с сожалением констатирует автор очерков, для воплощения в действительность прогрессивных идей сельских интеллигентов-мечтателей не хватило именно «благоволения человеков»: «кто-то пустил против Зернова “шип по-змеиному” в виде ложного политического доноса», и все оборвалось, «как внезапно лопнувшая струна» [129, 59]. И хотя «у Зернова не нашли ничего» и «дело Зернова сразу завяло» [129, 59], новая, справедливая «философия хозяйствования» в Павлово все же не получила одобрения и воспринималась местными дельцами-скупщиками как интеллигентское «баловство».
Не иначе как «баловством» считал сын разбогатевшего «кустаря Василия Иванова, по прозванию Дужкин», Дмитрий «все душевные свойства, все побуждения, все невинные глупости, все страсти, чувства, стремления, кроме простейших стремлений к стяжанию богатства, к так называемой экономической выгоде» [129, 64], ради которой он пренебрегает всем духовным. Представляя в «Павловских очерках» Дмитрия Васильевича Дужкина как воплощение «экономического человека», В. Г. Короленко поднимает чрезвычайно важный вопрос, волновавший русское общество на рубеже ХIХ–ХХ веков, о соотношении морали и выгоды, о сущности веры и ее границах, и потому «формула всякой веры: “на земли мир, в человецех благоволение”» [129, 57] становится мерилом человеческой состоятельности. Слова из рождественского тропаря сопутствуют образу Дужкина, показанному писателем в разных жизненных ситуациях. В начале своего пути, «когда мальчик шагал с детскою беззаботностью за скрипучими возами по широким шляхам» (а «степные шляхи были уже проторены дужкинскими колесами, и вскоре в Польше и в Харькове открылись две дужкинские лавки»), «когда чудные зори умирали за темнеющею степью, когда безбрежный небесный шатер загорался огнями и синяя ночь веяла на землю миром в человецех и благоволением» [129, 69], формировалось особое, поэтическое мироощущение героя, которое по мере погружения его в меркантильно-коммерческую деятельность было окончательно преодолено: «духовного человека» победил «экономический человек». Уже в юности Дужкин, тяготевший к искусству, увлекавшийся игрой на скрипке, сдерживал свой безотчетный порыв «в звуках излить неопределенные чувства, теснившиеся в душу, которая невольно раскрывалась навстречу», умерял свой духовный пыл как не подобающий «деловому» человеку, и «теперь Дмитрий Васильевич бесповоротно признал одним баловством: “на земли мир, в человецех благоволение”» [129, 70]. А спустя годы, по мере развития «дела», «все тот же призыв: на земли мир, в человецех благоволение» вообще стал казаться «Дмитрию Васильевичу баловством из самых опасных» [129, 72].
Задолго до появления романа М. Горького «Дело Артамоновых» (1925) В. Г. Короленко показал процесс духовного оскудения человека, жертвующего своей живой душой новоявленному божеству – Делу. В романе М. Горького пренебрежение делом во имя духовного совершенствования, которое избрал для себя Никита, ушедший в монастырь, Петр Артамонов прямо называет «баловством» [69, 452]. А между тем Никита и в монастыре призывает к «деятельной» вере, должной утвердить на «земли мир и в человецах благоволение»: «Бог – видит: бездельно веруем; а без дел вера – на что ему? Где наша помощь друг другу и где любовь? И о чем молим? Все о мелких пустяках» [69, 451]. Но Петру Артамонову слова брата показались всего лишь простым «утешением» для праздных богомольцев, к которому нередко в интересах собственного дела прибегал и он сам, хозяин ткацкой фабрики, обращая свою благотворительность по отношению к рабочим в изощренную для них удавку.
По-своему утешает и мастеров-павловцев Дмитрий Васильевич Дужкин в очерках В. Г. Короленко: умело манипулируя конъюнктурой рынка, в разы сбивая цену на кустарные замки («месяц назад по рублю кои замки покупал, те уж по восьми гривен» [129, 78]), богатей-скупщик предстает перед ремесленниками-односельчанами, обреченными на голод, как благодетель, покупая за бесценок произведенный ими товар. Талантливый мастер Иван Михайлов, высоко ценивший свой труд и никогда не уступавший купцам-перекупщикам, пережив «самую коренную нужду», подобную «наказанию Давидову» [129, 78] (о котором во Второй книге Царств предвозвестил царю-псалмопевцу пророк Гад: «так говорит Господь: три наказания предлагаю Я тебе; выбери себе одно из них… избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей?» [2 Цар. 24, 12–13]), идет на поклон Дужкину и молит его о милости («из глаз у мужика слезы ручьём»): «Да что уж! Бери, ради Христа!», и Дужкин «взял! И нужды в тех замках не было, а взял. Потому что, понимаете ли вы это, – замок не нужен, так человек нужен» [129, 78]. «Человека я по гроб приобретаю» [129, 78], – не без самодовольства заявляет Дужкин, признаваясь в том, что «покупает» человека для его же спасения и мнит себя орудием божественного Промысла: «Ты, говорю, Ваня, понимай! Потому что и в священном писании сказано: богатство порождает добродетель, бедность уничтожает» [129, 78]. Апеллируя к Священному Писанию, Дужкин, с одной стороны, оправдывает свое стяжательство, накопление богатства как потенциальную добродетель, реализующуюся в милости к бедным, а с другой стороны – лукавит, потому что нигде в Библии нет и намека на превознесение богатства над бедностью. В ветхозаветной книге Притчи Соломона прямо сказано, что «лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели [богатый] со лживыми устами» (Притч. 19, 1). Единственное преимущество богатого над бедным, говорится в Писании, – «богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим» (Притч. 19:4), но «богатство от суетности истощается» (Притч. 13, 11) и поэтому априори не может быть гарантом добродетели. Богатство, замечал С. С. Аверинцев в своем слове «На притчу о внезапно разбогатевшем», порождает гордыню и – самое страшное – «иллюзию власти» [6, 18], в том числе над другим человеком, которого, как раба или вещь, можно «покорить» и «купить». Это очень хорошо понимает купец Дужкин в «Павловских очерках», кичащийся своим богатством и призывающий к покорности ссылкой на авторитет Библии: «А еще сказано, и ты понимай это правильно: всякий человек должен кому-нибудь покоряться… Понимаешь!» [129, 78]. Действительно, в Послании к Титу апостол Павел говорит о необходимости «повиноваться и покоряться начальству и властям» (Тит. 3, 1). Однако, подчеркивал прот. В. П. Свенцицкий, разъясняя в самом начале ХХ века «христианское отношение к власти и насилию», «нужно повиноваться всякому человеческому начальству, но до тех пор, покуда требования этого начальства не противоречат заповедям Христа» [205, 168].
Несмотря на то, что в требовании Дужкина о покорности нет ничего противоречащего заповедям Христа, позиция богача скупщика, живущего «по старине» и решительно отвергающего всякую претенциозную «самость» и «свободоупрямство» современного человека, да еще находящегося на нижней ступени социальной лестницы, вызывает у автора недоумение.
Демократ В. Г. Короленко в образе Дужкина показывает весьма распространенный тип русского человека на рубеже веков, оправдывающего вековые устои патриархальной Руси Священным Писанием в его домостроевском понимании и в то же время пренебрегающего восходящим к тому же самому Священному Писанию духовным персонализмом (абсолютной ценностью человеческой личности), который консервативному мировоззрению кажется не чем иным, как «баловством». Отсюда скептическое отношение Дужкина ко всем новым формам хозяйствования и новой организации труда: «Товарищества, артели, помощь бедным… “Куда это вы, господин мастер, спешите?” – “Иду в артель деньги получать”. За что? Для чего? – Баловство одно! – закончил Дмитрий Васильевич <…> Баловство! Потачка!», а все оттого, убежден Дужкин, что современный человек потерял страх: «А без страха один разврат, непокорство, баловство!» [129, 86]. «Страх – начало премудрости, это сказано недаром» [129, 86], – заключает Дмитрий Васильевич. Хотя он не называет источник изречения, но в его сакральном происхождении не сомневается. В библейской книге Притчей царь Соломон прямо говорит: «Начало мудрости – страх Господень» (Притч. 1, 7), причем не просто страх как «гроза, угроза или острастка; покорство устрашенного, послушание» [75, II, 336], а именно «страх Господень», ибо страх Божий – это величайшая добродетель, состоящая в «благоговении к беспредельной святости Божией» [31, 678], открывающей человеку во всей полноте премудрость земного и небесного мира. Человек, «исполненный страха Божия», замечал архимандрит Никифор, «почитает гнев Отца Небесного величайшим для себя несчастием, а потому старается, чтобы не прогневить Его» [31, 678]. Лишь в самозабвении, утрачивая «страх Господень», человек впадает в искушения, погружается в пучину греха, тем самым заслуживая «гнев Отца Небесного».
Христианин Дужкин очень боится этого гнева, но в то же время боится и всякого свободомыслия, всякого новшества, усматривая в нем дьявольское начало, сбивающее человека с веками проторенного отцами и дедами истинного пути. В понимании павловского скупщика страх – это боязнь Божией кары, непременно настигающей гордого, самодостаточного человека, забывающего «свое место». «Потому что богу это неугодно, что человек сам себя от страха освобождает» [129, 88]. Последствия такого «освобождения» Дужкин поведал автору в истории «О Мишаньке, праведном стяжателе», который, во всем отказывая себе и своей семье, накопил-таки «настоящую сумму», чтобы пожить «самому себе господином», но в одночасье все потерял: «Вот, говорит, Митрий Васильич, какое дело вышло. Исполнилось по вашему слову, посетил меня господь за грехи: дом сгорел, кузница новая сгорела» [129, 88]. А ведь Дужкин предупреждал Мишаньку, вспоминая слова Писания: «Этак же один говорил: “Построю житницы… душе моя, яждь, пий, веселися”. А господь слушает да говорит про себя: “Погоди-ка, гордый человек, я тебя ноне ночью возвеселю”» [129, 87]. Рассказанная Дужкиным в назидание Мишаньке притча восходит к Евангелию от Луки, где Господь поведал об «одном богатом человеке», который, собрав большой урожай, решил: «сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12, 18–20).
«Гордый человек», забывающий о тщетности богатства и быстротечности самой жизни, «посещенный Господом» в несчастье своем, прозревает великий смысл ниспосланного ему испытания и становится «смиренным человеком», как смиренным человеком стал и Мишанька, прозванный «праведным стяжателем». «О его смирении, о субботних слезах» поведал автор «Павловских очерков», которого поразила судьба этого человека, недавнего богача, жившего «в своем дому, на своей воле», но утратившего все и нанявшегося в унизительное услужение к Дужкину. «В субботний вечер, как суета стихнет, рабочие разойдутся, – у него на сердце накипит и подымится» тоска, и тогда ему, дужкинскому сторожу, привыкшему регулярно ходить «к вечерне, да свечечку к образу Михаила Архангела» ставить, ничего не остается, как сидеть «на цепи» и «чужие ворота караулить»: «Вот и сидит, дела справляет аккуратно и плачет…» [129, 89].
Плач «смиренного человека» вызывает у В. Г. Короленко нравственное содрогание от безысходности существования русского кустаря в условиях новой экономической реальности, бездуховной и жестокой одновременно, провоцирующей подчас эсхатологические страхи и предчувствия. «Я понимал настроение кустарей: ведь здесь для них весь божий мир. А их мир покачнулся и грозит падением. Мудрено ли, что им это кажется чуть не настоящим светопреставлением…» [129, 98]. «А что я, позвольте сказать вам, Владимир Глахтионыч, думаю…» – заявил автору «смиренный человек». – «Я думаю, не те ли времена идут, о коих временах сказано: живые позавидуют мертвым?» [129, 98]. Об этих временах предвозвещает в своем Откровении апостол Иоанн Богослов: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откр. 9, 6). Апокалиптическая тревога павловцев, нагнетаемая к тому же «бухающим колоколом», становится, по мнению писателя, характерной особенностью мироощущения человека рубежа ХIХ–ХХ веков, пытающегося в событиях современности разглядеть знаки и символы древних библейских пророчеств.
Библейский текст, привлекаемый В. Г. Короленко в «Павловских очерках», оказывается той «мифотектонической парадигмой» [248, 227], которая выражает нравственно-философскую концепцию писателя и определяет художественно-публицистическую стратегию его творчества.
Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте творчество В. Г. Короленко конца 1880 – начала 1890-х годов. Почему, на ваш взгляд, в этот период обострился интерес писателя к нравственно-этическим и религиозно-философским проблемам? Как он проявился в «Павловских очерках»?
2. Что символизирует «надтреснутый колокол» в «Павловских очерках»?
3. Как решает В. Г. Короленко, волновавший русское общество рубежа ХIХ–ХХ веков вопрос соотношения морали и выгоды, сущности веры и ее границ в миропознании?
4. Как и почему оправдывает купец Дужкин устои патриархальной Руси авторитетом Священного Писания? Как соотносятся мудрость и страх Господень в сознании героя-консерватора и автора-демократа?
Игорь Сергеевич Урюпин
Учебное пособие посвящено анализу творческой рецепции библейского текста в русской литературе конца XIX – первой половины XX века, является частью (модулем) учебной дисциплины «Неомифологизм в русской литературе XX века». В центре внимания автора оказываются произведения В.Г.Короленко, Л.Н.Андреева, Ю. Л. Слёзкина, С. С. Бехтеева, И. А. Бунина, М. Горького, Б. К. Зайцева, Е. И. Замятина, М. М. Пришвина, М. А. Булгакова, С. Н. Булгакова, в которых художественно трансформировались мотивы, образы, мифологемы Священного Писания.
Пособие предназначено для студентов-магистрантов и аспирантов гуманитарных направлений подготовки и всем тем, кто интересуется русской литературой и культурой.
Игорь Сергеевич Урюпин
Библейский контекст в русской литературе конца ХIХ – первой половины ХХ века. Учебное пособие
Предисловие
Наверное, кто-то скажет, открыв это учебное пособие, что вся русская литература, и даже в значительной степени советская, имеет религиозный, как правило, христианский подтекст. Кто-то даже заметит, что и вся классическая европейская литература во многом на нем построена – и тоже будет прав. А уж о русской классической и говорить нечего. Без библейского контекста невозможно себе представить не только романы конца XIX века, но и поэзию его начала. Вот только период Серебряного века, о котором говорится в настоящем учебном пособии, представляется как будто несколько выходящим за рамки общей традиции.
Тем важнее труд, за который взялся и достойно осуществил автор этой работы И. С. Урюпин, – он представил литературу рубежа XIX и XX веков как литературу также вполне христианскую. Пусть и трактующую христианство порою далеко не ортодоксально. Что, в общем, естественно. Ведь, как и в целом общественная мысль в то время была на определенном изломе, в поиске чего-то нового, так и привычный для отечественной словесности библейский контекст очень часто оказывался полем для разного рода экспериментов и споров литераторов друг с другом.
Урюпин отмечает эти полемики, заочные нередко, например, между А. М. Горьким и И. А. Буниным. Их позиции действительно были противоположны друг другу, но, как казалось, отнюдь не по религиозному вопросу и в большей степени уже после революции. Но все-таки сравнение их духовных позиций представляется совершенно справедливым. Студентам-филологам легче понять, почему русская литература и вообще общественная мысль России раскололась на условных «большевиков», большинство литераторов, поддержавших Великий Октябрь, и не менее условных «меньшевиков», которые, напротив, революцию не приняли.
Для художников слова это был не только классовый и социальный выбор, но и морально-нравственный. Одни сохранили прежнюю веру, а многие, видя народные страдания, ее утратили и стали предвозвестниками новой религии. Образно говоря, бывшие богоискатели продолжили свои поиски, а недавние богостроители стали строить нечто совершенно новое, невиданное в человеческой цивилизации верование – во вселенское счастье и братство на земле.
Споры были жаркими, приведшими в конечном счете фактически к расколу русской литературы в ходе Гражданской войны. Хотя общего корня те и другие, белые и красные, уже без кавычек, не теряли. Те и другие по-своему любили Россию, искали и строили пути для ее процветания. Но в итоге разочарование ждало тех и других. Белые так и не нашли своего Бога и понимания в широких массах, а красные так и не смогли построить альтернативу в полном смысле этого слова.
Но парадокс заключается еще и в том, что и те, и другие все равно говорили со своими читателями на одном общем, во многом евангельском языке. Именно его очень удачно расшифровывает для читателей Урюпин. Но он не пытается разгадать все загадки с библейским подтекстом, давая возможность тем, кто будет использовать его учебное пособие, самим найти рецепцию Евангелия и других библейских текстов самыми разными литераторами – не только упомянутыми выше Буниным и Горьким, но и Андреевым, Замятиным, Зайцевым, Пришвиным и мн. др. Возможно, не хватает знаменитых поэтов Серебряного века, но это открывает широкое поле для дальнейших исследований, причем как самим автором книги, так и теми, кто пойдет по его стопам.
Очень важно также включение в контекст исканий рубежа веков такой выдающейся фигуры, как Л. Н. Толстой и основанного им течения – толстовства. Оно стало не только закономерным и ожидаемым итогом его духовных исканий, пришедшимся волею судьбы на это переломное время
Толстовская «Исповедь» словно передала горьковской духовную эстафету. Тот ее подхватил, слегка приземлив. Впрочем, не менее религиозной, о чем много говорилось и говорится, представляется его «Мать». Она фактически предопределила эволюцию автора от богостроительства к марксизму, пусть и не вполне научному.
Мировоззрение Горького было в той же степени сложным и противоречивым, как и само то время, в которое он жил и работал. В дальнейшем сам себя он представлял как убежденного атеиста. Даже в последние свои часы в бреду Алексей Максимович спорил с Богом. Но, с другой стороны, раз спорил, то невольно перед кончиной признал существование некоей высшей силы.
Хотя сам в определенном смысле оказывался уже для новой волны литераторов в известном смысле вплетенным в евангельский контекст. Андрей Платонов в известных своих литературоведческих эссе «Пушкин – наш товарищ» и «Пушкин и Горький» представил его ни больше ни меньше, как новым Иоанном Крестителем. Он в оригинальном понимании автора «Чевенгура» и «Котлована» предвозвестник Спасителя, нового Пушкина.
Учебное пособие Урюпина дает возможность поразмышлять над подобными, иногда парадоксальными концепциями. Хотя формально книга, которую вы держите сейчас в руках, – это курс лекций, вобравший опыт преподавательской деятельности автора, фактически же это гораздо более широкое учебное издание, рассчитанное на творческий подход тех, кому оно предназначено. После каждой главы даются не только вопросы для закрепления изученного, но и темы исследований, в которые могут превратиться конспекты и доклады студенты.
Собственно, это и делает труд Урюпина особенно полезным в качестве пособия для начинающих литературоведов. В своих работах они смогут подтвердить или опровергнуть гипотезы автора. Одна из таких тем-предположений «Библейская «археология» в творчестве В. Я. Брюсова и Д. С. Мережковского» очень точно передает суть той тонкой литературоведческой методологии, которую реализует в своей научной деятельности сам Урюпин и которую настоятельно советует тем, кто идет по его стопам. Им действительно предстоит провести настоящие «раскопки» в архивах и библиотеках, чтобы найти тот самый библейский контекст, который может быть скрыт под толщей слов и мыслей.
В рефератах они смогут наметить контуры возможных поисков – а это ключевая задача любого учебного пособия для слушателей магистратур и аспирантов. И с ней И. С. Урюпин блестяще справляется. Он дает в руки будущих исследователей инструмент, который поможет им увидеть христианские корни в самых разных текстах как эпохи рубежа XIX и XX веков, так и предшествующих и последующих. Ведь в литературоведческой науке сделать предстоит еще немало удивительных открытий о Серебряном веке. И книга Урюпина дает для этого молодым исследователям необходимый задел.
Александр Евдокимов,
Старший научный сотрудник ИМЛИ РАН
DOI: 10.23681/599934
Введение
Великой Книгой стало для человека и человечества Священное Писание – сокровищница божественной мудрости и вдохновения. «Чтение Библии», – замечал В. В. Розанов, – «омывает душу» [197, 462], «поднимает, облагораживает; и сообщает душе читающего тот же священный оттенок, то есть настроенность в высшей степени серьезную, до торжественности и трагизма, каким само обладает. В сравнении со всякими другими книгами, это – как чистая вода горного ключа», несущая «освежение и воскресение» [197, 463]. На протяжении веков Библия была и остается главной Книгой человечества, поистине Книгой Книг, в которой содержатся ответы на все без исключения вопросы о жизни человека во времени и вечности, о смысле его бытия. И потому неудивительно, что Священное Писание духовно питает мировое искусство, философию, науку и, конечно же, литературу, выступая источником ее сюжетов и образов, мотивов и мифологем.
Русская литература, укорененная в отечественной религиозной культуре, на протяжении веков развивалась под мощным влиянием Священного Писания, используя и художественно трансформируя ее образно-смысловой ресурс, полижанровую природу и идейно-аксиологическую направленность. Выявление характера и степени творческой рецепции библейского текста русскими писателями конца ХIХ – первой половины ХХ века составляет главную цель предлагаемого учебного курса, являющегося частью (модулем) дисциплины «Неомифологизм в русской литературе ХХ–ХХI веков».
Учебное пособие раскрывает идейно-философские, культурно-исторические, когнитивно-онтологические закономерности в литературном процессе конца ХIХ – первой половины ХХ веков, которые необходимо учитывать при системном анализе художественных произведений. Интерпретация мотивов, мифологем, сюжетов, аллюзий и реминисценций, связанных с Библией, исследование этико-эстетических доминант и архетипических образов, генетически восходящих к ветхозаветному и новозаветному текстам, определяют логику модульного курса, его содержание и методологический аппарат.
Русская литература ХХ века, вобравшая в себя и творчески синтезировавшая социокультурные и этико-эстетические традиции предшествующих эпох, оказалась предельно насыщена мифо-философским содержанием, потребовавшим оригинальной формы отражения действительности, особого способа универсализации микро – и макрокосма. Таким «способом» миропостижения в литературе (и шире – в искусстве) явился неомифологизм – гуманитарный феномен, обращенный к выявлению в художественном произведении «архетипического» компонента, необходимого для реконструкции идейно-смыслового, семиотического пространства текста.
Представленный учебный курс призван расширить и углубить знания студентов о литературном процессе конца ХIХ – первой половины ХХ столетия, осмыслить его логику и ведущие тенденции. В процессе занятий студенты совершенствуют навыки анализа художественных произведений в историко-культурном, филолого-философском аспектах, развивают умение интерпретировать литературные факты и явления в соответствии с духовно-эстетическими исканиями писателя и эпохи, с учетом жанрового канона, мифопоэтического «шифра», «декодируемого» в тексте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• знать: основные этапы и особенности развития литературного процесса конца ХIХ – первой половины ХХ века, категориальный аппарат современного литературоведения; литературные направления и их типологические разновидности; главные тенденции жанрово-стилевых поисков русских писателей ХIХ–ХХ веков; библейский канон (структуру и состав Священного Писания); формы и способы рецепции библейского текста в произведениях изящной словесности; парадигматические и синтагматические связи литературы и экстралитературных феноменов;
• уметь: собирать и систематизировать литературный материал, оценивать и сопоставлять различные историко-литературные, культурно-философские концепции; анализировать художественные явления и феномены (произведения разных стилей и жанров) в типологическом, историко-генетическом, герменевтическом аспектах, выявлять формы и характер рецепции библейского текста в творчестве русских писателей;
• владеть: теоретическими и методологическими знаниями в области литературоведения, навыками анализа и интерпретации художественных произведений в историко-литературном, социокультурном контекстах, приемами и принципами изучения русской литературы конца ХIХ – первой половины ХХ века в аксиологической, религиозно-философской парадигме современной гуманитаристики; навыками обобщения результатов критического анализа результатов научно-исследовательской деятельности; междисциплинарного применения полученных результатов.
Настоящее учебное пособие, исправленное и дополненное, снабженное методическим аппаратом (вопросы и задания, темы докладов и рефератов), сложилось из курса лекций, которые в 2015 году были изданы в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина и получили дальнейшую разработку и развитие.
Мотивы священного писания в «Павловских очерках» В. Г. Короленко
«Павловские очерки» (1889–1890) В. Г. Короленко, посвященные весьма злободневному в конце ХIХ века вопросу проникновения капиталистических отношений в жизнь и быт русской деревни, не без подачи самого автора, трактовавшиеся исключительно в социологическом ключе (что дало повод В. И. Ленину ссылаться на это произведение в своей знаменитой книге «Развитие капитализма в России»), отнюдь не ограничиваются сиюминутным общественно-политическим содержанием, за которым отчетливо проступает мощный идейно-этический и даже религиозный подтекст. Нижегородский период в жизни В. Г. Короленко, который справедливо считают «расцветом его творчества, активной общественной деятельности, семейного счастья» [119, 359], «можно по праву считать сложным с точки зрения поиска и выработки философских и эстетических принципов, но вполне цельным и законченным этапом становления личности и художественного сознания писателя» [131, 110]. Оказавшись в недрах народного мира, с его многовековыми духовно-нравственными устоями, в незыблемости которых не сомневалась консервативная часть русской интеллигенции, В. Г. Короленко вынужден был наблюдать болезненный для деревни (и – шире – для всего традиционного уклада России) процесс утраты «нашей “самобытности”» в результате «вторжения чуждого строя» [129, 9] не только в сферу хозяйствования, но вообще – в само национальное бытие.
Оплотом старого, а точнее – старинного, заведенного дедами и прадедами жизненного порядка на Нижегородчине считалось село Павлово, что раскинулось «над Окой, на нескольких горах и по оврагам», знаменитое своими кустарными промыслами и «громадным колоколом, каких не много» было на Руси «даже и в больших городах» [129, 5]. Но вместо торжественного благовеста павловский колокол издавал жалкие, надтреснутые и хриплые звуки. «Бухает, бухает, а толку мало» [129, 8], – с сожалением замечал старик, сидевший на скамейке в глубине церковного двора, и в сознании автора вдруг промелькнули картины духовного и физического оскудения крестьянства, оторвавшегося от земли и втянутого в буржуазные отношения, несовместимые с исконной жизнью общины, чуждой какого бы то ни было меркантилизма и индивидуализма. «Неужели это и есть настоящее впечатление, которого я искал?» – вопрошал самого себя герой-повествователь. – «Неужто этот старик, проживавший здесь свой век, сказал правду, и этот грузный, надтреснутый колокол есть настоящий символ, прообраз знаменитого кустарного села?..» [129, 9]. «Зияющая трещина» действительно оказывается знаком символическим, указывающим на тот изъян в русской жизни предреволюционного десятилетия, который неминуемо приведет Россию к социальной и политической катастрофе, предвозвещаемой «последним глухим хрипом» [129, 9] павловского колокола. «Надтреснутый хрип», который издавало «чугунное сердце» [129, 8] колокола, становясь лейтмотивом очерков, актуализирует религиозно-философский контекст, ведь «в христианской традиции звук колокола оповещает о присутствии Христа» [121, 216], о котором вставшие на путь безбожного/бессовестного обогащения купцы-скупщики вспоминают все реже и реже. А между тем, несмотря на «трещину» в бытийно-бытовом укладе самой жизни русского человека, Христос не только «присутствует» в ней незримо, но и освещает ее своим «невечерним» светом – светом путеводной рождественской звезды.
Мотив Рождества и самой рождественской надежды на обновление мира сопутствует в очерках сыну местного почтмейстера Зернову и сыну протопопа Фаворскому, которым с детства претило «тяжелое, надтреснутое павловское буханье» [129, 55] и которые по окончании один – технологического института, другой – юридического факультета университета замыслили в родном селе «без окончательной гибели самой кустарной формы» открыть «новый путь» развития павловских промыслов. «Они хотели уничтожить или, вернее, обойти ту стену, которая отделяла мир кустарный от остального божьего мира» – «широкого, разнообразного, заманчивого, с его далекими перспективами, с его изменчивыми запросами» [129, 56]. «Все способствовало, казалось, практическому начинанию двух идеалистов, потому что в это время, – подчеркивает В. Г. Короленко, – была вера, а формула всякой веры: “на земли мир, в человецех благоволение” – казалась основным законом жизни» [129, 57]. Однако, с сожалением констатирует автор очерков, для воплощения в действительность прогрессивных идей сельских интеллигентов-мечтателей не хватило именно «благоволения человеков»: «кто-то пустил против Зернова “шип по-змеиному” в виде ложного политического доноса», и все оборвалось, «как внезапно лопнувшая струна» [129, 59]. И хотя «у Зернова не нашли ничего» и «дело Зернова сразу завяло» [129, 59], новая, справедливая «философия хозяйствования» в Павлово все же не получила одобрения и воспринималась местными дельцами-скупщиками как интеллигентское «баловство».
Не иначе как «баловством» считал сын разбогатевшего «кустаря Василия Иванова, по прозванию Дужкин», Дмитрий «все душевные свойства, все побуждения, все невинные глупости, все страсти, чувства, стремления, кроме простейших стремлений к стяжанию богатства, к так называемой экономической выгоде» [129, 64], ради которой он пренебрегает всем духовным. Представляя в «Павловских очерках» Дмитрия Васильевича Дужкина как воплощение «экономического человека», В. Г. Короленко поднимает чрезвычайно важный вопрос, волновавший русское общество на рубеже ХIХ–ХХ веков, о соотношении морали и выгоды, о сущности веры и ее границах, и потому «формула всякой веры: “на земли мир, в человецех благоволение”» [129, 57] становится мерилом человеческой состоятельности. Слова из рождественского тропаря сопутствуют образу Дужкина, показанному писателем в разных жизненных ситуациях. В начале своего пути, «когда мальчик шагал с детскою беззаботностью за скрипучими возами по широким шляхам» (а «степные шляхи были уже проторены дужкинскими колесами, и вскоре в Польше и в Харькове открылись две дужкинские лавки»), «когда чудные зори умирали за темнеющею степью, когда безбрежный небесный шатер загорался огнями и синяя ночь веяла на землю миром в человецех и благоволением» [129, 69], формировалось особое, поэтическое мироощущение героя, которое по мере погружения его в меркантильно-коммерческую деятельность было окончательно преодолено: «духовного человека» победил «экономический человек». Уже в юности Дужкин, тяготевший к искусству, увлекавшийся игрой на скрипке, сдерживал свой безотчетный порыв «в звуках излить неопределенные чувства, теснившиеся в душу, которая невольно раскрывалась навстречу», умерял свой духовный пыл как не подобающий «деловому» человеку, и «теперь Дмитрий Васильевич бесповоротно признал одним баловством: “на земли мир, в человецех благоволение”» [129, 70]. А спустя годы, по мере развития «дела», «все тот же призыв: на земли мир, в человецех благоволение» вообще стал казаться «Дмитрию Васильевичу баловством из самых опасных» [129, 72].
Задолго до появления романа М. Горького «Дело Артамоновых» (1925) В. Г. Короленко показал процесс духовного оскудения человека, жертвующего своей живой душой новоявленному божеству – Делу. В романе М. Горького пренебрежение делом во имя духовного совершенствования, которое избрал для себя Никита, ушедший в монастырь, Петр Артамонов прямо называет «баловством» [69, 452]. А между тем Никита и в монастыре призывает к «деятельной» вере, должной утвердить на «земли мир и в человецах благоволение»: «Бог – видит: бездельно веруем; а без дел вера – на что ему? Где наша помощь друг другу и где любовь? И о чем молим? Все о мелких пустяках» [69, 451]. Но Петру Артамонову слова брата показались всего лишь простым «утешением» для праздных богомольцев, к которому нередко в интересах собственного дела прибегал и он сам, хозяин ткацкой фабрики, обращая свою благотворительность по отношению к рабочим в изощренную для них удавку.
По-своему утешает и мастеров-павловцев Дмитрий Васильевич Дужкин в очерках В. Г. Короленко: умело манипулируя конъюнктурой рынка, в разы сбивая цену на кустарные замки («месяц назад по рублю кои замки покупал, те уж по восьми гривен» [129, 78]), богатей-скупщик предстает перед ремесленниками-односельчанами, обреченными на голод, как благодетель, покупая за бесценок произведенный ими товар. Талантливый мастер Иван Михайлов, высоко ценивший свой труд и никогда не уступавший купцам-перекупщикам, пережив «самую коренную нужду», подобную «наказанию Давидову» [129, 78] (о котором во Второй книге Царств предвозвестил царю-псалмопевцу пророк Гад: «так говорит Господь: три наказания предлагаю Я тебе; выбери себе одно из них… избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей?» [2 Цар. 24, 12–13]), идет на поклон Дужкину и молит его о милости («из глаз у мужика слезы ручьём»): «Да что уж! Бери, ради Христа!», и Дужкин «взял! И нужды в тех замках не было, а взял. Потому что, понимаете ли вы это, – замок не нужен, так человек нужен» [129, 78]. «Человека я по гроб приобретаю» [129, 78], – не без самодовольства заявляет Дужкин, признаваясь в том, что «покупает» человека для его же спасения и мнит себя орудием божественного Промысла: «Ты, говорю, Ваня, понимай! Потому что и в священном писании сказано: богатство порождает добродетель, бедность уничтожает» [129, 78]. Апеллируя к Священному Писанию, Дужкин, с одной стороны, оправдывает свое стяжательство, накопление богатства как потенциальную добродетель, реализующуюся в милости к бедным, а с другой стороны – лукавит, потому что нигде в Библии нет и намека на превознесение богатства над бедностью. В ветхозаветной книге Притчи Соломона прямо сказано, что «лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели [богатый] со лживыми устами» (Притч. 19, 1). Единственное преимущество богатого над бедным, говорится в Писании, – «богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим» (Притч. 19:4), но «богатство от суетности истощается» (Притч. 13, 11) и поэтому априори не может быть гарантом добродетели. Богатство, замечал С. С. Аверинцев в своем слове «На притчу о внезапно разбогатевшем», порождает гордыню и – самое страшное – «иллюзию власти» [6, 18], в том числе над другим человеком, которого, как раба или вещь, можно «покорить» и «купить». Это очень хорошо понимает купец Дужкин в «Павловских очерках», кичащийся своим богатством и призывающий к покорности ссылкой на авторитет Библии: «А еще сказано, и ты понимай это правильно: всякий человек должен кому-нибудь покоряться… Понимаешь!» [129, 78]. Действительно, в Послании к Титу апостол Павел говорит о необходимости «повиноваться и покоряться начальству и властям» (Тит. 3, 1). Однако, подчеркивал прот. В. П. Свенцицкий, разъясняя в самом начале ХХ века «христианское отношение к власти и насилию», «нужно повиноваться всякому человеческому начальству, но до тех пор, покуда требования этого начальства не противоречат заповедям Христа» [205, 168].
Несмотря на то, что в требовании Дужкина о покорности нет ничего противоречащего заповедям Христа, позиция богача скупщика, живущего «по старине» и решительно отвергающего всякую претенциозную «самость» и «свободоупрямство» современного человека, да еще находящегося на нижней ступени социальной лестницы, вызывает у автора недоумение.
Демократ В. Г. Короленко в образе Дужкина показывает весьма распространенный тип русского человека на рубеже веков, оправдывающего вековые устои патриархальной Руси Священным Писанием в его домостроевском понимании и в то же время пренебрегающего восходящим к тому же самому Священному Писанию духовным персонализмом (абсолютной ценностью человеческой личности), который консервативному мировоззрению кажется не чем иным, как «баловством». Отсюда скептическое отношение Дужкина ко всем новым формам хозяйствования и новой организации труда: «Товарищества, артели, помощь бедным… “Куда это вы, господин мастер, спешите?” – “Иду в артель деньги получать”. За что? Для чего? – Баловство одно! – закончил Дмитрий Васильевич <…> Баловство! Потачка!», а все оттого, убежден Дужкин, что современный человек потерял страх: «А без страха один разврат, непокорство, баловство!» [129, 86]. «Страх – начало премудрости, это сказано недаром» [129, 86], – заключает Дмитрий Васильевич. Хотя он не называет источник изречения, но в его сакральном происхождении не сомневается. В библейской книге Притчей царь Соломон прямо говорит: «Начало мудрости – страх Господень» (Притч. 1, 7), причем не просто страх как «гроза, угроза или острастка; покорство устрашенного, послушание» [75, II, 336], а именно «страх Господень», ибо страх Божий – это величайшая добродетель, состоящая в «благоговении к беспредельной святости Божией» [31, 678], открывающей человеку во всей полноте премудрость земного и небесного мира. Человек, «исполненный страха Божия», замечал архимандрит Никифор, «почитает гнев Отца Небесного величайшим для себя несчастием, а потому старается, чтобы не прогневить Его» [31, 678]. Лишь в самозабвении, утрачивая «страх Господень», человек впадает в искушения, погружается в пучину греха, тем самым заслуживая «гнев Отца Небесного».
Христианин Дужкин очень боится этого гнева, но в то же время боится и всякого свободомыслия, всякого новшества, усматривая в нем дьявольское начало, сбивающее человека с веками проторенного отцами и дедами истинного пути. В понимании павловского скупщика страх – это боязнь Божией кары, непременно настигающей гордого, самодостаточного человека, забывающего «свое место». «Потому что богу это неугодно, что человек сам себя от страха освобождает» [129, 88]. Последствия такого «освобождения» Дужкин поведал автору в истории «О Мишаньке, праведном стяжателе», который, во всем отказывая себе и своей семье, накопил-таки «настоящую сумму», чтобы пожить «самому себе господином», но в одночасье все потерял: «Вот, говорит, Митрий Васильич, какое дело вышло. Исполнилось по вашему слову, посетил меня господь за грехи: дом сгорел, кузница новая сгорела» [129, 88]. А ведь Дужкин предупреждал Мишаньку, вспоминая слова Писания: «Этак же один говорил: “Построю житницы… душе моя, яждь, пий, веселися”. А господь слушает да говорит про себя: “Погоди-ка, гордый человек, я тебя ноне ночью возвеселю”» [129, 87]. Рассказанная Дужкиным в назидание Мишаньке притча восходит к Евангелию от Луки, где Господь поведал об «одном богатом человеке», который, собрав большой урожай, решил: «сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12, 18–20).
«Гордый человек», забывающий о тщетности богатства и быстротечности самой жизни, «посещенный Господом» в несчастье своем, прозревает великий смысл ниспосланного ему испытания и становится «смиренным человеком», как смиренным человеком стал и Мишанька, прозванный «праведным стяжателем». «О его смирении, о субботних слезах» поведал автор «Павловских очерков», которого поразила судьба этого человека, недавнего богача, жившего «в своем дому, на своей воле», но утратившего все и нанявшегося в унизительное услужение к Дужкину. «В субботний вечер, как суета стихнет, рабочие разойдутся, – у него на сердце накипит и подымится» тоска, и тогда ему, дужкинскому сторожу, привыкшему регулярно ходить «к вечерне, да свечечку к образу Михаила Архангела» ставить, ничего не остается, как сидеть «на цепи» и «чужие ворота караулить»: «Вот и сидит, дела справляет аккуратно и плачет…» [129, 89].
Плач «смиренного человека» вызывает у В. Г. Короленко нравственное содрогание от безысходности существования русского кустаря в условиях новой экономической реальности, бездуховной и жестокой одновременно, провоцирующей подчас эсхатологические страхи и предчувствия. «Я понимал настроение кустарей: ведь здесь для них весь божий мир. А их мир покачнулся и грозит падением. Мудрено ли, что им это кажется чуть не настоящим светопреставлением…» [129, 98]. «А что я, позвольте сказать вам, Владимир Глахтионыч, думаю…» – заявил автору «смиренный человек». – «Я думаю, не те ли времена идут, о коих временах сказано: живые позавидуют мертвым?» [129, 98]. Об этих временах предвозвещает в своем Откровении апостол Иоанн Богослов: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откр. 9, 6). Апокалиптическая тревога павловцев, нагнетаемая к тому же «бухающим колоколом», становится, по мнению писателя, характерной особенностью мироощущения человека рубежа ХIХ–ХХ веков, пытающегося в событиях современности разглядеть знаки и символы древних библейских пророчеств.
Библейский текст, привлекаемый В. Г. Короленко в «Павловских очерках», оказывается той «мифотектонической парадигмой» [248, 227], которая выражает нравственно-философскую концепцию писателя и определяет художественно-публицистическую стратегию его творчества.
Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте творчество В. Г. Короленко конца 1880 – начала 1890-х годов. Почему, на ваш взгляд, в этот период обострился интерес писателя к нравственно-этическим и религиозно-философским проблемам? Как он проявился в «Павловских очерках»?
2. Что символизирует «надтреснутый колокол» в «Павловских очерках»?
3. Как решает В. Г. Короленко, волновавший русское общество рубежа ХIХ–ХХ веков вопрос соотношения морали и выгоды, сущности веры и ее границ в миропознании?
4. Как и почему оправдывает купец Дужкин устои патриархальной Руси авторитетом Священного Писания? Как соотносятся мудрость и страх Господень в сознании героя-консерватора и автора-демократа?