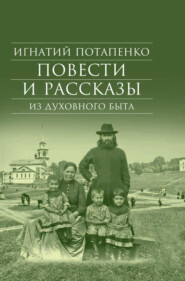По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Иллюзия и правда
Год написания книги
1887
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иллюзия и правда
Игнатий Николаевич Потапенко
«…Театр полон. Сотня газовых рожков, ярко освещающих зрительный зал, весело подмигивают друг другу, как бы сочувствуя и радуясь успеху антрепренёра. Верхняя публика волнуется, шумит, стучит, требует начала, выражает нетерпение. Солидные люди, с достоинством занимающие места в партере, учащённо посматривают на часы. Взоры всех от времени до времени устремляются в оркестр на дирижёрское место, которое пусто. Скоро ли он придёт? Скоро ли взмахнёт он своей волшебной палочкой, и вслед затем польются божественные аккорды?..»
Игнатий Николаевич Потапенко
Иллюзия и правда (Эскиз)
Театр полон. Сотня газовых рожков, ярко освещающих зрительный зал, весело подмигивают друг другу, как бы сочувствуя и радуясь успеху антрепренёра. Верхняя публика волнуется, шумит, стучит, требует начала, выражает нетерпение. Солидные люди, с достоинством занимающие места в партере, учащённо посматривают на часы. Взоры всех от времени до времени устремляются в оркестр на дирижёрское место, которое пусто. Скоро ли он придёт? Скоро ли взмахнёт он своей волшебной палочкой, и вслед затем польются божественные аккорды?
Всем хорошо знакомо это начало. У каждого в сердце звучат эти глубокие, то стонущие, то замирающие, то торжествующие аккорды, незаметно переходящие в яркую, прозрачную и полную могучей юности мелодию. Это «Фауст», которого все знают наизусть и всё-таки ходят слушать, как спешат все в сотый раз пожать руку старому, вечно милому другу.
На сцене всё готово. И старый, потёртый картон, долженствующий изображать раскрытый пергамент древней книги, и оловянный кубок, со вставленной в него стеклянной пуговицей, блеск которой публика будет принимать за жаркий блеск фамильного бриллианта, доставшегося доктору Фаусту от отдалённого предка, и страшный череп, коему суждено свидетельствовать о неимоверно глубокой учёности доктора, и солнце, которое взойдёт именно тогда, когда это будет надо, – и всё-всё готово.
Готов и Мефистофель. Неимоверно широкими шагами расхаживает он за кулисами, слегка прихрамывая, как истый чёрт, только что вышедший из ада. Его потешное лицо с неимоверно-горбатым носом, с неимоверно косыми и приподнятыми бровями, с чертовски острой бородкой, – дышит в самом деле злобой, только не дьявольской, а настоящей человеческой злобой. Когда он случайно, проходя мимо, заглядывает в уборную, он задыхается, и ноги его начинают дрожать. Там, в уборной, сидит и беседует с антрепренёром его соперник… «О, я хотел бы послушать, как он споёт Мефистофеля! Хотел бы я посмотреть, как он его провалит! – шепчет он с бешенством, со злобой, с завистью, с ненавистью, со всеми вражескими чувствами, соединёнными в одно гигантское желание раздавить, уничтожить, превратить в прах противника. – Подлец! Он готов служить за грош, а я не уступлю ни одного рубля, хотя бы помирал с голоду… Да, это у него большой шанс!.. Но посмотрим, посмотрим! Я им сегодня покажу, что я такое! Я потрясу театр, я развалю стены громом рукоплесканий и криками восторга»… И в этот момент что-то кольнуло у него в сердце. На миг он остановился как вкопанный; он вспомнил… Ах, там, дома!.. Если он не развалит стены театра громом рукоплесканий и криками восторга, если он не устоит на месте 1 баса, – там будет голод, и его бедная жена, его маленькая дочка, – будут страдать… Он чувствовал, что голос у него «опустился», в горле жар и сухость. Если так будет дальше, у него не выйдет ни одной ноты, и он погиб…
Однако, там уже началось, он ничего не замечает, всё шагает, шагает, и с каждым шагом злоба его растёт. О, если бы только могла вместить его грудь, то в неё влилось бы столько злобы, что он, вместе со своим гримом, вместе с этим огненно-красным плащом, превратился бы в настоящего дьявола.
«О, смерть, о, смерть, когда же ты
Мне дашь успокоенье?
Коль ты бежишь, коль ты бежишь,
Так я пойду к тебе-э-э навстречу»…
Фауст отлично взял эту высокую ноту: «к тебе-э-э» и разбудил его от мучительного забытья. «Однако, сейчас мой выход! Боже мой!» Он схватился за голову и заковылял по узкой, грязной и тёмной лестнице вниз, в преисподнюю, так как Фауст уже предавал проклятью «все радости земные и цепи земной тюрьмы», «состав телесный, несовершенный и больной» и пр., и пр.
– Ваш выход, ваш выход! – шипел над головой его сценариус.
Через минуту он уже выползал из-под земли, окружённый красным заревом, приложив одну руку полукругом к боку, а другой указывая на свою грудь. Голова его дрожала от волнения, а перо на шляпе трепетало, словно колеблемое бурей.
«Во-о-о-т и я!..»
– возгласил он и побледнел, и ноги его готовы были подкоситься. Голос его одеревенел, он сам не слышит своего голоса. Судьба смеётся над ним. Он откашлялся и продолжал:
«Чему ж ты дивишься?..»
А Фауст, в самом деле, глядел на него и дивился. Да и было чему подивиться. Мефистофель пел не басом, как полагается, и как пел и он столько раз, а каким-то дряблым, разбитым тенорком. Что сталось с Мефистофелем?
* * *
Минул второй акт. В уборной примадонны было тихо. Она сидела одна. На ней было скромное белое платье, подпоясанное стальным кушаком. Две русые тяжеловесные косы спускались до колен; в руках она держала молитвенник с бархатным малиновым переплётом. Она стояла перед зеркалом в скромной позе смущённой Маргариты и находила, что ей это очень идёт. Она была хорошенькая. На сцене она – новинка, Маргарита – её третья роль.
Дверь скрипнула, она подняла голову.
– Кто там?
– О, свои, свои! Не беспокойтесь; это я, влюблённый в вас Фауст…
– Что? Что это значит?
– Влюблённый Фауст! Ха, ха, ха! Фауст влюблён в Маргариту, а я – в вас… Что ж тут удивительного? Ха, ха, ха, ха!..
– Вы с ума сошли!.. Уходите, пожалуйста!..
Она вспылила. О, да ведь она была ещё так неопытна. Ну, что тут дурного, в самом деле, что он, первый тенор, ухаживает за нею, примадонною? Это так естественно.
Он был хорошо сложён. Лицо его было довольно красиво и без грима. Он носил свои усы и свою эспаньолку. Правда, это лицо напоминало лицо парикмахера, но тем не менее 1 тенор считался дамским любимцем. Волос на его голове было немного; ведь он уже лет 12 исполнял роли любовников и считался дамским любимцем… Но он умел хорошо носить парик.
Он глядел на неё в упор. Взгляд его был вызывающий, нахальный, а она была так ещё неопытна, так мало «знала сцену», что этот взгляд показался ей противным. Она ещё раз попросила его уйти.
– Да вы не сердитесь, милая Маргариточка! Я ведь ничего, я только ручку поцеловать…
Он схватил её руку и присосался к ней. Она с презрением оттолкнула его.
– Подите, я вам говорю!.. – крикнула она.
– Ха, ха, ха, ха! – отвечал он.
– Это ни на что не похоже! Подите, или я позову слугу…
– Ха, ха, ха, ха! Какая вы сердитая! – добродушно говорил он.
– Господи! Что же это такое!?
О, как она была неопытна!.. Раздался звонок.
– На сцену, на сцену! – послышался голос сценариуса.
– У нас ведь с вами дуэт! – промолвил он, уходя, и при этом как-то так подмигнул, что её передёрнуло.
Зибель пел свою арию. Она стояла у кулисы, волнуясь и обдумывая подробности предстоящего выхода.
– На сцене я вас поцелую! – раздался шёпот над её ухом.
Она испуганно обернулась. Это был тенор; он смотрел ей в глаза просто и благодушно.
– Вы не смеете!..
– Как?! На сцене? Ха, ха, ха!.. Да ведь это по пьесе… Ха, ха, ха, ха!.. – и он залился весёлым смехом.
– Нахал, нахал!.. Если вы посмеете, если…
– Ваш выход, ваш выход! – раздалось у неё за спиной.
Она, задыхаясь, поспешила к главной двери.
* * *
Оркестр наигрывал волшебную мелодию. На сцене разливался таинственный полумрак. В окно светила луна, её нежный свет любовно серебрил трогательную группу на авансцене. Фауст левой рукой охватил Маргариту за талию, а правой сжимал её руку. Он пел:
Игнатий Николаевич Потапенко
«…Театр полон. Сотня газовых рожков, ярко освещающих зрительный зал, весело подмигивают друг другу, как бы сочувствуя и радуясь успеху антрепренёра. Верхняя публика волнуется, шумит, стучит, требует начала, выражает нетерпение. Солидные люди, с достоинством занимающие места в партере, учащённо посматривают на часы. Взоры всех от времени до времени устремляются в оркестр на дирижёрское место, которое пусто. Скоро ли он придёт? Скоро ли взмахнёт он своей волшебной палочкой, и вслед затем польются божественные аккорды?..»
Игнатий Николаевич Потапенко
Иллюзия и правда (Эскиз)
Театр полон. Сотня газовых рожков, ярко освещающих зрительный зал, весело подмигивают друг другу, как бы сочувствуя и радуясь успеху антрепренёра. Верхняя публика волнуется, шумит, стучит, требует начала, выражает нетерпение. Солидные люди, с достоинством занимающие места в партере, учащённо посматривают на часы. Взоры всех от времени до времени устремляются в оркестр на дирижёрское место, которое пусто. Скоро ли он придёт? Скоро ли взмахнёт он своей волшебной палочкой, и вслед затем польются божественные аккорды?
Всем хорошо знакомо это начало. У каждого в сердце звучат эти глубокие, то стонущие, то замирающие, то торжествующие аккорды, незаметно переходящие в яркую, прозрачную и полную могучей юности мелодию. Это «Фауст», которого все знают наизусть и всё-таки ходят слушать, как спешат все в сотый раз пожать руку старому, вечно милому другу.
На сцене всё готово. И старый, потёртый картон, долженствующий изображать раскрытый пергамент древней книги, и оловянный кубок, со вставленной в него стеклянной пуговицей, блеск которой публика будет принимать за жаркий блеск фамильного бриллианта, доставшегося доктору Фаусту от отдалённого предка, и страшный череп, коему суждено свидетельствовать о неимоверно глубокой учёности доктора, и солнце, которое взойдёт именно тогда, когда это будет надо, – и всё-всё готово.
Готов и Мефистофель. Неимоверно широкими шагами расхаживает он за кулисами, слегка прихрамывая, как истый чёрт, только что вышедший из ада. Его потешное лицо с неимоверно-горбатым носом, с неимоверно косыми и приподнятыми бровями, с чертовски острой бородкой, – дышит в самом деле злобой, только не дьявольской, а настоящей человеческой злобой. Когда он случайно, проходя мимо, заглядывает в уборную, он задыхается, и ноги его начинают дрожать. Там, в уборной, сидит и беседует с антрепренёром его соперник… «О, я хотел бы послушать, как он споёт Мефистофеля! Хотел бы я посмотреть, как он его провалит! – шепчет он с бешенством, со злобой, с завистью, с ненавистью, со всеми вражескими чувствами, соединёнными в одно гигантское желание раздавить, уничтожить, превратить в прах противника. – Подлец! Он готов служить за грош, а я не уступлю ни одного рубля, хотя бы помирал с голоду… Да, это у него большой шанс!.. Но посмотрим, посмотрим! Я им сегодня покажу, что я такое! Я потрясу театр, я развалю стены громом рукоплесканий и криками восторга»… И в этот момент что-то кольнуло у него в сердце. На миг он остановился как вкопанный; он вспомнил… Ах, там, дома!.. Если он не развалит стены театра громом рукоплесканий и криками восторга, если он не устоит на месте 1 баса, – там будет голод, и его бедная жена, его маленькая дочка, – будут страдать… Он чувствовал, что голос у него «опустился», в горле жар и сухость. Если так будет дальше, у него не выйдет ни одной ноты, и он погиб…
Однако, там уже началось, он ничего не замечает, всё шагает, шагает, и с каждым шагом злоба его растёт. О, если бы только могла вместить его грудь, то в неё влилось бы столько злобы, что он, вместе со своим гримом, вместе с этим огненно-красным плащом, превратился бы в настоящего дьявола.
«О, смерть, о, смерть, когда же ты
Мне дашь успокоенье?
Коль ты бежишь, коль ты бежишь,
Так я пойду к тебе-э-э навстречу»…
Фауст отлично взял эту высокую ноту: «к тебе-э-э» и разбудил его от мучительного забытья. «Однако, сейчас мой выход! Боже мой!» Он схватился за голову и заковылял по узкой, грязной и тёмной лестнице вниз, в преисподнюю, так как Фауст уже предавал проклятью «все радости земные и цепи земной тюрьмы», «состав телесный, несовершенный и больной» и пр., и пр.
– Ваш выход, ваш выход! – шипел над головой его сценариус.
Через минуту он уже выползал из-под земли, окружённый красным заревом, приложив одну руку полукругом к боку, а другой указывая на свою грудь. Голова его дрожала от волнения, а перо на шляпе трепетало, словно колеблемое бурей.
«Во-о-о-т и я!..»
– возгласил он и побледнел, и ноги его готовы были подкоситься. Голос его одеревенел, он сам не слышит своего голоса. Судьба смеётся над ним. Он откашлялся и продолжал:
«Чему ж ты дивишься?..»
А Фауст, в самом деле, глядел на него и дивился. Да и было чему подивиться. Мефистофель пел не басом, как полагается, и как пел и он столько раз, а каким-то дряблым, разбитым тенорком. Что сталось с Мефистофелем?
* * *
Минул второй акт. В уборной примадонны было тихо. Она сидела одна. На ней было скромное белое платье, подпоясанное стальным кушаком. Две русые тяжеловесные косы спускались до колен; в руках она держала молитвенник с бархатным малиновым переплётом. Она стояла перед зеркалом в скромной позе смущённой Маргариты и находила, что ей это очень идёт. Она была хорошенькая. На сцене она – новинка, Маргарита – её третья роль.
Дверь скрипнула, она подняла голову.
– Кто там?
– О, свои, свои! Не беспокойтесь; это я, влюблённый в вас Фауст…
– Что? Что это значит?
– Влюблённый Фауст! Ха, ха, ха! Фауст влюблён в Маргариту, а я – в вас… Что ж тут удивительного? Ха, ха, ха, ха!..
– Вы с ума сошли!.. Уходите, пожалуйста!..
Она вспылила. О, да ведь она была ещё так неопытна. Ну, что тут дурного, в самом деле, что он, первый тенор, ухаживает за нею, примадонною? Это так естественно.
Он был хорошо сложён. Лицо его было довольно красиво и без грима. Он носил свои усы и свою эспаньолку. Правда, это лицо напоминало лицо парикмахера, но тем не менее 1 тенор считался дамским любимцем. Волос на его голове было немного; ведь он уже лет 12 исполнял роли любовников и считался дамским любимцем… Но он умел хорошо носить парик.
Он глядел на неё в упор. Взгляд его был вызывающий, нахальный, а она была так ещё неопытна, так мало «знала сцену», что этот взгляд показался ей противным. Она ещё раз попросила его уйти.
– Да вы не сердитесь, милая Маргариточка! Я ведь ничего, я только ручку поцеловать…
Он схватил её руку и присосался к ней. Она с презрением оттолкнула его.
– Подите, я вам говорю!.. – крикнула она.
– Ха, ха, ха, ха! – отвечал он.
– Это ни на что не похоже! Подите, или я позову слугу…
– Ха, ха, ха, ха! Какая вы сердитая! – добродушно говорил он.
– Господи! Что же это такое!?
О, как она была неопытна!.. Раздался звонок.
– На сцену, на сцену! – послышался голос сценариуса.
– У нас ведь с вами дуэт! – промолвил он, уходя, и при этом как-то так подмигнул, что её передёрнуло.
Зибель пел свою арию. Она стояла у кулисы, волнуясь и обдумывая подробности предстоящего выхода.
– На сцене я вас поцелую! – раздался шёпот над её ухом.
Она испуганно обернулась. Это был тенор; он смотрел ей в глаза просто и благодушно.
– Вы не смеете!..
– Как?! На сцене? Ха, ха, ха!.. Да ведь это по пьесе… Ха, ха, ха, ха!.. – и он залился весёлым смехом.
– Нахал, нахал!.. Если вы посмеете, если…
– Ваш выход, ваш выход! – раздалось у неё за спиной.
Она, задыхаясь, поспешила к главной двери.
* * *
Оркестр наигрывал волшебную мелодию. На сцене разливался таинственный полумрак. В окно светила луна, её нежный свет любовно серебрил трогательную группу на авансцене. Фауст левой рукой охватил Маргариту за талию, а правой сжимал её руку. Он пел: