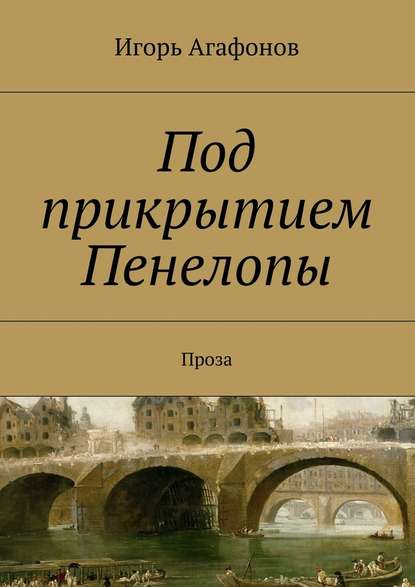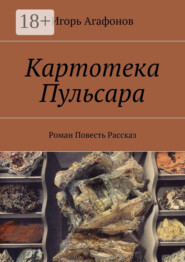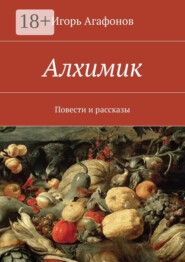По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Под прикрытием Пенелопы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они ещё не знали, что у этой истории будет продолжение.
Неожиданно пришла повестка в суд. Там только и обнаружилось, что иск – от Серого. Оказывается, он заявил, что это Миронов-отец его избил, и требовал теперь компенсации… Мирошу тоже вызвали на заседание и допрашивали как свидетеля. Когда он шёл к кафедре, Серый, сидевший у прохода, громко шепнул – не без расчета на хороший судейский слух, очевидно:
– Удавлю, если соврёшь, гадёныш!
Мироша испугался, но рассказал, как было на самом деле, не упомянув только, что отец шлёпал Серого по животу.
Однако суд вынес решение, что Миронов-старший должен оплатить бюллетень потерпевшего.
А на следующей неделе поздно вечером кто-то бросил в их окно камень, пробивший оба стекла и срубивший «Мокрого Ваньку». Они выскочили на улицу и крадучись выглянули из-за угла дома. Но никого не увидали…
– А знаешь, что я вспомнил?.. – сказал отец уже в квартире, затыкая старой наволочкой пробоину в стекле. – До утра и так сойдёт…
– И что ты вспомнил?
– Я нёс тебя на руках… – отец лёг на диван, устремил глаза в потолок. – Ты ещё не разговаривал – маленький совсем… ну, папа, мама, ба, бэ, бу… никаких ещё эр, эс. И вдруг ты чётко-чётко: ветер-р, ветер-р, ты могуч, ты гоняешь стаи туч! Ты волнуешь сине мор-ре, всюду веешь на пр-ростор-ре!.. Да с выражением! И кулачок сжал. Я чуть не выронил тебя от неожиданности.
Мироша некоторое время глядел на отца, ожидая продолжения, затем спросил:
– А про какие бубенцы ты говорил… там, на крыльце?»
Ефим Елисеевич поднялся с ящика и, вздохнув с облегчением – будто рассчитался с давними долгами, – пошёл на автобусную остановку. «Вот эта улица, вот этот дом…»
4.
Доктор, когда я после аварии выписывалась на костылях, посоветовал мне вести дневник – для психологической адаптации, что ли… У меня и с головой складывалось не совсем хорошо, депрессия от несладкого будущего захлёстывала иной раз до полного умопомрачения… Обездвиженность для меня была самой страшной карой… не знаю только за что. И если б не отец, который насильно массировал мою ногу, а я орала благушей, не представляю, сумела бы я отставить впоследствии эти костыли?..
Взявшись, однако, за писание, я никак не могла долгое время фиксировать день настоящий. Меня тянуло на воспоминания…
Запомнилась я себе самой из раннего детства – лет четырёх – девочкой с пышными сиреневыми бантами, любимой дочкой, обожаемой внучкой. Дед боготворил меня, возился со мной больше всех остальных внучат и внучек, а бабка, когда на неё накатывала депрессия, ревновала его из-за этого. Она, как я теперь понимаю, не всегда была адекватной. Большая, пухлая, тёплая, сядет посередь комнаты на стул и улыбается неведомо чему. Приластишься к ней и потонешь в её тёплой пухлости. Тогда я ещё не знала таких слов, как ревность, но ощущала и понимала это состояние, пожалуй, даже лучше, нежели сейчас, когда и пресыщенность мешает улавливать мельчайшие нюансы душевных движений и попросту затёртость некоторых понятий частым суетным употреблением. Ушла трепетная чуткость с возрастом, валом лежат сверху многие ненужности, хоть и вбивали их в твою голову порой с упорным постоянством.
Ну а родители мои были врачи – папа хирург, мама терапевт – и практику они проходили в райцентре Знаменка Н-ской области. Дружили они там с председателем колхоза, у которого был сын Витька, мой ровесник, и с которым я ну никак не смогла подружиться. Было мне тогда лет уж пять. В банный день мыли нас с братом в корыте. И Витька этот зашёл как раз и увидел… Мне стало неудобно. Братишку не замечала, а Витька…
Помню школу из силикатного кирпича, пристроенную к усадьбе тётки Натальи Гончаровой. Старая усадьба меня прямо-таки притягивала магнитом. Подставка мраморная для колонны – остаток былой роскоши – будила моё воображение. Прекрасная резная дубрава вокруг – каждый листик именно что исполнен рукой искусного мастера. И мы с папой любили там гулять, делать из желудей разных зверушек. И сочинять про них сказки. Папа начинал обычно так: «В некотором царстве-государстве росла девочка Аля. Она любила, чтобы её любили… – И мне: – Теперь ты, продолжай». Но я своих сочинений почему-то не запомнила.
Зато хорошо помню подснежники – нежно-нежно-голубые, пронизанные солнцем, как раскатанный в ладошках воск тонким листиком – трогательные, только-только из-под снега, в сизых проталинах. Очень мне нравилось букеты собирать и нюхать, нюхать…
А ещё помню, как я дразнила большого индюка. И он погнался за мной, не вытерпев моего хамства, очень быстро погнался. Я испугалась, улепётывала во весь дух, руками размахивала, как мельница крыльями. Спряталась в заросли полыни, затаилась на корточках, хоть и дышу, точно паровик. С тех пор запах полыни я прямо-таки обожаю. Очень жаркий был день, полынь источала горьковато-голубой аромат. Долго я просидела в этих зарослях, вдыхая поочерёдно то носом, то ртом. И надышалась полынной пыльцы до одурения, так что во мне творческая жилка тогда и пробудилась, наверно… Много позже я где-то прочитала или услышала, что полынь-трава отвечает за творческое начало в человеке. Может, поэтому нравилось мне искусничать-рукодельничать. Ну, например, в кустах сирени – а дом наш утопал в её бело-лиловой кипени – я любила делать секреты: узор из фантика, цветочка и травинок – всё это накрывалось куском стекла, и присыпалось землёй. Можно затем было торжественно разгрести и показать подружкам свой волшебный гербарий… Впрочем, о таких гербариях я много читала после у других повзрослевших…
Помню ещё, мальчишки унесли папины марки. Я сама их показывала им, а они затем своровали… Хотя нет, это братишка мой на что-то поменял их, а на меня свалил…
Помню, папа любил мастерить мебель. Стеллаж с берёзовыми ножками соорудил – для приёмника предназначался и прочих интересных вещиц. Я всё бересту пыталась отколупнуть, а он мне говорил: не надо, так красивее.
Икона вот ещё засела в памяти. У бабы Вари их было много. А я с ней спорила, назидательно указывала: «Бога нет!» Но бабушка мудро отмалчивалась.
Евгения Кузьминична – первая моя учительница. В их роскошном саду мы с вредным сынком её Вадькой на пару поедали крупнющую малину, и он жадничал, оттеснял меня плечом и сердито бубнил: «Не ешь мою малину! Моя малина, говорю!» Но это всё бесполезно было с его стороны. Я ему не подчинялась и говорила, что пожалуюсь маме с папой, и его, жадину, отстегают ремнём.
Речку помню, чудная такая – так мне казалось почему-то. Плавать научилась. В этой речке росли кубышки-кувшинки, ивы по берегам шелестели. Два моста. Один высокий – почему-то страшил меня своей громадной неказистостью. Другой низкий. Лёд по зиме оттуда возили для погребов – на лето. По весне же трактор утоп. Тракторист напился и сверзился…
Большое поле перед глазами благоухает, коровьи мины под ногами – наступишь случайно – и в нос ударит навозный запах – тёплый, приятный. Вербу по весне собирали в лесу за полем. Казалось – как далеко ходить! Какая даль!.. И всё-то детство – это простор, от которого становилось легко и жутко весело. Привольные пространства всегда меня захватывали, покоряли своей грандиозной неохватностью, наполняли неудержимым душевным подъёмом. Не оттого ли я так часто летала во сне и до сих пор летаю?
На велосипеде научилась кататься. Папа за мной бежал-бежал, придерживая за сиденье, а потом отпустил, и я этого не заметила, сама собой поехала…
Помню большущие лужи и гусиную травку по обочинам…
Сельский клуб, куда можно было ходить в кино за медный пятачок, помню – будто вчерашний день. Мама не всегда давала пять копеек, но в жару двери клуба держали настежь, и можно было запросто (а возможно, и не сторожил никто) пробраться потихоньку на коленках и посмотреть кончик фильма.
На деревянной горке со сломанными перильцами я разбила бровь о торчащий гвоздь. Хорошо, не в глаз. Боялась домой идти. Мама: что ж ты сразу не пришла, я б тебе поправила, скобочку наложила. А теперь вот шрамик останется…
А однажды – это было уже зимой – папа так шлёпнул меня, что я обиделась чуть ли не до сегодняшнего дня. Мне это показалось так больно… и так страшно. И, главное, несправедливо. Стемнеет, сказал он, сразу иди домой! Ну, стемнело, я и пришла. А насколько стемнеть должно было?
А в доме чудесная печь, и мышка под ней, головка в норке, а хвостик наружу – как будто нарочно его высунула. Я хотела схватить, да куда там!.. И сейчас вот думаю: неужели она, эта маленькая и серенькая норушка, видя, что мне скучно, таким вот образом развлекала меня, играла со мной? Плутовка…
В первом классе – мой первый ухажёр, он обращал на себя моё внимание тем, что толкал, дёргал за волосы, даже подножку подставил. Я упала, поцарапалась. Орала нарочно громко, хотя не так уж и больно было. Мальчишке досталось. Я же победно на него после поглядывала. Вот, мол, отомстила. А он огорчился… за то, что причинил мне боль, как сказал позже. Я это запомнила.
А вообще, ребята клеились ко мне буквально с четырёх лет. И конца и края с тех пор не было этим ухаживаниям…
Маму, как врача, приглашали преподавать в школе анатомию. Я гордилась этим. Мне также нравилось бывать в районной, очень уютной больнице. Наблюдать за всем, общаться с больными… Вон дед-лохмадей поставил себе градусник под мышку, да не тем концом – и мне смешно. И я важно подходила и назидательно указывала ему на ошибку. И он делал испуганные глаза и торопился исправить оплошность. Теперь думаю: нарочно он так делал. Пробовала с мамой больничную еду, и хлебные котлеты мне нравились больше, чем мясные домашние.
Однажды я стибрила рубль у подружки, потом бросила его в траву и сделала вид, что нашла. И мы вместе затем проели этот рубль на пирожных – в магазин иногда такие вкусные сладости завозили. Она этот рубль носила в кармане целую неделю. Вытащит, повертит и опять спрячет… она не знала, что такое деньги, не знала их назначения, и как применять, и я открыла ей новые возможности… Помню её удивление и восторг по этому поводу. Она даже попрыгала и похлопала в ладоши.
Потом практика у родителей закончилась, и мы уехали в Москву. Это 70-е годы. Хиппи появились и смутили моё сознание, расклешённые брючки в моду вошли… Мама вставила в мои синие клинья розового цвета… Тогда мне нравилось, а сейчас, вспоминая, думаю: это было ужасно.
Хм, карты игральные мы с девчонками нашли как-то у школы, порнушные. Это не теперешнее время, когда по телику да в интернете можно увидеть всё, что хочешь и не хочешь. А тогда мы по очереди хранили этот разврат у себя дома. Я под матрасом держала. Очень это меня беспокоило. И только я отнесла их подружке и возвращаюсь, глядь, а папа перестилает мне постель… Не хочу уверить кого-либо в своей неискушённости, вовсе нет, ведь я была дочкой врачей, имела доступ к медицинской литературе, нашпигованной разными картинками, которые изучала… Нет, не в этом дело. Просто знать-то мы знали, но не применительно к себе, что ли…
Было детство – чистое-пречистое, с высоким синим небом и сказочными облаками, была и юность не менее чистой и возвышенной. Я любила подмёрзшие ягоды боярышника – мягкие, морщинистые, но ещё душисты, терпкие… И я, как зверок голодный, поедала сей деликатес – тогда, помню, выпал первый снег – и это врезалось в память так ярко, что ни с чем плотским о ту пору я не берусь сравнить по силе ощущений. Было любопытство к противоположному полу – и это естественно, но не было никакой абсолютно тяги познать немедленно, вожделение не обуревало, нет… Я не знаю, как там у мальчиков, но я действительно мечтала о принце на белом коне… И вихрь из-под копыт, и полёт средь бескрайнего луга цветов – алых тюльпанов.
В новой школе – учитель литературы, спецфакультатив. Он выделял меня, потому что я писала хорошие сочинения. С ним у меня связано такое же подростковое воспоминание: однажды он выговаривал моей матери – я, мол, разочарован, дочь ваша ленится. После этого я всегда старалась всем доказать, что во мне нельзя разочароваться. Нет, уже раньше, года в четыре – мама просила пройтись в новой юбочке и кофточке, как манекенщица, и я уже тогда хотела всем понравиться, всех очаровать. Быть центром внимания. Этим, должно быть, и отличалась я среди своих сверстниц. Они поэтому и ревновали меня друг к дружке – кому дружить со мной. «Алюсь, а с кем ты будешь водиться?» И постоянно меня копировали: стоило мне связать себе новую кофточку или кисет для денег, тут же начиналось повальное увлечение вязанием этих самых кисетов…
Я же дружила с мальчишками. На физкультуре я прыгала с ними через «козла», отжималась от пола, забиралась по канату к потолку – причём, по нескольку раз. Я вообще была заводилой и старостой по спортивным дисциплинам. Чемпионкой по лыжам в школе…
…Справляли Новый год. По магазинам бегали девчачьей толпой. Я была заводилой, и голова моя была забита хозяйственными заботами: что уже купили, чего ещё нет. А нас сопровождал один из моих воздыхателей. Жутко в меня влюблённый. Личико прыщавое, но зато отличник, задачки помогал мне решать. Вот он сзади плетётся за нами и объясняется мне в любви, а я не слышу – голова потому что другим занята: мандарин ещё надо купить, в фольгу завернуть, чтоб на ёлке сверкали серебром и златом… И тут Ирка Буравкина кричит мне в ухо: ты что, не слышишь?! Алюсь, проснись! Он же тебе в любви объясняется!
И мне сделалось так обидно, что я прослушала: мне ещё никто до этого в открытую не признавался в своих чувствах. Записки писали, вздыхали молча, но чтобы сказать люблю, да ещё при свидетелях… Ведь лестно же знать: в тебя влюблены, тебе признаются в этом даже принародно, – а ведь это так страшно – признаться! – а ты в это время думаешь про всякую мишуру – какие-то мандарины и золотую фольгу, в которую надобно их завернуть и прицепить на ёлкины-моталкины ветки…
Из параллельного класса Олег ещё влюблён был в меня. Словом, мальчишки за мной ватагой ходили, буквально по пятам, следили даже, выслеживали, следопыты. Зачем-то армянским шрифтом составляли послания. Благо, кинотеатр «Армения» был поблизости, можно было буквы сопоставить и смысл понять. И сама я услышала однажды: «Да, у Алюси самые красивые ноги…»
И ещё один парнишка был влюблён в меня, мне потом уже Буравкина (опять она) сказала об этом. Он ко мне подойти не решался, и попросил мою подружку – хотел через неё ко мне приблизиться, а… потом и женился на ней.
Родители мои развелись, когда я училась в девятом классе. Особой драмы на тот период я не почувствовала, поскольку получила большую свободу. К тому же я поменяла школу, а это как-никак, а новые впечатления и психологическая нагрузка. И там я возненавидела уроки литературы. Одно сочинение за год написала и то не сдала на проверку. Учитель наш охочь был порассказать интимные подробности о великих писателях, и это меня страшно коробило – мне казалось это совершенно неуместным. Скабрезным даже. При этом я подозревала выдумку, его больное воображение. И я с ненавистью зыркала в сторону этого подлого выдумщика. Выискивала в нём недостатки. С горем пополам закончила школу…
В семнадцать лет мама устроила меня в типографию брошюровщицей, и год целый я там без всякой пользы отбарабанила – и для себя и для государства, что называется. Я такая: люблю простор, разнообразие, новые знакомства, общение, выставки разные. Вот и с Ирой Егоровой познакомилась в очереди на Испанскую живопись. Тогда меня потрясла картина «Святое семейство» Эль Греко, и её, Ирку, тоже картина эта не оставила равнодушной. Потом мы пошли к ней в гости – слушали пластинку с ариями из оперы «Руслан и Людмила», смотрели альбом Дюрера. Ира была старше меня на год и уже студенткой, и позже привела меня в МАДИ (автодорожный институт), к своему дружку – Сашке Гончару, однокурснику моего будущего мужа Кости, с которым впоследствии он нас и свёл.
Н-да, Костя, Константин… Первое впечатление – не понравился. Из его семьи я любила только бабушку.
А познакомились мы под Новый год в общежитии МАДИ. Он выгребал капусту из баночки, которую ему собрала на вечеринку бабуля, а я обожаю пробовать всё домашнего приготовления. И он предложил отведать.
На той вечеринке мне больше всех понравился Антон Литров. И Костя потом всё время плакался ему в жилетку, а позже дал ему для передачи мне своё фото. Я приняла, и Костя воспрянул духом, как сказал позже. А тут весна подоспела, и он был внимателен и весь такой галантный, вскружил-таки мне голову. И я влюбилась… При этом, замечу только, я всегда Кости почему-то стеснялась… чего-то важного не хватало в нём, на мой привередливый взгляд, не доставало чего-то… И мне казалось, что все видят эту его непрезентабельность, кондовость даже. О себе-то я была более чем высокого мнения… интеллектуалка, с развитым художественным вкусом и так далее.