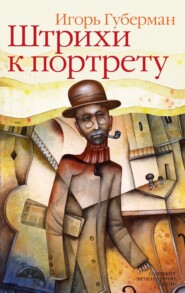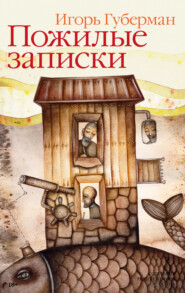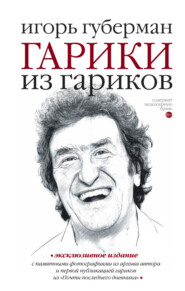По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Проза о неблизких путешествиях, совершенных автором за годы долгой гастрольной жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сабина Шпильрейн была дочерью удачливого коммерсанта из Ростова-на-Дону. Училась, музицировала, была обучена отцом трем европейским языкам. Когда она оканчивала гимназию (с золотой медалью, кстати), у нее погибла от тифа горячо любимая младшая сестра. И у Сабины началось психическое недомогание. Галлюцинации, дурные сны, депрессия, попытки кончить жизнь самоубийством. Нафтулий Шпильрейн, отчаявшись вылечить дочь у местных врачей, отправил ее в Цюрих. Там она попала к молодому доктору Карлу Юнгу, он нашел запущенную истерию и решил ее лечить психоанализом, которым тогда беззаветно увлекался. О своей российской пациентке он даже учителю писал, так что Зигмунд Фрейд уже знаком был с этим именем. В лечении психоанализом имеется черта, замеченная сразу же его творцами: у пациента вспыхивает к доктору любовь. Сабине было девятнадцать, и она, конечно, полюбила Карла Юнга. Психоаналитик ей ответил пламенной взаимностью. Поэтому выздоровление Сабины вряд ли можно объяснить одним лишь торжеством психоанализа, но главное, что все недомогания прошли. Роман их длился лет семь (и в тайне протекал, поскольку доктор был уже женат), а после Юнг порвал их отношения, покинув город. Однако же Сабина к той поре уже сама окончила медицинский факультет университета в Цюрихе и занялась психоанализом.
А вскоре в Вене сделала она доклад, в котором главная идея настолько потрясла Фрейда, что великий ученый весьма заметно изменил основы своей теории. Ранее он полагал, что главный жизненный инстинкт, который движет человеком, – это Эрос, созидательный инстинкт продления рода. Молодая исследовательница сделала доклад, который назывался «Разрушение как фактор созидания». Она веско утверждала, что стремление к погибели, деструкции и смерти неразрывно в человеке со стремлением творить и созидать. И возникший в новой книге Фрейда инстинкт смерти (Танатос) был уже на равных с Эросом в психическом устройстве человека.
Фрейд упомянул короткой строчкой первенство Сабины в данном вопросе, но не раз впоследствии его ученики с усмешкой говорили, что блестящая идея была попросту присвоена выдающимся открывателем устройства нашей психики.
Почему коллега из России сделала такое поразительно глубокое открытие? Вопрос этот многажды возникал у психоаналитиков того времени. А я, когда об этом удивлении прочел, то только усмехнулся понимающе. Не слышится ли вам в названии доклада («Разрушение как фактор созидания») отчетливая смысловая рифма со словами известного бунтаря, всюду разнесенными в те годы ветром времени? Пожалуй, не было тогда в Швейцарии никого из россиян, кто не слыхал (и в разговоре не употреблял) фразу Бакунина: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть».
Отсюда – два шага до переноса этой мысли на глубинное устройство человека. Соглашусь со всеми, кто скептически пожмет плечами, только я уверен, что мышление Сабины (кроме знания о собственных недугах и влечениях) с несомненностью включало и этот знаменитый анархический лозунг. А кстати, несколько десятков лет спустя в Женеве были найдены потерянные дневники Сабины Шпильрейн. И вот какие, в частности, слова там были (года за два до того доклада знаменитого она записывала мысли, приходившие ей в голову): «Демоническая сила, сущностью которой является разрушение (зло), – в то же время есть и творческая сила». А тут уж – совпадение полнейшее.
Недолго поработав в разных европейских клиниках, Сабина переехала в Россию. Фрейд горячо одобрил переезд: Россия представлялась мэтру очень плодоносным полем для психоанализа, к тому же – уезжало с глаз долой живое и безмолвное напоминание об авторстве основополагающей идеи.
В Москве в двадцатые года был учрежден солидный Государственный институт психоанализа: каким-то коммунистам-теоретикам казался очень перспективным этот путь проникновения в интимные глубины человека. Ибо победившая идеология заявляла: «Класс в интересах революционной целесообразности вправе вмешиваться в половую жизнь своих членов». И еще одна прекрасная цитата, много говорящая о духе полыхавшего замыслами времени: «Необходимо… электрифицировать огромный сырой подвал подсознания». В частности, психоанализу с восторгом покровительствовал Троцкий. Как только его влияние ослабло, институт закрылся навсегда. Более того: довольно скоро даже слово «психоаналитик» сделалось едва ли не синонимом погибельного звания «троцкист». Рассосались без следа эти ученые, а имя Фрейда на десятки лет исчезло из научного упоминания. От этой травмы лишь недавно стала оправляться психология в России.
Сабина вернулась в свой родной Ростов. Работала в поликлинике врачом (легенда есть, будто читала где-то лекции) и с мужем вновь сошлась. Еще когда-то в Цюрихе, чтоб заглушить тоску по Юнгу, вышла она замуж без любви и дочку родила, но муж ее потом оставил. А в Ростове – возвратился. Родила вторую дочь. Все прошлое разбито было и зачеркнуто, ни о какой науке речь уже не шла. К тому же наступили кровавые тридцатые, три ее брата (видные ученые) погибли в годы сталинского террора. Муж умер от разрыва сердца (слухи были, что ареста ждал и отравился).
Когда пришла война, Сабина уезжать категорически и резко отказалась: более культурной нации, чем немцы, не встречала она в жизни, а поэтому и не боялась ничего. В первый свой захват Ростова немцы удержались ненадолго, но вскоре пришли вторично. И в последний раз великого психолога Сабину Шпильрейн соседи видели в колонне, что в августе сорок второго года тянулась по центральной улице по направлению к Змиевской балке. С нею шли две дочки. Змиевскую балку вскоре стали называть Черным оврагом: там полегли под выстрелами двадцать семь тысяч человек еврейского населения. Возможно, больше, в точности никто не знает.
Уже намного позже разные мыслители напишут, что присущий в целом человечеству дух Танатоса – дрожжи революций, войн и появления таких погибельных миражей, как нацизм и коммунизм. Но мне уже глубины эти недоступны.
И еще по двум городам мы побродили кратко и наискось.
Признаки благополучного устройства жизни всюду раздражали мой наметанный российский глаз. Очень я душевно оживился от рассказа, как безумно процветает горный санаторий, сотворяющий омоложение усталых организмов. Тут желающим – за бешеную плату – впрыскивают вытяжку из печени эмбриона черного барана. Смешно мне стало, потому что век назад недалеко отсюда (но уже во Франции) как раз с баранов начинал свои эксперименты физиолог Сергей Воронов. Он половую железу барашка молодого старому барану подсадил, и тот опять стал покрывать овечек. После Воронов стал пересаживать семенники различных обезьян (орангутанги, павианы, шимпанзе отлавливались в Африке бесперебойно) всяческим дряхлеющим, но с деньгами мужчинам. Именно его прославленным экспериментам обязана российская наука за возникновение большого обезьяньего питомника в Сухуми.
Советские вожди немедля после смерти Ленина всерьез разволновались за свое здоровье, и немыслимых размеров средства были выданы на экспедицию за обезьянами. Но это уже русская, а не швейцарская история. Забавно только, что омоложение в горах швейцарских – с непременностью от черного барана. Вот и толкуйте после этого, что человечество умнеет век от века.
Мне, как путешественнику с опытом, обидно было, что не побывали мы в Люцерне. Потому что я лишился из-за этого прекрасной фразы – как бы она могла украсить путевой дневник! Я б мельком написал: «В гостях у Вагнера бывал тут Ницше». Не пришлось.
В Цюрихе дороги наши с Татой разошлись: она поехала домой, а мне еще недлинный предстоял вояж, который странным образом с заснеженными горами Швейцарии отменно рифмовался.
Я летел на выступления в Тюмень, Сургут и Салехард.
Когда мне близкий мой приятель предложил съездить туда, я ни минуты не кобенился и не скулил о диких расстояниях. За Северным полярным кругом я бываю редко, с радостью подумал я, припомнив, что уже один раз был. И циничную придумал тут же шутку, всем ее настырно излагая. Мол, когда в швейцарский город попадаешь, то обычно спрашиваешь, кто из интересных личностей здесь некогда бывал, а в городах сибирских – кто из замечательных людей тут некогда сидел.
В Тюмени мне хотелось постоять и выкурить сигарету возле старого большого дома (кажется, бывшей гимназии), где четыре года, всю войну, лежала – под охраной и врачебным сохранением – мумия Ленина, привезенная из Москвы.
Эту законсервированную реликвию отправили в эвакуацию почти что первой, чтобы не досталась подлому врагу. Еще хотелось мне за рюмкой водки поговорить неторопливо с кем-нибудь из местных знатоков о прошлом этого такого непростого места: здесь когда-то ведь была столица Сибирского ханства. А под водку с малосольной рыбой из Оби (особенно здесь славится муксун) как дивно потекла б эта беседа о казачьих отрядах Ермака и рати хана Кучума! Ну а если б удалось еще и в Ялуторовск смотаться – там были в ссылке декабристы и музей их есть, – то иначе как полным везеньем такое и не назвать.
Не сложилось. Пили много, и с хорошими людьми, но мы в Тюмень приехали, уже побыв в Салехарде, и совсем другие мотивы заполняли меня. Поскольку в Салехарде я хотел сыскать какие-нибудь местные труды о страшной стройке, что когда-то здесь вершилась, о железной дороге Салехард – Игарка, названной еще в ту пору коротко и страшно: Мертвая дорога. И нашлись материалы (их я вез с собой).
Исполнять стишки мне в Салехарде было очень трудно. Я уже давно избалован доброжелательным вниманием, отзывчивостью публики, а тут передо мной расстилалось глухое, полное молчание первых десяти – пятнадцати рядов. Откуда-то издалека я слышал смех, но не задние ряды делают погоду в зале, я выступал перед немой и вязкой пустотой. Забавно, что в конце были горячие и общие аплодисменты: первые ряды созрели или снизошли. Позднее на пьянке мне усмешливо мою догадку подтвердили: да, билеты в первые ряды купило местное начальство, чтобы лично посмотреть на фраера, которого читать не доводилось, но чего-то где-то было слышано о нем.
Я не был удивлен, не первый раз я сталкивался с тем, что местные хозяева сегодняшней российской жизни в большинстве своем еще совсем чуть-чуть ушли от образа своих коллег недавних подлых лет. И хотя они считают себя продвинутыми и много понимают в нынешней текущей жизни, но только внутренне переменились очень мало и окаменело цепенеют от любых свободных текстов. Да к тому же громко и со вкусом произнесенных. Замечательно когда-то было сказано, что русские писатели – все вышли из гоголевской «Шинели». Этот образ развивая, можно смело утверждать, что русское начальство – снизу доверху – все вышли из шинели сталинской. И в ней привычно пребывают, что в определенных ситуациях особенно заметно.
Утром я слегка опохмелился и вышел покурить на дьявольский мороз – что такие бывают, уже изрядно мною подзабылось. Крыльцо гостиницы выходило на центральную улицу, всюду стояли современные дома, на фоне снега выглядя особенно красиво, и ничего уже о прошлом не напоминало.
В лагерные времена здесь во Дворце строителей был зэковский театр, в нем играли многие известные артисты, музыканты и певцы, а оперы и драмы ставил актер и режиссер Леонид Оболенский, когдатошний сподвижник Эйзенштейна. Симфоническим оркестром управлял былой руководитель оркестра одесской оперы Николай Чернятинский. За пианино тут сидел недавний аккомпаниатор Давида Ойстраха Всеволод Топилин.
Зэк Александр Дейнека, действительный член Академии художеств СССР, оформлял этот Дворец культуры.
На каком-то лагерном участке, ото всех таясь, писал тут зэк-писатель Роберт Штильмарк свой блистательный роман «Наследник из Калькутты». Он хоть выжил, слава Богу, о нем судьба пеклась, а сколько здесь других талантливых людей погибло – знать уже не доведется никому. Еще глухая есть легенда, что начальство лагерное вольным докторам не доверяло, а лечиться в лагерные лазареты ездило и привозило свои семьи: очень уж известные врачи сидели в этих гибельных местах.
И ни одна живая тень на этой улице передо мной не промелькнула. Словно заморозилось мое воображение. А если б я и знал кого-нибудь по их былым портретам, то не опознал бы все равно в колонне истощенных зябнущих людей, бредущих на работу под надрывный хрип овчарок.
Легче мне представить оказалось, как по этой улице однажды лошади неторопливо протащили несколько саней, в которых кое-как накиданные, не прикрытые ничем валялись трупы. Это всем решила показать охрана стройки, как она карает за побеги. А отчаянные, обреченные побеги были часто. На поимку беглецов и авиацию пускали, да и активно помогало коренное население: награда полагалась за содействие. И вряд ли хоть один из беглецов добрался до материка.
Я знал затейливую пакостность своей натуры: где мне бывает хорошо, красиво и уютно, там немедля подползут-нахлынут яркие кошмарные воспоминания и мысли. О чем-нибудь, что пережил когда-то сам, или о том, что прочитал, увидел и услышал.
Спустя полгода оказался я в Америке. И выступал в Нью-Джерси, в замечательно красивом доме одного известного пианиста.
Дом был очень русский, мне его хозяйка показала, посоветовав еще по заднему двору пройтись – вон там, где ходят люди, выпивая и куря, лужайка наша того стоит, чтоб на ней немного погулять. Лужайка? Я не знаю, как назвать точней это огромное, поросшее кустами и травой пространство под старыми деревьями. Со вкусом запущенную подмосковную усадьбу это чем-то напоминало, хотя, видит Бог, усадьбы подмосковные мне видеть довелось только в изгаженном и запустелом виде. Я прошел этот большой участок до конца по мощенной камнем узкой тропке, вышел за ворота в задней части забора. И вот тут я обомлел. Буквально в метре от забора шла забытая железная дорога. Повсюду между шпал росла трава, а рельсы потемнели, их давно уже не шлифовали, придавая блеск, вагонные колеса. Но эта брошенная колея не выглядела мертвой. Над ней висела аура отдохновенного музейного покоя. Я побрел на выступление с досадой, что нельзя прямо сейчас – на той, к примеру, деревянной скамье – спокойно сесть и записать то, что мгновенно и ожиданно вспыхнуло в моей заглохшей было памяти. Точней – в сознании моем.
Я понял, почему я в Салехарде, глядя на дорогу, пройденную тысячами зэков, ни единой тени мысленно не смог увидеть. Потому что не хотел я видеть ничего, что отравило бы мое душевное гастрольное благополучие. Со мной случилось то же, что случилось с миллионами людей, боящихся того немыслимого прошлого, желающих забыть о нем и свой покой души не растревоживать. И не читаются поэтому воспоминания о лагерях – а потому и не хотят их издавать издатели, привычно чуткие к читательскому спросу, и равнодушная трава забвения растет над памятью замученных людей.
Зло запредельное, зло абсолютное – оно ни описанию, ни изображению любому начисто и напрочь недоступно. Более того – оно из памяти стремительно уходит, словно шлаки, могущие отравить душевную систему. И нужны усилия ума и воли, чтобы эту память встряхивать. И кстати, немцы это делают – с настойчивостью и назойливостью даже.
Однажды я побывал в Дахау.
В Мюнхене автобус есть, на нем конечная остановка так и обозначена: Дахау. Пассажиры его вряд ли чувствуют толчок сердечный, прочитав название городка, где издавна живут. А я на эту надпись на автобусе смотрел с непониманием и ужасом: у нас ведь очень точные ассоциации навеки сохранились с этим словом. А потом ходил я по большому лагерю-музею, недоумевая, как из него выветрился начисто тот дух отчаянья и смерти, что когда-то здесь витал. По-немецки аккуратно выглядели сохранившиеся чистые бараки, даже печи для сжиганья трупов тут смотрелись как реликвии какой-то мирной отошедшей технологии в каком-нибудь политехническом музее. Словно здесь была когда-то некая обычная и будничная фабрика по производству дыма (а еще – волос и золота, что сохранялось на зубах), а что материалом были здесь живые люди – этого почти не ощущалось. И с таким же отрешенным чувством постоял я в газовой камере под сотнями опрятных дырочек в потолке – как будто правда в душевой. Возле каждой из печей стояла грубо сваренная из железных полос тележка. Это на нее клали тело после газовой камеры, и тележку заводили в печь, освобождая для новой погрузки. Вдоль печей была протянута музейная цепь, чтоб любопытные туристы ничего не трогали руками. Никаких дежурных не было однако: полагали, что цепи вполне достаточно для хорошо воспитанных людей. Я сызмальства себя к таким не относил. Поэтому я молча переступил ограду и попробовал, как это делалось. Тележка очень оказалась тяжела, громоздка и малоподвижна. Как с ней управлялись двое истощенных до предела зэков, было страшно думать. А еще пылала печь, и рядом за спиной лежала очередь из трупов. Я немедля выскочил на воздух покурить.
(Пару лет спустя попал я в дом одного киевского коллекционера всяческих камней. Он хвастался своим собранием, любовно обсуждая каждый экспонат, я вежливо и равнодушно слушал и смотрел – я камни не люблю и слабо ощущаю красоту их цвета и слоистости. Один большой, с некрупное куриное яйцо, черный кристалл с блестящими гранями хозяин дал мне подержать. «Это не природный, это технологический камень, – пояснил он мне, – вам будет интересно, это сколок накипи внутри печной трубы, мне его привезли из Освенцима». Я долго не мог выпустить из рук этот кошмарный сгусток отошедшей дымом жизни.)
Я все время думаю о том, сколько душ было загублено в России. И многие убитые были бы наверняка близки мне, к русской относясь интеллигенции. По ней смертельная коса прошлась особенно активно. Я – вульгарный и неисправимый атеист, но, думая об этих людях, очень я хочу, чтобы загробный мир существовал. И чтоб они хотя бы там сумели получить вознаграждение за их земную преждевременную и мучительную гибель.
Но теперь вернусь на Мертвую дорогу. Ни одна из дьявольских и грандиозных затей того времени не породила столько мифов. Самый из них звучный – будто бы Иосиф Сталин, ознакомившись с проектом, высказался, словно Петр Первый: «Русский народ давно мечтает иметь выход в Ледовитый океан…» Ему было видней, конечно. Легенда, которая оказалась наиболее устойчивой, сохранилась по сию пору, – проста и достоверна много более: под каждой шпалой этой брошенной и незаконченной дороги – кости заключенных, что строили ее. Проложить успели – километров восемьсот.
Понять восторг отца народов нам не трудно: он, попыхивая трубкой, видел карту. На ней тянулась вдоль берега Ледовитого океана, рассекала Уральские горы (за полярным кругом там была долина) и ползла к Игарке (это Енисей уже) красивая и аккуратная линия железной дороги. Вождь не мог не помнить, как ему однажды доложили: прямо в устье Енисея (года два уже, как шла война) преспокойнейше зашел немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шеер», покрутился там, как дома, и ушел. А как шныряли там немецкие подлодки! Пусть теперь попробует какой-нибудь мерзавец – база Северного флота рядом.
И потянулись в этот край потоки заключенных. По весне сорок седьмого это было. Теперь совсем немного – о природе тех краев. Там десять месяцев в году стоит зима с сорокаградусным морозом и свирепыми ветрами. Нет, конечно, не все время ни мороз такой, ни ветры, но достаточно и месяца для человека, кое-как одетого, полуголодного (точней, голодного всегда), работающего на распахнутом пространстве, а ночующего – в шалаше, землянке или домике из торфа и травяного дерна. До минус двадцати пяти бывало по утрам в таком укрытии. Спали там по очереди, места не хватало. А когда бараки появились, такая же осталась теснота. Двухъярусные нары из жердей. Матрас или тюфяк – большая редкость, их обычно забирали уголовники. Обувь свою первая смена передавала второй. Снега выпадало столько, что в пургу по трубы заносило паровозы, про насыпь, где укладывались шпалы, нечего и говорить.
Летом начинал свирепствовать комар. От этих кровожадных насекомых дохли лошади и падали олени. Были случаи самоубийства часовых на вышках. Пытка холодом не менее мучительной сменялась. Грязь и бездорожье летнего сезона (вся почти работа делалась вручную) этот страшный рабский труд не облегчали. Наказывая, заключенных ставили «под гнуса», возле вышки, шевельнешься – пуля.
Я не нагнетаю ужас специально, я выписываю крохотную часть того, что прочитал в сухом и сдержанном труде историка, поднявшего архивные и бывшие в печати сведения и воспоминания. И вот еще одна (оттуда же) случайная некрупная деталь: за два всего лишь месяца сорок восьмого года были освобождены из заключения (сактированы) – восемьсот пятьдесят человек, ставших на стройке инвалидами. Случайно обнаруженные цифры больше говорят об этой стройке, чем любые подвернувшиеся под руку слова.
Но вырастала насыпь, на нее укладывали шпалы, и протягивались рельсы, и мосты на реках возводились. Приблизительно сто двадцать тысяч человек работало на этой стройке. И все время подвозился новый контингент рабов. О смертности весьма глухие цифры есть: примерно триста тысяч человек осталось навсегда в районе вечной мерзлоты. И невозможно их могилы разыскать: скопившиеся трупы каждые несколько дней вывозили в ближайший карьер, где их бульдозер засыпал землею кое-как. За каждую такую ездку вывозили двести – триста человек. Того, вернее, что еще вчера было людьми. На стройке было много 58-й статьи («политики»), бытовиков и обреченных по указу о хищении народной собственности (те, кто собирал остатки на уже убранном колхозном поле). Это перечислены здесь те, о ком известно было, что они работают усердно и послушно, а на стройку отбирались именно такие. Уголовники здесь гибли только от междоусобных неурядиц.
Прошлый век в истории России был таков, что никого не впечатляет эта цифра. Что такое триста тысяч в той империи, которая убила несколько десятков миллионов собственного населения? Но спустя пять лет свернули эту стройку, а спустя еще два года – полностью забросили. И дорогостоящей она была, и нужность ее стала расплываться, и куда пограндиозней обозначились проекты покорителей природы. А потом ее засыпало песком, разрушились мосты и рельсы скрючило, уцелели только кое-где остатки бараков и, как вехи той эпохи, вышки караульных. Мне дали фильм, совсем недавно снятый по-любительски историками края, и смотрел я эту ленту уже дома, в Иерусалиме. И неудержимо дрожь меня трясла. Настолько понапрасну здесь мучились и гибли люди, что останки стройки этой – самый точный памятник эпохе.
Мертвая дорога – так ему и надо называться.
Земля костей и черепов
Побывать на Колыме по собственной воле и с обратным билетом – истинное счастье для бывалого советского человека.
Прилетев, долго смотрел я, куря сигарету, на огромный транспарант «Колыма – золотое сердце России» и час спустя уже оказался в гостинице.
Номер мне достался с видом на море: с балкона, куда вышел покурить, светилась тихая вода залива и темнели сопки.
– Это бухта Нагаева, – пояснила местная импресарио.