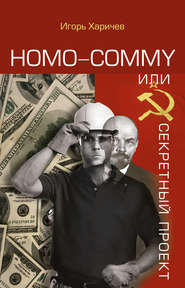По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прошлое в наказание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Любому ходу событий соответствует некая музыка – ее можно назвать естественной и ей легко находятся аналоги из того, что успели насочинять за многие столетия композиторы. Великие события рождают великую музыку.
Глава первая
Адажио
Он сказал: «Ты бы поосторожнее… там», и я глянул на него с таким удивлением, с каким, быть может, смотрели на Христа, совершающего чудеса, древние иудеи. Но мой двоюродный брат не был спасителем человеческих душ, не был кудесником. Впрочем, я никогда не знал, чем именно он занимается. Кроме одного: он работал там же, где и его отец, мой дядя. А в той организации ангелы сроду не водились.
Наши родители не поддерживали отношений. Хотя я знал, что у меня есть дядя, есть двоюродный брат, который немного старше меня, эта тема была запретной в нашем доме. Я с давних пор понимал, что ее не стоит затрагивать. Дядя и его семья существовали рядом в каком-то параллельном измерении. Ходили по тем же московским улицам, спускались на тех же эскалаторах в метро, смотрели те же фильмы в тех же кинотеатрах, дышали тем же воздухом. Но пути наши упрямо не пересекались. До определенной поры.
Однажды, когда я учился в девятом классе, меня познакомили с Эдуардом на вечеринке. Я смотрел на него с любопытством – плечистый, сильный, с мужественным, слегка насмешливым лицом. Похоже, и ему была небезынтересна моя особа. Но недоверие, вложенное родителями в наше сознание, сыграло свою роль: мы не пытались сблизиться ни в тот раз, ни позже. Правда, сведения как-то находили нас – меня, родителей. «Эдуард поступил на юридический», – сказала как бы между прочим мать. Это было давно. Мы ужинали в кухне, тесной, мрачноватой кухне родительского дома. «И этот туда же», – мстительно проговорил отец. «А может, он судьей хочет стать. Или прокурором», – возразила мать. «Чепуха. Тут всё ясно».
После окончания университета Эдуард исчез года на два: где он, что он, никто не мог сказать. Потом опять появился, и говорили, будто он – следователь в прокуратуре. Но отец был уверен – работает там, где и Васька, дядя Вася, Василий Иванович. Его родной брат, с которым он не желал иметь ничего общего. Через года три подтвердилось, что Эдуард на самом деле работает там. Отец злорадствовал: «Я же говорил». Словно его правота что-то меняла.
Когда я увидел Эдуарда в тесном зале больничного морга, я не удивился. Не потому, что был измотан похоронными приготовлениями, не потому, что мысли мои были в той, далекой от сиюминутного бытия плоскости, которой благополучно избегает устроенное, плавно текущее существование. Я чувствовал, что он должен появиться в моей жизни. Могло ли быть иначе? Как две частицы, брошенные в круговорот времени, неумолимо влекомые друг к другу, мы обречены были столкнуться.
Сменяли один другого пустые дни, сплющенные, как жестянка из-под пива, по которой прошелся не один человек. Началось все со звонка на мою работу, в издательство. Прозвучали слова из трубки, и вмиг сорвался привычный, отлаженный ход жизни.
Вы замечали, что жизнь в каждый момент имеет свой темп, ритм, свою тональность, свой мелодический рисунок? Даже наш крутой, ополоумевший век не может удержать свой бешеный темп. Он сбивается, частит, а то вдруг замирает или тащится, как вконец усталый пешеход. Когда вам хочется плакать, темп неспешный, хотя события могут нестись вскачь. Радость убыстряет его, даже если не происходит ничего такого, что было бы замечено кем-то еще. Жизнь можно воспринимать, как музыку, пытаясь уловить мелодию, отпуская при этом свои чувства, придерживая рассудочность. Адажио – медленный темп. Свободное, вольное течение, так сказано в учебниках. Течение музыки. Событий. Жизни. С адажио начинается Реквием Моцарта. Помните эти горькие, величественные звуки? Не оставляющие надежды и дающие ее. Музыка для души? Или душа для музыки?
Звонили из больницы. Сообщили, что отцу стало плохо в булочной и его забрала скорая. Но теперь, сказали мне, состояние удовлетворительное. Отец был немолод, слаб здоровьем. Какое оно могло быть у человека, отдавшего столько лет лагерям. Скорая приезжала у нему не в первый раз. А все-таки тревога засела в глубине моего сознания. Что-то тревожило меня. Я поехал в больницу.
Врач упорно избегал смотреть мне в глаза. Но когда глянул в конце разговора, я подумал, что ему смертельно надоело жить и он делает это лишь по привычке. Из его слов выходило, что отец был в неплохом состоянии, а тут привезли женщину, попавшую в аварию, и реаниматоры бросились ее спасать. Лишь некоторое время спустя они увидели, что отец упал с каталки и лежит на полу. Видимо, хотел подняться. Падая, рассек кожу на голове, потерял много крови. Сейчас он плох, но для серьезных опасений нет причины.
Я не узнал его тогда. Вошел в палату – какой-то древний старик лежит у двери и мерно хрипит. У окна стояло еще три кровати, но лица там были незнакомые, молодые. «Палату перепутал?» – подумал я и вдруг понял: тот, жалкий, хрипящий – отец. «Папа, – проговорил я. – Веки дрогнули. – Папа, я здесь». Опять чуткое дрожание. Он слышал. Он не мог открыть глаза. «Ничего, всё обойдется, – говорил я, мягко, отчетливо произнося слова. – Пройдет. Мне врач сказал. Потерпи». Его лицо совсем похудело. Следы крови на лбу, на щеке. Слабое полудвижение, даже вздрагивание руки, но я понял, почувствовал, что он хочет повыше натянуть одеяло. И помог. Он затих. Я осторожно поднялся, вышел в коридор. Пожилая нянечка сидела на видавшем виды топчане, вытянув усталые ноги. «Больных много», – равнодушно проговорила она в ответ на мои сердитые слова и принялась перечислять, что надо принести. Я сунул ей пятерку, чтобы она привела отца в порядок, сунул, прекрасно сознавая, что он не одобрил бы такое, и поехал домой. Часа через полтора, когда все необходимое было собрано, опять позвонили из больницы. Отец умер.
«Ты бы поосторожнее… там», – сказал он, и это прозвучавшее после секундной паузы «там» восхитило меня. «А что, есть основания опасаться?» – поинтересовался я. Он не ответил.
Нет, я не удивился, увидев его. Не до удивлений мне было. Слишком я измотался за предыдущие три дня. Слишком набегался по учреждениям, по конторам. Мне хотелось, чтобы отца похоронили на Востряковском – неужели этого не заслужил человек, отдавший лагерям четырнадцать лет, хлебнувший вдоволь горя?
У чиновника было какое-то специфическое лицо – аккуратнейшее, строго дозированное. Лицо не человека, но человекоподобного механизма, прекрасно отлаженного, не знающего сбоев. Он был заученно приветлив, безупречен в манерах. Но казалось, что все его предназначение в том и состоит, чтобы, ласково заслушав посетителя, справившись о деталях, отказать. Глухо и безнадежно. Разговаривая с ним, я до судороги ясно понимал всю бесполезность моих намерений. Ну отсидел ни за что ни про что аж четырнадцать лет. Разве он один? Разве это что-то меняет? Я поднялся. А он принялся извиняться, что не может помочь. Лицо оставалось дежурно-вежливым. Я вышел в коридор с высоким потолком. Солидное здание, из тех, которые всегда ассоциировались у меня с мертвой хваткой власти. Ритм жизни, созвучный холодной бесполезной музыке. Я медленно дошел до лестницы, спустился на этаж. И тут возникло, высветилось странное желание – заглянуть в кабинет под тем, в котором я только что побывал. Постучав, толкнул дверь. И не удивился. За столом сидел он, тот самый, с ровной прической и аккуратными ушами. «У вас еще какой-то вопрос?» – дружелюбно осведомился он. «Нет, – сказал я. – Только тот, по которому я заходил». – «Я ничем. Поверьте». Опять лестница. Этаж долой. Такая же дверь. И опять он: «Так у вас еще вопрос?» – «Нет», – сказал я, смутившись. И притворил дверь. Немного постояв, отворил соседнюю. И вновь услышал безупречно вежливый голос: «Все-таки у вас еще вопрос?» – «Да, – сказал я. – Мой отец…» – «Но я и вправду ничем… – перебил он меня. – Поверьте». Его сострадание уже казалось мне искренним.
Задержавшаяся зима была на излете. Апрель отсчитывал последнюю декаду. Снег уже исчезал с московских улиц. Но было холодно, промозгло. Я думал о том, кого из моих знакомых депутатов попросить помочь. Их было немало, но не к каждому обратишься с подобной просьбой. Я долго размышлял, но так и не решил, кого из них потревожить.
А на следующий день мне позвонили, сказали: все в порядке, можете хоронить на Востряковском. Я сразу понял – Эдуард.
Мне было двенадцать, когда я спросил отца, за что он так не любит своего брата. «За подлость», – жестко сказал отец, но объяснять ничего не стал. Я уже знал тогда, что отец сидел в лагере. Знал, что поступили с ним несправедливо. А более – ничего. Он не рассказывал об этом. Но я чувствовал, как тяжело дался ему тот период жизни. Я вообще с особой остротой воспринимал то время, которое завершилось со смертью Сталина. Быть может, ощущение мрачного, катастрофического передалось мне в пятьдесят девятом, когда отец брал меня, только появившегося на свет, на руки, и я неведомым образом ощущал весь тот ужас, который пришлось пережить ему.
Никогда раньше не связывалось у меня то, что отец сидел, с его братом, живущим в одном с нами городе, совсем незнакомым мне человеком. Я только чувствовал, что некая тайна соединяет отца с ним. Или нет, наоборот – разъединяет их.
Правду рассказала мне мать. И то не сразу. Мне исполнилось тогда шестнадцать. В сущности, ничего оригинального я не услышал. Сколько раз такое случалось – брат предал брата. Но в этой истории один из них был мой отец. Тот, кого предали. Почему? Наверно, потому, что выпало на его долю такое время, когда предают. Потому, что он не мог быть тем, кто предал. Это была его судьба.
На шахту он попал не сразу. Шесть лет работал на лесоповале. Валил лес наравне с другими политическими. Умел ладить с настоящими ворами, и те защищали его от грабителей. Потом понял, что доходит. Так бы и остался в тайге, подобно сотням тысяч других, если бы не услышал, что срочно ищут горных инженеров. Сам он был недоучившимся журналистом, но смог убедить начальника лагеря, будто горное дело знает в совершенстве. Так он оказался в Хальмер-Ю, на шахте. Поначалу страшно боялся, что обман откроется и тогда сошлют его в гиблое место, где сгорают за несколько месяцев. Обошлось. Месяца три некому было раскрыть его обман, а потом он мало-помалу освоил новое дело. Помог другой заключенный, настоящий горный инженер.
Летом пятьдесят третьего отца перевели на поселение. Вскоре он женился на матери, с которой был знаком, – она работала врачом в лагерной поликлинике. Через год появилась на свет моя сестра Ольга. Она много болела и не дожила до двух лет. А в пятьдесят девятом, уже в Москве, родился я.
Он сказал: «Ты бы поосторожнее… там», и я потом подумал, что, в сущности, должен быть ему признателен. Он сказал слишком много. Слишком много для тех, кто работает в той организации.
Речь шла о моих занятиях политикой. Когда в начале восемьдесят девятого вдруг приоткрылась долгие годы крепко-накрепко запертая дверь и стало возможно то, что казалось немыслимым раньше, я окунулся в эти события. Сначала была азартная предвыборная гонка с шумными митингами, войной листовок, потасовками и горячими дискуссиями на станциях метро. Тысячи людей помогали нам, позабыв про страх: клеили всюду листовки – на домах, на столбах, на кафеле подземных переходов, стояли в пикетах, объясняя, убеждая, ведя словесные перепалки. Они приходили сами. Каким-то образом выискивали нас – меня, моих сотоварищей, помогавших тогда опальному Ельцину, академику Сахарову и другим, с кем связывали надежды на лучшее будущее.
Итогом стало первое поражение коммунистов – на выборах народных депутатов они получили нешуточный удар. Чуть позже возникла Межрегиональная депутатская группа, был создан Народный фронт, появилось Московское объединение избирателей. Все более уходил страх. Многочисленные совещания, собрания, митинги, шествия отнимали у нас уйму времени, давая взамен ощущение причастности к чему-то крайне важному. Нам верилось – мы вершим историю. Еще немного усилий, и наши чаяния оправдаются. Сытая, устроенная жизнь растечется по огромной стране.
Я почти не появлялся в издательстве. Урывками правил чужие рукописи, общался по телефону с начальницей отдела Инной Моисеевной, очень милой и очень интеллигентной женщиной, которая благоволила ко мне. «Олег, ради бога, не рискуйте, – с великой тревогой говорила она. – Вы испортите себе жизнь. Будьте благоразумнее. – И еще повторяла: – Вы должны закончить книгу. Вы не имеете права бросить то, что сделано». А мне было скучно возвращаться к тому, что тянуло в прошлое, было пропитано им. Жизнь оказалась куда интереснее. События захватили меня. Единственное, что я писал, – статьи в те новые газеты, которые выглядели неказисто, но бойко раскупались у станций метро и на митингах. Я гневно обличал действия властей, от союзных до районных, нахваливал демократов, рассказывал о том, какая светлая жизнь начнется после ухода коммунистов от управления государством.
Через год, в мае, когда власти устроили блокаду Литвы, я за деньги фонда, поддерживавшего Ельцина, организовал поездку более чем сотни представителей разных демократических организаций в эту прибалтийскую республику, испытывавшую серьезные проблемы с лекарствами и детским питанием. КГБ пытался нам помешать. Вдруг позвонил большой железнодорожный начальник и сообщил, что не может предоставить нам два уже оплаченных вагона. Когда я спросил почему, явно смутился, пробормотал что-то невразумительное про то, что по ошибке продали все места в этих вагонах, просил забрать деньги. Я кинулся к авиаторам, не тем, которые летают по расписанию, а тем, кто совершает чартерные рейсы. Но и там начались проблемы: зафрахтованный мною самолет ни с того ни с сего потребовал срочного ремонта. Вылет надолго откладывался. В конце концов пришлось купить в обычной кассе отдельные билеты на поезд. Толстенную пачку. Места были раскиданы по всем вагонам. Лишь на вокзале в Вильнюсе мы собрались воедино и увидели, как нас много. Литовцы встречали нашу веселую, шумную компанию на ура. Благодарили за детское питание и лекарства, которые мы привезли с собой. Были митинги, встречи. Добрые, горячие слова. Незнакомые люди останавливали нас на улицах, жали нам руки. Запах свободы пьянил. Казалось, еще немного, и рухнет то мрачное сооружение, в котором мы жили долгие годы, та тюрьма, которая гноила многие народы. Еще немного, и начнется спокойная, хорошая жизнь. Отлаженная и вполне достойная. Жаль, что отец не смог поехать со мной. Здоровье не позволило.
Я был страшно доволен в те дни. Меня переполняла торжественная, красивая музыка. «Времена года» Вивальди. Боккерини или Пёрселл. Музыка сама находит меня. Она возникает из ничего. Из быстролетного ощущения, из шороха листьев или ритма шагов. Порой радостная, летящая, порой грустная, порой трагическая. Знакомая и незнакомая. Реквием Моцарта, адажио из «Спартака» Хачатуряна, что-нибудь из Pink Floyd или вообще родившееся в неизвестном уголке моего сознания, незнакомое, возникшее, чтобы прозвучать только для меня и исчезнуть.
В октябре мы создали массовое движение «Демократическая Россия». Мы собирали на митинги сотни тысяч людей. Мы ощущали себя силой, способной сокрушить могущество тирании. Сокрушить без крови, без выстрелов. Доказать свое превосходство. Мы были против той власти – это нас объединяло. Мы были против того государства. Все, что шло ему во вред, воспринималось нами как благо. Мы не верили, что можем ошибаться. Такова логика всех, кто ополчился на существующий строй.
В Прощеное воскресенье, полный тревожных ожиданий день на исходе марта, я был среди тех, кто вел колонну демократов. Есть в этом что-то завораживающее, когда огромная масса людей, объединенных одной целью, одним стремлением, движется следом за тобой. Я испытывал это всякий раз, когда мы проводили шествия. Не наслаждение властью. Скорее, ощущение, что ты на острие, ты – воплощение той силы, которую составляют люди, идущие следом. Этому действу под стать разве что симфонии Бетховена, мощные, мужественные. В тот день мы ожидали всякого исхода. Были готовы к любому повороту. У «Праги» мы уперлись в стену из солдат со щитами, за которыми высились грузовые машины. Чинно расхаживало милицейское начальство, суетились люди в штатском. В глубине тоже стояли группы в милицейской форме. Настороженные лица смотрели на нас: что учудят «эти»? Но у нас не было намерения идти напролом. Наоборот, мы хотели подчеркнуть, что мы вовсе не экстремисты, что не приемлем насилия. И вскоре наша колонна пошла к Маяковке – по Калининскому[3 - Ныне Новый Арбат.], потом по Садовому кольцу. А часа два спустя уже на Тверской у Пушкинской площади я и несколько депутатов из наших защищали от пьяных цепочку милиционеров, все еще перегораживавших дорогу к Кремлю и охранявших неведомо что. Мы боялись провокаций – пусть уж лучше те, кому по глупости или по приказу надо почесать кулаки, подерутся с нами, чем со стражами порядка.
Отец переживал за меня. У него тоже были опасения, что шествие обернется погромом, арестами. Дозвонившись вечером, стал подробно расспрашивать, как все проходило, как вела себя милиция. Ругал Горбачева и Лукьянова: «Они хотели столкновения. Поверь, им нужен повод, чтобы закрутить гайки». Это было меньше месяца назад. А мне казалось – прошло полгода, может быть, два года. Хотя какая разница? И что такое, в сущности, время, если иной год в жизни человека или многих людей стоит десяти?
Он сказал: «Ты бы поосторожнее… там». Мы шли к выходу из кладбища. Размышляя о своем, я смотрел на могилы по бокам дорожки. Они еще были укрыты снегом, тем несвежим, усталым, вконец слежавшимся снегом, который только и бывает в апреле. Памятники выглядели сиротливо. Я держал за руку Кирилла, шестилетнего сына. Мне хотелось, чтобы он простился с дедом. Марина, моя бывшая жена, не поехала на кладбище. Она готовила поминки.
Мы с ней разошлись два года назад. Но остались приятелями. С самого начала наши с Мариной отношения были в стиле cool jazz[4 - «Прохладный», или «спокойный» джаз (англ.).], что-нибудь из Джона Колтрейна. Нечто приятное, спокойное, не очень обязательное. Так, время от времени. «Позвонишь?» – «Да, как-нибудь на неделе». Она была историком, писала умные статьи в научные журналы. Когда я узнал, что она забеременела и хочет родить ребенка, я предложил ей выйти за меня замуж. Она не стала отказываться, хотя сказала: «Я не удивлюсь, если у нас ничего не получится». – «Почему?» – ошарашенно спросил я. «Не уверена, что готова стать частью целого, называемого семьей… Быть все время вместе, по-моему, непросто». Признаться, я не воспринял ее слова всерьез. И зря. Мы на самом деле не стали семьей. Марина продолжала жить в своем собственном, замкнутом мире, не слишком-то допуская туда меня. Она была погружена в свои мысли. Наши миры лишь изредка соприкасались. Как и прежде, до свадьбы.
Когда мы решили развестись, я спросил ее, зачем она завела ребенка? «Ты жалеешь?» – спросила она. «Нет, – ответил я. – Ты знаешь, как я люблю Кирюшу. Но ты оказалась права – у нас ничего не получилось. И если ты предполагала, что так и будет…» – «Мне хотелось ребенка, – проговорила она. – И еще мне хотелось, чтобы ты был его отцом». Я ничего не понял. Женщины есть женщины.
Когда мы вышли за ворота кладбища, я сказал Эдуарду: «Приезжай на поминки». И тотчас подумал, правильно ли поступил? Как бы отнесся к этому отец? Рассердился бы? Племянник, сын брата, которого он не желал признавать… Но разве теперь это существенно? Разве смерть не примиряет?
Аллегро мольто
Я не думал в ту ночь, будет она помниться потом или нет? Не прикидывал, станет ли она переломной в нашей истории. Я жил в ней. Чутко воспринимал каждое ее событие. Прислушивался к ее ходу. Ждал. Как и другие. Те, кто собрался у Белого дома. Ждал событий. Развязки. Утра.
Освещение было потушено. Силуэты сидевших и стоявших вокруг меня людей едва угадывались в темноте. Это были не просто пришедшие на подмогу. Это были уже отряды. Организованная сила. Защитники. Безоружные, но полные решимости оставаться здесь. До победы. Или до смерти.
Я трогал противогаз, болтавшийся в брезентовой сумке на боку. Мне выдали его вечером. На случай газовой атаки. Большинству не досталось такого богатства. Я мог получить автомат. Для этого надо было уйти внутрь Белого дома. Я не захотел. Решил остаться с теми, кто окружал большое, красивое здание, облицованное белым мрамором.
Я размышлял о том, что без оружия лучше. Если начнется штурм, если они пойдут, как понять в темноте, где враг, а где свой? Как смог бы я стрелять в той суматохе, которая возникнет? В которой и днем-то невозможно будет разобрать, где кто? Я думал и о тех, кто стал нам врагами. Неужели, если я точно буду знать, где они, я смогу нажать спусковой крючок? Прервать чью-то жизнь? Или ранить? Я чувствовал – не смогу. Нет. Это лучше, что без оружия.
Добро и зло. Где грань между ними? Как узнать ее? Убить врага – благо? А если это соплеменник? Сосед? Брат? А что благо? Смириться с тем, что преподносит судьба? Покорно ждать, подчиняясь обстоятельствам?..
Попросили отойти подальше от стен. Чтобы свои не подстрелили. И чтобы осколками больших стекол не убило. Когда начнется. Когда эти стекла рухнут смертельным водопадом от пуль и ракет атакующих. Темные силуэты задвигались, пошел шумок. Люди напряглись – уже? Они идут? Началось?
Как собравшиеся здесь люди представляли себе свои действия? Будут стоять на пути атакующих? И гибнуть? Будут драться? Чем? Кулаками? Против автоматов? В полной темноте? Глупо. Но никто об этом не думал. Все ждали штурма в полной готовности встретить смерть. Погибнуть, но не отступить. Сохранить свое достоинство.
Аллегро мольто – очень быстрый темп. Это когда события развиваются с невероятной скоростью. Когда нет времени перевести дух, осмыслить происходящее. Бурный ход событий трудно воспринимать как музыку. Он или страшит, или захватывает сам по себе: что дальше? дальше? дальше? Трудно стоять в стороне и поверять гармонией то, что, быть может, определяет на долгие годы твою жизнь. И жизнь миллионов других людей. Но быстрая музыка подобна бурному ходу событий.
Это были странные дни. Стремительные и бесконечные. Вместившие в себя так много. И так мало. Все началось с сообщения по радио. Я услышал его в поезде. До Москвы оставалось два часа. А сколько часов до ареста? Я смотрел на Кирилла. Он безмятежно спал. Да он бы и не понял, что произошло, если бы успел проснуться. Засуетились соседи по купе, запричитала немолодая, сухонькая женщина: «Что же будет?» – «Ничего хорошего», – сказал я. За окном набирал силу неяркий день. И уже казалось, что поезд еле тащится. Что там, в Москве? Повсюду войска, танки, патрули?
На столичных улицах ничего не изменилось. Как всегда, мчались по тротуарам ушедшие в себя горожане, теснились на проезжей части машины. Будто и не прозвучали роковые слова. Будто ровным счетом ничего не произошло.
Я отвез сына к Марине. Вид у нее был растерянный. «Как думаешь, чем это все кончится?» – «Не волнуйся, – твердо выговорил я. – Ничего у них не получится». Мне хотелось ее успокоить. На самом деле я не был столь оптимистичен. Потом я заскочил домой – оставить вещи и переодеться. Несколько звонков. На месте никого из наших не оказалось. Ждать было невмоготу. Я поехал к Белому дому.
Их было еще немного в тот момент, тех, кто, повинуясь какому-то внутреннему порыву, без всяких просьб и призывов собрался у покрытого белокаменной облицовкой, уходящего вширь и вверх большого, солидного здания неподалеку от Москва-реки. Но подходили новые и новые. Здание превратилось в символ, который требовалось защищать. На подступах начали сооружать баррикады. Тащили все, что попадалось. Тащили, входя в азарт. Пьянея от того, что не было страшно. Что могут делать такое. И пусть кто-нибудь попробует запретить. Пусть попробует помешать.
События все убыстряли свой бег. В сумбуре происходящего была четкая логика. «В Москву вводят войска», – разошлось по городу. Об этом говорили в метро, в Моссовете, когда я примчался туда. Телефон в нашей комнате, где верховодил Михаил Шнейдеров, звонил беспрерывно. Подле него сидели несколько женщин из нашего актива. «Где? Танки или бронетранспортеры? Сколько? Хорошо, я записала. …Большая колонна? Сколько машин? И во всех солдаты? Спасибо…»
Глава первая
Адажио
Он сказал: «Ты бы поосторожнее… там», и я глянул на него с таким удивлением, с каким, быть может, смотрели на Христа, совершающего чудеса, древние иудеи. Но мой двоюродный брат не был спасителем человеческих душ, не был кудесником. Впрочем, я никогда не знал, чем именно он занимается. Кроме одного: он работал там же, где и его отец, мой дядя. А в той организации ангелы сроду не водились.
Наши родители не поддерживали отношений. Хотя я знал, что у меня есть дядя, есть двоюродный брат, который немного старше меня, эта тема была запретной в нашем доме. Я с давних пор понимал, что ее не стоит затрагивать. Дядя и его семья существовали рядом в каком-то параллельном измерении. Ходили по тем же московским улицам, спускались на тех же эскалаторах в метро, смотрели те же фильмы в тех же кинотеатрах, дышали тем же воздухом. Но пути наши упрямо не пересекались. До определенной поры.
Однажды, когда я учился в девятом классе, меня познакомили с Эдуардом на вечеринке. Я смотрел на него с любопытством – плечистый, сильный, с мужественным, слегка насмешливым лицом. Похоже, и ему была небезынтересна моя особа. Но недоверие, вложенное родителями в наше сознание, сыграло свою роль: мы не пытались сблизиться ни в тот раз, ни позже. Правда, сведения как-то находили нас – меня, родителей. «Эдуард поступил на юридический», – сказала как бы между прочим мать. Это было давно. Мы ужинали в кухне, тесной, мрачноватой кухне родительского дома. «И этот туда же», – мстительно проговорил отец. «А может, он судьей хочет стать. Или прокурором», – возразила мать. «Чепуха. Тут всё ясно».
После окончания университета Эдуард исчез года на два: где он, что он, никто не мог сказать. Потом опять появился, и говорили, будто он – следователь в прокуратуре. Но отец был уверен – работает там, где и Васька, дядя Вася, Василий Иванович. Его родной брат, с которым он не желал иметь ничего общего. Через года три подтвердилось, что Эдуард на самом деле работает там. Отец злорадствовал: «Я же говорил». Словно его правота что-то меняла.
Когда я увидел Эдуарда в тесном зале больничного морга, я не удивился. Не потому, что был измотан похоронными приготовлениями, не потому, что мысли мои были в той, далекой от сиюминутного бытия плоскости, которой благополучно избегает устроенное, плавно текущее существование. Я чувствовал, что он должен появиться в моей жизни. Могло ли быть иначе? Как две частицы, брошенные в круговорот времени, неумолимо влекомые друг к другу, мы обречены были столкнуться.
Сменяли один другого пустые дни, сплющенные, как жестянка из-под пива, по которой прошелся не один человек. Началось все со звонка на мою работу, в издательство. Прозвучали слова из трубки, и вмиг сорвался привычный, отлаженный ход жизни.
Вы замечали, что жизнь в каждый момент имеет свой темп, ритм, свою тональность, свой мелодический рисунок? Даже наш крутой, ополоумевший век не может удержать свой бешеный темп. Он сбивается, частит, а то вдруг замирает или тащится, как вконец усталый пешеход. Когда вам хочется плакать, темп неспешный, хотя события могут нестись вскачь. Радость убыстряет его, даже если не происходит ничего такого, что было бы замечено кем-то еще. Жизнь можно воспринимать, как музыку, пытаясь уловить мелодию, отпуская при этом свои чувства, придерживая рассудочность. Адажио – медленный темп. Свободное, вольное течение, так сказано в учебниках. Течение музыки. Событий. Жизни. С адажио начинается Реквием Моцарта. Помните эти горькие, величественные звуки? Не оставляющие надежды и дающие ее. Музыка для души? Или душа для музыки?
Звонили из больницы. Сообщили, что отцу стало плохо в булочной и его забрала скорая. Но теперь, сказали мне, состояние удовлетворительное. Отец был немолод, слаб здоровьем. Какое оно могло быть у человека, отдавшего столько лет лагерям. Скорая приезжала у нему не в первый раз. А все-таки тревога засела в глубине моего сознания. Что-то тревожило меня. Я поехал в больницу.
Врач упорно избегал смотреть мне в глаза. Но когда глянул в конце разговора, я подумал, что ему смертельно надоело жить и он делает это лишь по привычке. Из его слов выходило, что отец был в неплохом состоянии, а тут привезли женщину, попавшую в аварию, и реаниматоры бросились ее спасать. Лишь некоторое время спустя они увидели, что отец упал с каталки и лежит на полу. Видимо, хотел подняться. Падая, рассек кожу на голове, потерял много крови. Сейчас он плох, но для серьезных опасений нет причины.
Я не узнал его тогда. Вошел в палату – какой-то древний старик лежит у двери и мерно хрипит. У окна стояло еще три кровати, но лица там были незнакомые, молодые. «Палату перепутал?» – подумал я и вдруг понял: тот, жалкий, хрипящий – отец. «Папа, – проговорил я. – Веки дрогнули. – Папа, я здесь». Опять чуткое дрожание. Он слышал. Он не мог открыть глаза. «Ничего, всё обойдется, – говорил я, мягко, отчетливо произнося слова. – Пройдет. Мне врач сказал. Потерпи». Его лицо совсем похудело. Следы крови на лбу, на щеке. Слабое полудвижение, даже вздрагивание руки, но я понял, почувствовал, что он хочет повыше натянуть одеяло. И помог. Он затих. Я осторожно поднялся, вышел в коридор. Пожилая нянечка сидела на видавшем виды топчане, вытянув усталые ноги. «Больных много», – равнодушно проговорила она в ответ на мои сердитые слова и принялась перечислять, что надо принести. Я сунул ей пятерку, чтобы она привела отца в порядок, сунул, прекрасно сознавая, что он не одобрил бы такое, и поехал домой. Часа через полтора, когда все необходимое было собрано, опять позвонили из больницы. Отец умер.
«Ты бы поосторожнее… там», – сказал он, и это прозвучавшее после секундной паузы «там» восхитило меня. «А что, есть основания опасаться?» – поинтересовался я. Он не ответил.
Нет, я не удивился, увидев его. Не до удивлений мне было. Слишком я измотался за предыдущие три дня. Слишком набегался по учреждениям, по конторам. Мне хотелось, чтобы отца похоронили на Востряковском – неужели этого не заслужил человек, отдавший лагерям четырнадцать лет, хлебнувший вдоволь горя?
У чиновника было какое-то специфическое лицо – аккуратнейшее, строго дозированное. Лицо не человека, но человекоподобного механизма, прекрасно отлаженного, не знающего сбоев. Он был заученно приветлив, безупречен в манерах. Но казалось, что все его предназначение в том и состоит, чтобы, ласково заслушав посетителя, справившись о деталях, отказать. Глухо и безнадежно. Разговаривая с ним, я до судороги ясно понимал всю бесполезность моих намерений. Ну отсидел ни за что ни про что аж четырнадцать лет. Разве он один? Разве это что-то меняет? Я поднялся. А он принялся извиняться, что не может помочь. Лицо оставалось дежурно-вежливым. Я вышел в коридор с высоким потолком. Солидное здание, из тех, которые всегда ассоциировались у меня с мертвой хваткой власти. Ритм жизни, созвучный холодной бесполезной музыке. Я медленно дошел до лестницы, спустился на этаж. И тут возникло, высветилось странное желание – заглянуть в кабинет под тем, в котором я только что побывал. Постучав, толкнул дверь. И не удивился. За столом сидел он, тот самый, с ровной прической и аккуратными ушами. «У вас еще какой-то вопрос?» – дружелюбно осведомился он. «Нет, – сказал я. – Только тот, по которому я заходил». – «Я ничем. Поверьте». Опять лестница. Этаж долой. Такая же дверь. И опять он: «Так у вас еще вопрос?» – «Нет», – сказал я, смутившись. И притворил дверь. Немного постояв, отворил соседнюю. И вновь услышал безупречно вежливый голос: «Все-таки у вас еще вопрос?» – «Да, – сказал я. – Мой отец…» – «Но я и вправду ничем… – перебил он меня. – Поверьте». Его сострадание уже казалось мне искренним.
Задержавшаяся зима была на излете. Апрель отсчитывал последнюю декаду. Снег уже исчезал с московских улиц. Но было холодно, промозгло. Я думал о том, кого из моих знакомых депутатов попросить помочь. Их было немало, но не к каждому обратишься с подобной просьбой. Я долго размышлял, но так и не решил, кого из них потревожить.
А на следующий день мне позвонили, сказали: все в порядке, можете хоронить на Востряковском. Я сразу понял – Эдуард.
Мне было двенадцать, когда я спросил отца, за что он так не любит своего брата. «За подлость», – жестко сказал отец, но объяснять ничего не стал. Я уже знал тогда, что отец сидел в лагере. Знал, что поступили с ним несправедливо. А более – ничего. Он не рассказывал об этом. Но я чувствовал, как тяжело дался ему тот период жизни. Я вообще с особой остротой воспринимал то время, которое завершилось со смертью Сталина. Быть может, ощущение мрачного, катастрофического передалось мне в пятьдесят девятом, когда отец брал меня, только появившегося на свет, на руки, и я неведомым образом ощущал весь тот ужас, который пришлось пережить ему.
Никогда раньше не связывалось у меня то, что отец сидел, с его братом, живущим в одном с нами городе, совсем незнакомым мне человеком. Я только чувствовал, что некая тайна соединяет отца с ним. Или нет, наоборот – разъединяет их.
Правду рассказала мне мать. И то не сразу. Мне исполнилось тогда шестнадцать. В сущности, ничего оригинального я не услышал. Сколько раз такое случалось – брат предал брата. Но в этой истории один из них был мой отец. Тот, кого предали. Почему? Наверно, потому, что выпало на его долю такое время, когда предают. Потому, что он не мог быть тем, кто предал. Это была его судьба.
На шахту он попал не сразу. Шесть лет работал на лесоповале. Валил лес наравне с другими политическими. Умел ладить с настоящими ворами, и те защищали его от грабителей. Потом понял, что доходит. Так бы и остался в тайге, подобно сотням тысяч других, если бы не услышал, что срочно ищут горных инженеров. Сам он был недоучившимся журналистом, но смог убедить начальника лагеря, будто горное дело знает в совершенстве. Так он оказался в Хальмер-Ю, на шахте. Поначалу страшно боялся, что обман откроется и тогда сошлют его в гиблое место, где сгорают за несколько месяцев. Обошлось. Месяца три некому было раскрыть его обман, а потом он мало-помалу освоил новое дело. Помог другой заключенный, настоящий горный инженер.
Летом пятьдесят третьего отца перевели на поселение. Вскоре он женился на матери, с которой был знаком, – она работала врачом в лагерной поликлинике. Через год появилась на свет моя сестра Ольга. Она много болела и не дожила до двух лет. А в пятьдесят девятом, уже в Москве, родился я.
Он сказал: «Ты бы поосторожнее… там», и я потом подумал, что, в сущности, должен быть ему признателен. Он сказал слишком много. Слишком много для тех, кто работает в той организации.
Речь шла о моих занятиях политикой. Когда в начале восемьдесят девятого вдруг приоткрылась долгие годы крепко-накрепко запертая дверь и стало возможно то, что казалось немыслимым раньше, я окунулся в эти события. Сначала была азартная предвыборная гонка с шумными митингами, войной листовок, потасовками и горячими дискуссиями на станциях метро. Тысячи людей помогали нам, позабыв про страх: клеили всюду листовки – на домах, на столбах, на кафеле подземных переходов, стояли в пикетах, объясняя, убеждая, ведя словесные перепалки. Они приходили сами. Каким-то образом выискивали нас – меня, моих сотоварищей, помогавших тогда опальному Ельцину, академику Сахарову и другим, с кем связывали надежды на лучшее будущее.
Итогом стало первое поражение коммунистов – на выборах народных депутатов они получили нешуточный удар. Чуть позже возникла Межрегиональная депутатская группа, был создан Народный фронт, появилось Московское объединение избирателей. Все более уходил страх. Многочисленные совещания, собрания, митинги, шествия отнимали у нас уйму времени, давая взамен ощущение причастности к чему-то крайне важному. Нам верилось – мы вершим историю. Еще немного усилий, и наши чаяния оправдаются. Сытая, устроенная жизнь растечется по огромной стране.
Я почти не появлялся в издательстве. Урывками правил чужие рукописи, общался по телефону с начальницей отдела Инной Моисеевной, очень милой и очень интеллигентной женщиной, которая благоволила ко мне. «Олег, ради бога, не рискуйте, – с великой тревогой говорила она. – Вы испортите себе жизнь. Будьте благоразумнее. – И еще повторяла: – Вы должны закончить книгу. Вы не имеете права бросить то, что сделано». А мне было скучно возвращаться к тому, что тянуло в прошлое, было пропитано им. Жизнь оказалась куда интереснее. События захватили меня. Единственное, что я писал, – статьи в те новые газеты, которые выглядели неказисто, но бойко раскупались у станций метро и на митингах. Я гневно обличал действия властей, от союзных до районных, нахваливал демократов, рассказывал о том, какая светлая жизнь начнется после ухода коммунистов от управления государством.
Через год, в мае, когда власти устроили блокаду Литвы, я за деньги фонда, поддерживавшего Ельцина, организовал поездку более чем сотни представителей разных демократических организаций в эту прибалтийскую республику, испытывавшую серьезные проблемы с лекарствами и детским питанием. КГБ пытался нам помешать. Вдруг позвонил большой железнодорожный начальник и сообщил, что не может предоставить нам два уже оплаченных вагона. Когда я спросил почему, явно смутился, пробормотал что-то невразумительное про то, что по ошибке продали все места в этих вагонах, просил забрать деньги. Я кинулся к авиаторам, не тем, которые летают по расписанию, а тем, кто совершает чартерные рейсы. Но и там начались проблемы: зафрахтованный мною самолет ни с того ни с сего потребовал срочного ремонта. Вылет надолго откладывался. В конце концов пришлось купить в обычной кассе отдельные билеты на поезд. Толстенную пачку. Места были раскиданы по всем вагонам. Лишь на вокзале в Вильнюсе мы собрались воедино и увидели, как нас много. Литовцы встречали нашу веселую, шумную компанию на ура. Благодарили за детское питание и лекарства, которые мы привезли с собой. Были митинги, встречи. Добрые, горячие слова. Незнакомые люди останавливали нас на улицах, жали нам руки. Запах свободы пьянил. Казалось, еще немного, и рухнет то мрачное сооружение, в котором мы жили долгие годы, та тюрьма, которая гноила многие народы. Еще немного, и начнется спокойная, хорошая жизнь. Отлаженная и вполне достойная. Жаль, что отец не смог поехать со мной. Здоровье не позволило.
Я был страшно доволен в те дни. Меня переполняла торжественная, красивая музыка. «Времена года» Вивальди. Боккерини или Пёрселл. Музыка сама находит меня. Она возникает из ничего. Из быстролетного ощущения, из шороха листьев или ритма шагов. Порой радостная, летящая, порой грустная, порой трагическая. Знакомая и незнакомая. Реквием Моцарта, адажио из «Спартака» Хачатуряна, что-нибудь из Pink Floyd или вообще родившееся в неизвестном уголке моего сознания, незнакомое, возникшее, чтобы прозвучать только для меня и исчезнуть.
В октябре мы создали массовое движение «Демократическая Россия». Мы собирали на митинги сотни тысяч людей. Мы ощущали себя силой, способной сокрушить могущество тирании. Сокрушить без крови, без выстрелов. Доказать свое превосходство. Мы были против той власти – это нас объединяло. Мы были против того государства. Все, что шло ему во вред, воспринималось нами как благо. Мы не верили, что можем ошибаться. Такова логика всех, кто ополчился на существующий строй.
В Прощеное воскресенье, полный тревожных ожиданий день на исходе марта, я был среди тех, кто вел колонну демократов. Есть в этом что-то завораживающее, когда огромная масса людей, объединенных одной целью, одним стремлением, движется следом за тобой. Я испытывал это всякий раз, когда мы проводили шествия. Не наслаждение властью. Скорее, ощущение, что ты на острие, ты – воплощение той силы, которую составляют люди, идущие следом. Этому действу под стать разве что симфонии Бетховена, мощные, мужественные. В тот день мы ожидали всякого исхода. Были готовы к любому повороту. У «Праги» мы уперлись в стену из солдат со щитами, за которыми высились грузовые машины. Чинно расхаживало милицейское начальство, суетились люди в штатском. В глубине тоже стояли группы в милицейской форме. Настороженные лица смотрели на нас: что учудят «эти»? Но у нас не было намерения идти напролом. Наоборот, мы хотели подчеркнуть, что мы вовсе не экстремисты, что не приемлем насилия. И вскоре наша колонна пошла к Маяковке – по Калининскому[3 - Ныне Новый Арбат.], потом по Садовому кольцу. А часа два спустя уже на Тверской у Пушкинской площади я и несколько депутатов из наших защищали от пьяных цепочку милиционеров, все еще перегораживавших дорогу к Кремлю и охранявших неведомо что. Мы боялись провокаций – пусть уж лучше те, кому по глупости или по приказу надо почесать кулаки, подерутся с нами, чем со стражами порядка.
Отец переживал за меня. У него тоже были опасения, что шествие обернется погромом, арестами. Дозвонившись вечером, стал подробно расспрашивать, как все проходило, как вела себя милиция. Ругал Горбачева и Лукьянова: «Они хотели столкновения. Поверь, им нужен повод, чтобы закрутить гайки». Это было меньше месяца назад. А мне казалось – прошло полгода, может быть, два года. Хотя какая разница? И что такое, в сущности, время, если иной год в жизни человека или многих людей стоит десяти?
Он сказал: «Ты бы поосторожнее… там». Мы шли к выходу из кладбища. Размышляя о своем, я смотрел на могилы по бокам дорожки. Они еще были укрыты снегом, тем несвежим, усталым, вконец слежавшимся снегом, который только и бывает в апреле. Памятники выглядели сиротливо. Я держал за руку Кирилла, шестилетнего сына. Мне хотелось, чтобы он простился с дедом. Марина, моя бывшая жена, не поехала на кладбище. Она готовила поминки.
Мы с ней разошлись два года назад. Но остались приятелями. С самого начала наши с Мариной отношения были в стиле cool jazz[4 - «Прохладный», или «спокойный» джаз (англ.).], что-нибудь из Джона Колтрейна. Нечто приятное, спокойное, не очень обязательное. Так, время от времени. «Позвонишь?» – «Да, как-нибудь на неделе». Она была историком, писала умные статьи в научные журналы. Когда я узнал, что она забеременела и хочет родить ребенка, я предложил ей выйти за меня замуж. Она не стала отказываться, хотя сказала: «Я не удивлюсь, если у нас ничего не получится». – «Почему?» – ошарашенно спросил я. «Не уверена, что готова стать частью целого, называемого семьей… Быть все время вместе, по-моему, непросто». Признаться, я не воспринял ее слова всерьез. И зря. Мы на самом деле не стали семьей. Марина продолжала жить в своем собственном, замкнутом мире, не слишком-то допуская туда меня. Она была погружена в свои мысли. Наши миры лишь изредка соприкасались. Как и прежде, до свадьбы.
Когда мы решили развестись, я спросил ее, зачем она завела ребенка? «Ты жалеешь?» – спросила она. «Нет, – ответил я. – Ты знаешь, как я люблю Кирюшу. Но ты оказалась права – у нас ничего не получилось. И если ты предполагала, что так и будет…» – «Мне хотелось ребенка, – проговорила она. – И еще мне хотелось, чтобы ты был его отцом». Я ничего не понял. Женщины есть женщины.
Когда мы вышли за ворота кладбища, я сказал Эдуарду: «Приезжай на поминки». И тотчас подумал, правильно ли поступил? Как бы отнесся к этому отец? Рассердился бы? Племянник, сын брата, которого он не желал признавать… Но разве теперь это существенно? Разве смерть не примиряет?
Аллегро мольто
Я не думал в ту ночь, будет она помниться потом или нет? Не прикидывал, станет ли она переломной в нашей истории. Я жил в ней. Чутко воспринимал каждое ее событие. Прислушивался к ее ходу. Ждал. Как и другие. Те, кто собрался у Белого дома. Ждал событий. Развязки. Утра.
Освещение было потушено. Силуэты сидевших и стоявших вокруг меня людей едва угадывались в темноте. Это были не просто пришедшие на подмогу. Это были уже отряды. Организованная сила. Защитники. Безоружные, но полные решимости оставаться здесь. До победы. Или до смерти.
Я трогал противогаз, болтавшийся в брезентовой сумке на боку. Мне выдали его вечером. На случай газовой атаки. Большинству не досталось такого богатства. Я мог получить автомат. Для этого надо было уйти внутрь Белого дома. Я не захотел. Решил остаться с теми, кто окружал большое, красивое здание, облицованное белым мрамором.
Я размышлял о том, что без оружия лучше. Если начнется штурм, если они пойдут, как понять в темноте, где враг, а где свой? Как смог бы я стрелять в той суматохе, которая возникнет? В которой и днем-то невозможно будет разобрать, где кто? Я думал и о тех, кто стал нам врагами. Неужели, если я точно буду знать, где они, я смогу нажать спусковой крючок? Прервать чью-то жизнь? Или ранить? Я чувствовал – не смогу. Нет. Это лучше, что без оружия.
Добро и зло. Где грань между ними? Как узнать ее? Убить врага – благо? А если это соплеменник? Сосед? Брат? А что благо? Смириться с тем, что преподносит судьба? Покорно ждать, подчиняясь обстоятельствам?..
Попросили отойти подальше от стен. Чтобы свои не подстрелили. И чтобы осколками больших стекол не убило. Когда начнется. Когда эти стекла рухнут смертельным водопадом от пуль и ракет атакующих. Темные силуэты задвигались, пошел шумок. Люди напряглись – уже? Они идут? Началось?
Как собравшиеся здесь люди представляли себе свои действия? Будут стоять на пути атакующих? И гибнуть? Будут драться? Чем? Кулаками? Против автоматов? В полной темноте? Глупо. Но никто об этом не думал. Все ждали штурма в полной готовности встретить смерть. Погибнуть, но не отступить. Сохранить свое достоинство.
Аллегро мольто – очень быстрый темп. Это когда события развиваются с невероятной скоростью. Когда нет времени перевести дух, осмыслить происходящее. Бурный ход событий трудно воспринимать как музыку. Он или страшит, или захватывает сам по себе: что дальше? дальше? дальше? Трудно стоять в стороне и поверять гармонией то, что, быть может, определяет на долгие годы твою жизнь. И жизнь миллионов других людей. Но быстрая музыка подобна бурному ходу событий.
Это были странные дни. Стремительные и бесконечные. Вместившие в себя так много. И так мало. Все началось с сообщения по радио. Я услышал его в поезде. До Москвы оставалось два часа. А сколько часов до ареста? Я смотрел на Кирилла. Он безмятежно спал. Да он бы и не понял, что произошло, если бы успел проснуться. Засуетились соседи по купе, запричитала немолодая, сухонькая женщина: «Что же будет?» – «Ничего хорошего», – сказал я. За окном набирал силу неяркий день. И уже казалось, что поезд еле тащится. Что там, в Москве? Повсюду войска, танки, патрули?
На столичных улицах ничего не изменилось. Как всегда, мчались по тротуарам ушедшие в себя горожане, теснились на проезжей части машины. Будто и не прозвучали роковые слова. Будто ровным счетом ничего не произошло.
Я отвез сына к Марине. Вид у нее был растерянный. «Как думаешь, чем это все кончится?» – «Не волнуйся, – твердо выговорил я. – Ничего у них не получится». Мне хотелось ее успокоить. На самом деле я не был столь оптимистичен. Потом я заскочил домой – оставить вещи и переодеться. Несколько звонков. На месте никого из наших не оказалось. Ждать было невмоготу. Я поехал к Белому дому.
Их было еще немного в тот момент, тех, кто, повинуясь какому-то внутреннему порыву, без всяких просьб и призывов собрался у покрытого белокаменной облицовкой, уходящего вширь и вверх большого, солидного здания неподалеку от Москва-реки. Но подходили новые и новые. Здание превратилось в символ, который требовалось защищать. На подступах начали сооружать баррикады. Тащили все, что попадалось. Тащили, входя в азарт. Пьянея от того, что не было страшно. Что могут делать такое. И пусть кто-нибудь попробует запретить. Пусть попробует помешать.
События все убыстряли свой бег. В сумбуре происходящего была четкая логика. «В Москву вводят войска», – разошлось по городу. Об этом говорили в метро, в Моссовете, когда я примчался туда. Телефон в нашей комнате, где верховодил Михаил Шнейдеров, звонил беспрерывно. Подле него сидели несколько женщин из нашего актива. «Где? Танки или бронетранспортеры? Сколько? Хорошо, я записала. …Большая колонна? Сколько машин? И во всех солдаты? Спасибо…»