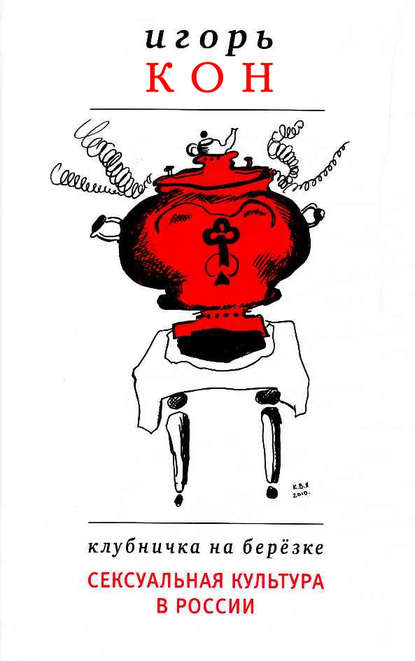По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Клубничка на березке. Сексуальная культура в России
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поскольку произведение Толстого было слишком откровенным и взрывчатым – о телесной стороне брака упоминать было вообще не принято, – цензура запретила его публикацию в журнале или отдельным изданием. Только после того как Софья Андреевна получила личную аудиенцию у Александра III, царь неохотно разрешил опубликовать повесть в 13-м томе собрания сочинений Толстого. Но цензурный запрет лишь увеличил притягательность повести, которая задолго до публикации стала распространяться в списках и читаться в частных домах, вызывая горячие споры.
На Западе «Крейцерова соната» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Американская переводчица Толстого Исабель Хэпгуд, прочитав книгу, отказалась переводить ее, публично объяснив свои мотивы (апрель 1890):
«Даже с учетом того, что нормальная свобода слова в России, как и всюду в Европе, больше, чем это принято в Америке (а мыто думали, что Америка всегда была свободнее России! – И. К.), я нахожу язык “Крейцеровой сонаты” чрезмерно откровенным... Описание медового месяца и их семейной жизни почти до самого момента финальной катастрофы, как и то, что этому предшествует, является нецензурным» (Mцller, 1988. P. 103).
Почтовое ведомство США официально признало книгу неприличной, что лишь усилило ее популярность. Характерна реакция полковника Роберта Ингерсола:
«Хотя я не согласен почти с каждой фразой в этой книге и признаю ее сюжет грубым и нелепым, а жизненную позицию автора – жестокой, низкой и ложной, я считаю, что граф Толстой вправе выражать свое мнение по всем вопросам, а американские мужчины и женщины имеют право это читать» (Ibid. P. 105).
Жаркие споры развертывались и в Европе. Несмотря на огромный нравственный авторитет Толстого, многие с ним не соглашались. Эмиль Золя сказал, что у автора что-то неладно с головой, а немецкий психиатр доктор Х. Бек опубликовал брошюру, в которой оценил повесть «как проявление религиозного и сексуального безумия высоко одаренного психопата» (Ibid. P. 115).
Столь же сильно расходились мнения и в России. Толстой получал множество писем, причем женские отзывы, как правило, были положительными, а мужские – преимущественно негативными. В одном таком письме, сохранившемся в толстовском архиве, говорилось:
«Прочитав вашу “Сонату”, я от всей души советую вам обратиться за помощью к психиатру, потому что только психиатры могут излечить патологическое направление ума» (Ibid. P. 120).
В публичных спорах о «Крейцеровой сонате» сразу же наметилось три позиции. Демократы-шестидесятники (Л. Е. Оболенский, Н. К. Михайловский, А. М. Скабичевский) приветствовали развенчание Толстым буржуазного и церковного брака, но усматривали выход из кризиса не в отказе от плотской любви, а в том, чтобы смотреть на жену как на равноправного человека, тогда животные чувства будут освящены и одухотворены. Консерваторы (Н. Е. Буренин, А. С. Суворин), напротив, приветствовали произведение Толстого как протест против гедонизма и слишком раннего увлечения молодых людей сексуальными наслаждениями. Наконец, православное духовенство (например, архиепископ одесский Никанор) расценило взгляды Толстого как прямую ересь, подрывающую самые основы христианской морали и брака.
«Крейцерова соната» послужила толчком к широкому обсуждению всех вопросов брака, семьи и половой морали. Непосредственно на тему этой повести были написаны рассказы известных писателей А. К. Шеллера-Михайлова, П. Д. Боборыкина, Н. С. Лескова. Все участники споров соглашались с тем, что общество и институт брака переживают острый моральный кризис, но причины этого кризиса и способы выхода из него назывались разные. Если в 1890-х годах на первом плане стояли вопросы половой морали, то в начале XX в. проблема сексуального освобождения стала обсуждаться уже вне всякого религиозного контекста.
Интересно отношение к «Крейцеровой сонате» А. П. Чехова. Сначала она произвела на него сильное впечатление. Хотя суждения Толстого «о сифилисе, воспитательных домах, об отвращении женщин к совокуплению и проч. не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжение своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами, смелость произведения многократно искупает его недостатки», – писал он Плещееву 15 февраля 1890 г. (Чехов, 1976. Письма. Т. 4. С. 18).
Но после поездки на Сахалин и особенно после прочтения толстовского «Послесловия» отношение Чехова стало резко критическим.
«Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь» (Там же. С. 270).
Косвенная полемика с Толстым ощущается в нескольких рассказах Чехова («Бабы», «Дуэль», «Соседи» и «Ариадна»).
Философия любви и пола
Вслед за писателями, в спор о природе пола, любви и сексуальности включились философы.
«Приходится удивляться, с какой поистине вулканической энергией тема любви врывается в русскую литературу, в публицистику, художественную критику, эссеистику, религию и философию. О любви пишут философы – Вл. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, С. Карсавин, П. Флоренский, Б. Вышеславцев, поэты – А. Фет, А. Блок, К. Бальмонт, Н. Гумилев, А. Ахматова, М. Цветаева, З. Гиппиус, писатели и критики – В. Розанов, Андрей Белый, Д. Мережковский, О. Мандельштам, литературоведы и историки литературы – В. Жирмунский, Н. Арсеньев, А. Веселовский и др.
За несколько десятилетий о любви в России было написано намного больше, чем за несколько веков, и эта литература отличалась глубиной мысли, интенсивными поисками, напряженной диалектикой и оригинальностью мышления» (Шестаков, 1999. С. 130).
Эта полемика хорошо представлена в составленной В. П. Шестаковым хрестоматии «Русский эрос, или философия любви в России» (1991).
Началом нового витка дискуссии явилась большая статья Владимира Соловьева «Смысл любви» (1892). Защищая любовь от абстрактного и жесткого морализма, философ вместе с тем резко отделяет ее от телесных чувств и переживаний. Человеческая любовь – индивидуальное нравственное чувство, не имеющее ничего общего с инстинктом продолжения рода.
«Внешнее соединение, житейское и в особенности физиологическое, не имеет определенного отношения к любви. Оно бывает без любви, и любовь бывает без него. Оно необходимо для любви не как ее непременное условие и самостоятельная цель, а только как ее окончательная реализация. Если эта реализация ставится как цель сама по себе прежде идеального дела любви, она губит любовь» (Соловьев, 1988. Т. 2. С. 518).
«Для человека как животного совершенно естественно неограниченное удовлетворение своей половой потребности посредством известного физиологического действия, но человек, как существо нравственное, находит это действие противным своей высшей природе и стыдится его...» (Там же. С. 526).
Научные исследования сексуальности, например попытки психиатра Рихарда фон Крафт-Эбинга и психолога Альфреда Бине разобраться в причинах фетишизма и других «половых извращений», для Соловьева принципиально неприемлемы, потому что не основаны на морали и лишены «всякого ясного и определенного понятия о норме половых отношений» (Там же. С. 523).
Против этой идеалистической позиции, близкой к взглядам Толстого, резко выступил Василий Розанов. В книгах «Семейный вопрос в России» (1903) и «В мире неясного и нерешенного» (1904) Розанов поэтизирует и защищает именно плотскую любовь.
Весьма консервативный религиозный мыслитель, Розанов не был сексуальным либералом. Для него семья не просто священна, но есть «ступень поднятия к Богу» (Розанов, 1904. С. I). Но семейный союз не может быть чисто духовным. «Семья – телесна, семенна и кровна; это – производители, без коих нет семьи» (Там же). Не надо стыдиться своего тела оно создано Богом и прекрасно. Наша кожа – не футляр, «не замшевый мешок, в который положена золото-душа», а часть нашей человеческой сущности; «без кожи – ни привязанности, ни влюбления, ни любви представить вообще нельзя!» (Там же. С. XIV). Половой акт, в котором Толстой видит отрицание религии и культуры, на самом деле создает их, это «акт не разрушения, а приобретения целомудрия» (Там же. С. 64). Телесная любовь – не порок, а нравственная и даже религиозная обязанность. «Мы рождаемся для любви. И насколько мы не исполнили любви, мы томимся на свете. И насколько мы не исполнили любви, мы будем наказаны на том свете» (Розанов, 1990. Т. 2. С. 366).
На Розанова обрушились буквально все, обзывая его эротоманом, апостолом мещанства и т. д. Но на его защиту в статье «Метафизика пола и любви» (опубликованной в 1907 г. в журнале «Перевал» № 6) встал Бердяев:
«Над Розановым смеются или возмущаются им с моральной точки зрения, но заслуги этого человека огромны и будут оценены лишь впоследствии. Он первый с невиданной смелостью нарушил условное, лживое молчание, громко с неподражаемым талантом сказал то, что все люди ощущали, но таили в себе, обнаружил всеобщую муку... Розанов с гениальной откровенностью и искренностью заявил во всеуслышание, что половой вопрос – самый важный в жизни, основной жизненный вопрос, не менее важный, чем так называемый вопрос социальный, правовой, образовательный и другие общепризнанные, получившие санкцию вопросы, что вопрос этот лежит гораздо глубже форм семьи и в корне своем связан с религией, что все религии вокруг пола образовывались и развивались, так как половой вопрос есть вопрос о жизни и смерти» (Бердяев, 1989. С. 18—19).
Сильный толчок к обсуждению философских проблем пола дала книга двадцатитрехлетнего австрийского философа Отто Вейнингера «Пол и характер» (1903). В Австрии книга Вейнингера сначала не вызвала почти никакой реакции, его даже обвиняли в плагиате, но когда ее автор покончил жизнь самоубийством, интерес к его теориям и жизни резко возрос, в том числе и в России (о русском вейнингерианстве см.: Энгельштейн, 1996; Берштейн, 2004). С 1909 по 1914 г. его книга вышла в России по крайней мере в пяти разных переводах общим тиражом свыше 30 тыс. экземпляров.
По Вейнингеру, пол является ключом к пониманию онтологии человека и судеб человечества, причем глобальные биосоциальные процессы Вейнингер переживает как свою личную метафизическую трагедию апокалипсических масштабов. В современной ему культуре он с ужасом наблюдает отмирание мужественности и духовной жизни и триумф женского и еврейского начал. Симптомами этого катастрофического положения, с его точки зрения, являются феминизация мужчины, начавшего по-женски определять себя через половой акт и сексуальность, стремление женщин к общественной роли, чудовищное умножение «промежуточных» половых форм и распространение еврейского «торгового духа». Все это, по Вейнингеру, – элементы культурной деградации, ведущей к смерти цивилизации. Чтобы свернуть с этого гибельного пути, женщинам необходимо преодолеть в себе женское, а евреям – еврейское. Современному человеку необходимо сбросить с себя цепи полового вожделения и отказаться от полового акта.
Талантливая, но в высшей степени субъективная книга Вейнингера, в которой он в теоретической форме сводил грустные личные счеты со своей несостоявшейся маскулинностью и своим отвергаемым еврейством, по-разному импонировала людям. Одни видели в ней серьезное обсуждение проблемы половых различий и андрогинии. Другим импонировала мизогиния автора, считавшего женщин неспособными к самостоятельному логическому мышлению. Третьим нравился его философский антисемитизм.
В печатном обсуждении идей Вейнингера приняли активное участие многие видные русские писатели и философы: Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Николай Бердяев, Василий Розанов, Павел Флоренский, Михаил Кузмин и др. Популярные прозаики Евдокия Нагродская и Анатолий Каменский беллетризировали положения модной теории; роман Нагродской «Гнев Диониса» и рассказ Каменского «Женщина» (с подзаголовком «Памяти Отто Вейнингера») стали бестселлерами. Личность Вейнингера сохранила притягательность для части интеллектуальной молодежи даже после 1917 г. Юрий Нагибин вспоминал, что в 1930-х годах Вейнингер был излюбленной темой разговоров Андрея Платонова (Берштейн, 2004).
Интеллектуальное отношение к Вейнингеру было разным. Его идеи сильно повлияли на Дмитрия Мережковского и Зинаиду Гиппиус. Бердяев отнесся к нему положительно, но критически. В своей рецензии «По поводу одной замечательной книги» (журнал «Вопросы философии и психологии». 1909. № 98) Бердяев писал, что «при всей психологической проницательности Вейнингера, при глубоком понимании злого в женщине, в нем нет верного понимания сущности женщины и ее смысла во вселенной» (Бердяев, 1989. С. 57). Напротив, Андрей Белый оценил «Пол и характер» негативно: «Биологическая, гносеологическая, метафизическая и мистическая значимость разбираемого сочинения Вейнингера ничтожна. “Пол и характер” – драгоценный психологический документ гениального юноши, не более. И самый документ этот только намекает нам на то, что у Вейнингера с женщиной были какие-то личные счеты» (Белый, 1991. С. 290). Розанов же, с присущей ему в этом вопросе проницательностью, раскрыл и сущность этих личных счетов: «Из каждой страницы Вейнингера слышится крик: “Я люблю мужчин!” – “Ну что же: ты – содомит”. И на этом можно закрыть книгу» (Розанов, 1990. Т. 2. С. 289). Хотя собственная теория Розанова была во многом близка к взглядам Вейнингера, их выводы были противоположными.
В философии Серебряного века причудливо переплетаются самые разные метафизические вопросы: о смысле жизни и возможности бессмертия, о соотношении родового и индивидуального в человеке, о противоположности и взаимопроникновении мужского и женского начал, о телесной и психической андрогинии, о продолжении рода и о чувственном удовольствии. Все эти проблемы были для авторов не абстрактно-теоретическими, но сугубо личными. Многие русские философы этого, как и предшествующего, поколения были неспособны к успешной сексуальной самореализации и сознавали это.
Тридцатилетний Бердяев писал своей будущей жене Ю. Л. Рапп (сентябрь-октябрь 1904 г.):
«…Надо мной тяготеет проклятие половой ненормальности и вырождения. С ранних лет вопрос о поле казался мне страшным и важным, одним из самых важных в жизни. С этим связано у меня очень много переживаний, тяжелых и значительных для всего существования. И всю жизнь я думал, что тут есть что-то мистическое, что пол имеет значение религиозное» (Бердяев, 1989. С. 15).
Традицию полностью или частично нереализованных браков русских интеллигентов XIX в. (супруги Чернышевские, Бакунины, Шелгуновы, Ковалевские) в начале нового столетия продолжили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Андрей Белый и Ася Тургенева, Федор Сологуб и Анастасия Чеботаревская, Александр Блок и Любовь Менделеева-Блок, Осип и Лиля Брик. Такого богатого набора «странностей» не встретишь, пожалуй, нигде, кроме викторианской Англии.
Личные трудности русских интеллектуалов не были следствием их философских идей. Скорее, наоборот, метафизика пола позволяла им представить свой особенный сексуальный опыт как универсальный и даже религиозно-мистический (большинство этих людей были глубоко, хотя и по-разному, религиозны). Она реабилитировала и делала принципиально возможным и даже респектабельным сексуальный дискурс, но отнюдь не сексуальную практику.
Для Мережковского идеальная любовь – это форма религиозного откровения.
«Половая любовь есть неконченый и нескончаемый путь к воскресению. Тщетно стремление двух половин к целому: соединяются и вновь распадаются; хотят и не могут воскреснуть – всегда рождают и всегда умирают. Половое наслаждение есть предвкушение воскресающей плоти, но сквозь горечь, стыд и страх смерти. Это противоречие – самое трансцендентное в поле: наслаждаясь и отвращаясь; то да не то, так да не так» (Мережковский, 1925. С. 189).
Этот запутанный клубок противоречий полнее всего представлен в жизни и творчестве Зинаиды Гиппиус, жизненное кредо которой выражено в словах: «мне надо то, чего на свете нет». Красивая женщина и разносторонне одаренная поэтесса, Гиппиус чувствовала себя бисексуальной (некоторые современники считали ее гермафродиткой), но не могла реализоваться ни в мужской, ни в женской ипостаси. «В моих мыслях, моих желаниях, в моем духе – я больше мужчина, в моем теле – я больше женщина. Но они так слиты, что я ничего не знаю» (Between Paris and St. Petersburg, 1975. P. 77). Хотя ей нравилось ухаживание и тянуло к некоторым мужчинам, одновременно они ее отталкивали. Гиппиус обожает целоваться, потому что в поцелуе мужчина и женщина равны, зато половой акт кажется ей безличным и вызывает отвращение. В идеале «полового акта не будет», «акт обращен назад, вниз, в род, в деторождение» (Intellect and Ideas…, 1972. P. 67). Все свои стихи она писала в мужском роде, единственное стихотворение, написанное от лица женщины, посвящено Дмитрию Философову, связь с которым не могла быть реализована из-за его общеизвестной гомосексуальности.
Метафизическая философия пола ответственна и за сравнительную непопулярность в дореволюционной России психоанализа. Хотя в начале 1910-х годов фрейдизм стал быстро распространяться в России, Фрейд даже писал в 1912 г., что в России «началась, кажется, подлинная эпидемия психоанализа» (Freud – Jung Letters, 1974. P. 495. Цит. по: Эткинд, 1993. С. 6), натуралистические установки психоанализа не гармонировали с мистическими и антропософскими взглядами ведущих русских мыслителей, боявшихся выведения на свет и тем самым «опошления» собственных болезненных «комплексов». В густой тени философских абстракций они чувствовали себя спокойнее и безопаснее.
Эротическое искусство
В художественной литературе и искусстве непосредственности было гораздо больше, но обсуждались те же самые вопросы. Поэты-символисты создали форменный культ Эроса как высшего начала человеческой жизни, но этот Эрос был не особенно человечен. По выражению Константина Бальмонта, «у Любви нет человеческого лица. У нее только есть лик Бога и лик Дьявола» (Бальмонт, 1991. С. 99).
Поэты и художники этого, как и всякого другого, периода по-разному сознавали, конструировали и репрезентировали свою сексуальность.
В дневниках молодого Брюсова чувственность занимает центральное место, и он нисколько не стесняется этого.
«С раннего детства соблазняли меня сладострастные мечтания. Я стал мечтать об одном – о близости с женщиной. Это стало моей idеe fixe. Это стало моим единственным желанием» (Брюсов, 1927а. С. 39).
Свою сексуальную жизнь он начал в борделе уже в гимназические годы и потом посещал эти заведения регулярно. Первый роман девятнадцатилетнего Брюсова с «порядочной женщиной» двадцатипятилетней Еленой Красковой описывается им без всякой идеализации (Из дневника Валерия Брюсова 1892—1893 гг., 2004):
«30 марта 1893. Нового мало. Хватаю за пизду Е. А., но это уже не ново».
«23 апреля 1893. С сегодняшнего дня – Леля – моя. <…> Сначала вышло дело дрянь. Я так устал, в борьбе с ней спустил раз 5 в штаны, так что еле-еле кончил потом, но это ничего. <…> Как все это в действительности не похоже на то, что я рисовал себе в мечтах».
Как только пылкий гимназист добился своего, его влюбленность уменьшилась, тем более что он занят выпускными экзаменами. Но в мае Краскова внезапно умерла от оспы, это пробудило у Брюсова новый приступ любви (а заодно, пока он думал, что она умерла от простуды, – и чувство вины), юноше кажется, что это была его единственная любовь. Однако уже через месяц все «переплавлено» в литературу: