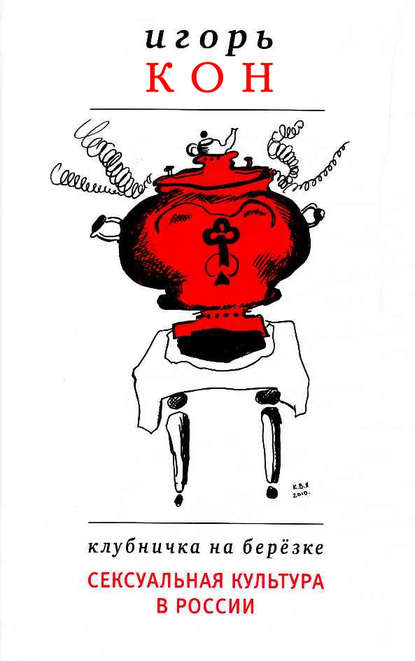По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Клубничка на березке. Сексуальная культура в России
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В XVI—XVII вв. православная церковь, как и западное христианство, усиливает табуирование наготы, предлагая верующим спать не нагишом, а в сорочке и не рассматривать свое тело даже в бане или наедине с собой. При этом мужская нагота табуируется так же строго, как и женская:
«Грех есть подсмотреть чужую срамоту тайно, или в банях, или у сонных, или у родственников, или у сирот». «Или украдом видел чужой срам?» «Или нагим спал, или без пояса?» (А се грехи…, 1999. С. 48, 64).
Даже частое мытье в бане вызывает у некоторых духовников неодобрение.
Однако эти предписания были малоэффективными, нагота оставалась для россиян более нормальным явлением повседневной жизни, чем для современных им англичан или французов.
Свойственный крестьянству натурализм распространялся и на гомосексуальность. Хотя такие отношения считались постыдными, в крестьянской среде они не были ни редкими, ни «неназываемыми». В мужском фольклоре, особенно в частушках, они обычно фигурируют в соревновательном контексте, один участник состязания самоутверждается путем сексуального унижения и осмеяния другого. Чаще всего это намеки на сексуальную слабость и неполноценность соперника, который якобы был или может стать объектом сексуальных посягательств другого мужчины, включая говорящего.
Этот фольклорный мотив, имеющий исключительно игровой, шуточный характер, исторически очень устойчив. В середине 1920-х годов в Ярославской области был записан такой обмен прибаутками между двумя молодыми парнями (Материалы М. М. Зимина…, 1995. С. 535):
1. Нам с тобой не сговориться, Придется тебе моим хуем подавиться.
2. Эта песенка стара,
В жопу еть тебя пора.
Самая распространенная формула резкого отказа одного мужчины другому среди русских в Карелии 1930-х годов: «Пососи хуй!» Широко бытовали и частушки условно-эротического характера. Парни на ночной улице горланят: «Ты Самсон, и я Самсон, оба мы Самсоны, а если хочешь ты со мной, то снимай кальсоны!» (Логинов, 1999. С. 177—178).
Смеховая культура и антиповедение
Говорить о единой сексуальной культуре царской России невозможно. Огромные размеры и полиэтничность страны порождали множество региональных различий и вариаций. В народных верованиях, обрядах и обычаях христианские нормы не только соседствовали с языческими, но зачастую перекрывались ими.
В сфере любовных и сексуальных отношений позиции язычества были особенно крепки. Б. Н. Миронов, подвергший количественному анализу 372 заговора, распространенных среди крестьян первой половине XIX в., нашел, что на 6 любовных заговоров с христианской атрибутикой приходилось 25 языческих и 2 синкретических, то есть нехристианская символика составляет почти 82% (Миронов, 1991. С. 19—20).
Природа нехристианских элементов сексуальной культуры трактуется по-разному. Одни историки и фольклористы считают их пережитками языческого прошлого, которые должны были постепенно отмереть по мере христианизации страны. Другие видят в них проявление имманентных особенностей народной ментальности, с которой православие не могло совладать и потому вынуждено было смотреть на них сквозь пальцы, а то и инкорпорировать. Третьи указывают на то, что «народная религия» нигде и никогда не совпадает с официальной, церковно-канонической, так что нужно говорить не столько о «язычестве в православии» (Носова, 1975), сколько о «народном православии» (Панченко, 2002).
Больше всего споров вызывают особенности русской карнавальной, «смеховой» культуры. В Западной Европе карнавал был своего рода мостом между «высокой» и «низкой» культурой. В исполненном веселья и эротики карнавале участвовали все, даже духовные лица, в нем не было деления на исполнителей и зрителей, здесь «все активные участники, все причащаются карнавальному действу. Карнавал не совершают и, строго говоря, даже не разыгрывают, а живут в нем, живут по его законам, пока эти законы действуют» (Бахтин, 1990. С. 207).
Под влиянием Бахтина русскую смеховую культуру первоначально трактовали точно так же. Но, начиная с известной статьи Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского (Лотман, Успенский, 1977), в этом вопросе появились существенные нюансы. По мнению этих ученых, мера игровой раскованности в средневековой России была гораздо уже, чем на Западе. Провоцирование смеха («смехотворение») и чрезмерный «смех до слез» почитались в допетровской Руси греховными. Ограничивалась и самоотдача игровому веселью. Знатные, особенно духовные, лица сами не участвовали в плясках и играх скоморохов, относясь к ним просто как к смешному зрелищу. Иностранцы с изумлением отмечали, что пляска на пиру у русского боярина была лишь зрелищем и, как всякое искусство, трудом: тот, кто плясал, не веселился, а работал, веселье же было уделом зрителей, слишком важных, чтобы танцевать самим. По словам одного польского автора начала XVII века, «русские бояре смеялись над западными танцами, считая неприличным плясать честному человеку... Человек честный, говорят они, должен сидеть на своем месте и только забавляться кривляньями шута, а не сам быть шутом для забавы другого: это не годится!» (Там же).
Когда Иван Грозный заставлял бояр надевать маски и чужое платье, это было их сознательным унижением, а заодно и богохульством, за которым иногда следовала кровавая расправа. Явно кощунственными были и некоторые развлечения Петра I в кругу его приближенных, хотя он ввел также обычай вполне респектабельных придворных «машкерадов» и бальных танцев.
Дискуссия о природе смеховой культуры, в которой приняли участие ведущие специалисты по древнерусской литературе (см. Лихачев, Панченко, Понырко, 1984), помогла осознать необходимость разграничения разных форм игрового поведения: святочные игры, пляски скоморохов и придворный бал-маскарад – не одно и то же. К тому же соотношение нормативного, ненормативного и антинормативного поведения всегда и всюду исторически изменчиво и во многом зависит от социального и символического (культурного) контекста.
Как показывает Б. А. Успенский (Успенский, 1994. Т. 1. С. 320—332. Т. 2. С. 129—150), антиповедение, которое всегда играло большую роль в русском быту, часто имело ритуальный, магический характер, было связано с языческими представлениями о потустороннем мире и соотносилось с календарным циклом. Поэтому в определенные временные периоды (например, на святки, на масленицу, в купальские дни) оно признавалось уместным, оправданным и практически неизбежным.
«Будучи антитетически противопоставлено нормативному, с христианской точки зрения, поведению, антиповедение, выражающееся в сознательном отказе от принятых норм, способствует сохранению традиционных языческих обрядов. Поэтому наряду с поведением антицерковным и вообще антихристианским здесь могут наблюдаться архаические формы поведения, которые в свое время имели вполне регламентированный, обрядовый характер; однако языческие ритуалы не воспринимаются в этих условиях как самостоятельная и независимая форма поведения, но осознаются – в перспективе христианских представлений – именно как отклонение от нормы, т. е. реализация “неправильного” поведения. В итоге антиповедение может принимать самые разнообразные формы: в частности, для него характерно ритуальное обнажение, сквернословие, глумление над христианским культом» (Там же. Т. 1. С. 131—132).
Поскольку «антиповедение» не было исключительно русским явлением, жесткое противопоставление «русского» и «западного» смеха (как и сексуальности) выглядит весьма проблематичным.
По мнению С. С. Аверинцева, в Западной Европе смех был религией укрощен, введен в систему, поэтому там смеяться было можно и нужно (смеялись даже святые!), тогда как в России смех был стихиен и потому безоговорочно опасен (Аверинцев, 1992, 1993). Говоря словами Цветаевой, русским людям всегда чертовски хотелось «смеяться, когда нельзя», поэтому жесткая православная аскеза как реакция на безудержность русского характера кажется обоснованной и необходимой. На это А. Г. Козинцев резонно замечает, что «при желании (и с ничуть не меньшим правом) можно было бы рассматривать в качестве свойства “натуры” или “национального характера” именно тягу к аскетике, а безудержность, напротив, считать психологической отдушиной» (Козинцев, 2002. С. 164). А. Г. Козинцев полагает, что «особого русского отношения к смеху не существует. Перед нами общесистемные и общечеловеческие закономерности» (Там же. С. 172). Это мнение кажется мне убедительным, взаимосвязь смеха и сексуальности существует практически во всех культурах мира. Спор Козинцева с Аверинцевым – частный случай полемики о природе национального характера и самого этноса: представляет ли он некую объективно данную «сущность» или создается в процессе исторической деятельности и не существует вне определенного дискурса и взаимодействия людей.
Пережитки древних оргиастических праздников и группового брака сохранялись в некоторых русских свадебных и календарных обрядах очень долго. Многие священники особенно жаловались в этой связи на святочные игры. Вяземский иконописец старец Григорий в 1661 г. доносил царю Алексею Михайловичу, что у них в Вязьме «игрища разные и мерзкие бывают вначале от Рождества Христова до Богоявления всенощные, на коих святых нарицают, и монастыри делают, и архимандрита, и келаря, и старцов нарицают, там же и жонок и девок много ходят, и тамо девицы девство диаволу отдают». (Успенский, 1994. Т. 2. С. 132).
В конце XIX – начале XX в. на русском Севере все еще бытовали «скакания» и «яровуха», осужденные уже Стоглавым собором. В главе «О игращах еллинскаго бесования» Стоглав прямо называет «различные игры и плясания», равно как переодевание в одежду противоположного пола, «бесовским служением» (Стоглав, 1863. С. 261, 276). Эти праздники по дробно описывает Т. А. Бернштам (Бернштам, 1977, 1978).
«Скакания» (от глагола «скакать») происходили накануне венчания в доме жениха, куда молодежь, включая невесту, приходила «вина пить», после чего все становились в круг, обхватив друг друга за плечи, и скакали, высоко вскидывая ноги, задирая подолы юбок и распевая песни откровенно эротического содержания. Заканчивалось это групповое веселье сном вповалку.
«Яровуха» (по имени языческого божества плодородия Ярилы) состояла в том, что после вечеринки в доме невесты вся молодежь оставалась там спать вповалку, причем допускалась большая вольность обращения, за исключением последней интимной близости. С точки зрения церкви это был типичный «свальный грех», форма группового секса. Впрочем, некоторые авторы считают, что «срамные» игры только выглядели беспорядочной оргией, а фактически их эротический компонент имел подчиненное значение, выполняя «прежде всего инициационную, регулятивную и нормирующую функции» (Панченко, 2002. С. 168—169).
Сексуальный разгул или антисексуальная утопия?
Народная культура «отклонялась» от нормативного православия не в одном, а в противоположных направлениях. На одном полюсе стояло принятие сексуальности в качестве «естественной» положительной ценности и радости жизни, а на другом – полное отрицание ее не только как источника удовольствия, но и как средства продолжения жизни. Своеобразным единством этих противоположностей была идеология и религиозная практика скопцов и хлыстов, которые в последние годы вызвали к себе повышенный интерес и острую полемику (Эткинд, 1998а; Энгельштейн, 2002; Панченко, 2002)
Явление это сложное и противоречивое. Речь идет о двух массовых религиозных движениях XVIII—XIX вв. – христовщине, которую позже, по созвучию и в связи с тем, что ее последователи предположительно занимались самобичеванием, стали называть «сектой хлыстов», и скопчестве (секта скопцов). Христовщина сложилась на рубеже XVII и XVIII веков и была связана с мистико-аскетическим идеями русского раскола. Ее характерные черты: особая ритуальная практика – так называемые радения, участники которых в результате совместных религиозных песнопений, «хождений» и «кружений» доходили до экстаза и начинали «пророчествовать»; почитание своих лидеров «христами» (отсюда и самоназвание – христовщина), «богородицами» и «святыми» и «специфическая аскетика, включавшая отказ от мясной пищи и алкогольных напитков, а также запреты на любые формы сексуальных отношений, на употребление бранных слов и участие в повседневной обрядовой жизни крестьянской общины. Все эти особенности хлыстовского культа сохранились и у скопцов, добавивших к ним ритуальную ампутацию “срамных” частей тела» (Панченко, 2002. С. 8).
Поскольку различия между скопцами и хлыстами довольно тонкие, в специальной литературе их обычно рассматривают как единое течение. Я тоже буду употреблять эти слова как взаимозаменяемые.
Мотив кастрации как крайней формы самоотречения и подавления сексуальности присутствует уже в древних христианских текстах:
«Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Матфея 19:12).
Этой последней категории людей уготовано особое место в Царстве Божьем:
«Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу» (Откровение Иоанна Богослова 14: 3—4).
Дабы присоединиться к этим избранникам, один из отцов церкви – Ориген – в III в. оскопил себя, но церковь такое чрезмерное усердие осудила и позже приравняла добровольное оскопление к самоубийству. Какие именно религиозные мотивы (было ли то подражание распятию Христа, доведенный до предела культ страдания или гипертрофированный культ обрезания) побудили русских крестьян XVIII в., которые ничего не знали об Оригене, принять эту практику, точно неизвестно. Позднейшие теоретики скопчества утверждали, что, доведя принцип полового воздержания до кастрации, они тем самым «достигали победы над природой», очищаясь от греха и «не оставляя себе для утешения плоти ничего». «Своею смертию для природы и жизнию для души [он] навсегда отделался от сластолюбивого греха природы, победил в себе животные инстинкты… раз навсегда перешел на служение Богу, принеся себя в жертву Богу» (Энгельштейн, 2002. С. 30).
Впрочем, радикальная сексофобия, полный и окончательный отказ от сексуальности не означает ухода из жизни и даже сочетается у скопцов с «чрезвычайным трудолюбием». Враждебный к ним народник А. Ф. Щапов писал, что после оскопления сибирские крестьяне «перестраивали дома в более обширном виде, одевались чище, жили опрятнее своих односельцев, и многие начинали вести мелочную торговлю. Многие и в скопчество поступали из-за одной потребности в обогащении [...]. Даже на крайнем севере, в Туруханском крае скопцы вместе с духоборцами были главными распространителями ремесленности» (цит. по: Эткинд, 1995. С. 156).
Слово «скопец», отмечает Эткинд, созвучно словам «скупец» и «купец», а глагол «скопить» имеет два значения: кастрация и накопление капитала. Языковой игрой занимались и сами скопцы, отождествлявшие оскопление и искупление. На вопрос, зачем они делают свои операции, они отвечали: «Чтобы скопить Царство Божие и тем угодить Богу» (Там же). Окружающие приписывали им не только хозяйственность, но и крайнюю скупость. В каком-то смысле это созвучно веберовской теории протестантской этики.
Скопческая идеология и практика были, естественно, осуждены православной церковью. После того как в начале XIX в. эти действия приняли эпидемический характер (в 1829 г. солдаты целой роты пехотного Охотского полка оскопили себя бритвами) и нашли последователей среди образованных сословий, их сочли опасными и для государства. Хлысты были объявлены изуверской сектой и стали подвергаться всевозможным гонениям и полицейским преследованиям, что только прибавило им популярности, особенно среди художественной интеллигенции (это детально проследил А. М. Эткинд), и сделало описания хлыстовских обычаев еще более противоречивыми.
С одной стороны, скопческая община отличалась жесткой сексофобией.
«Нарушители запрета на сексуальные отношения с женами не допускались на радения, они должны были приносить публичное покаяние и подвергались дополнительному инициационному ритуалу. Обрядовое самобичевание, практиковавшееся в этом же “корабле”, также воспринималось в контексте борьбы с плотской похотью» (Панченко, 2002. С. 383).
С другой стороны, многие описания скопческих радений, особенно церковными и полицейскими следователями, подчеркивают их сексуально-оргиастический, агрессивный, даже кровавый характер.
Немецкий путешественник барон Август Гакстгаузен, совершивший в 1843 г. поездку по России, рассказывает со слов своего писаря, обрусевшего немца:
«Один день в году мужчины, после безумного скакания, ложатся около полуночи на скамьи, стоящие вокруг комнаты, а женщины падают под скамейки. Внезапно гасятся все свечи и начинается оргия, называемая ими свальным грехом. <…> Ночью на Пасхе скопцы и хлысты собираются вместе на большое богослужение в честь Божьей Матери. Пятнадцатилетняя девушка, которую склоняют к тому соблазнительными обещаниями, кладется связанная в ванну с теплой водой. Входят старухи, делают ей глубокий надрез на левой груди, отсекают грудь и необыкновенно быстро останавливают кровотечение. <…> Вырезанная грудь, разрезанная на маленькие кусочки, кладется на блюдо, и каждый из присутствующих членов съедает по кусочку; затем девушку вынимают из ванны и сажают на стоящий вблизи престол, а все члены дико пляшут вокруг нее. <…> Пляска идет все дичее и бешенее, наконец внезапно гасятся все свечи и наступает страшная оргия» (Там же. С. 158).
Хотя рассказ Гакстгаузена был принят многими российскими и западными авторами в качестве серьезного исторического источника и долго кочевал из книги в книгу, современные исследователи считают его недостоверным. Обвинения хлыстов в свальном грехе и человеческих жертвоприношениях больше похожи на «кровавый навет», согласно которому евреи ежегодно приносят в жертву христианских младенцев и используют их кровь в ритуальных целях. В XIX в. хлыстов вообще часто сравнивали с евреями. По словам автора официального «Исследования о скопческой ереси» Н. И. Надеждина (1845), скопцы, подобно евреям, составляют «заговор против всего остального человечества», говорят о своей особой связи с Богом и владеют огромными состояниями, нажитыми трудом несчастных рабочих, крестьян и других людей, попавших к ним в зависимость (Энгельштейн, 2002. С. 92). Сексуальные и моральные обвинения, возможно, были вторичными и служили средством компрометации опасных инаковерующих. Но это была не простая полицейская провокация, а следствие глубокого непонимания и нежелания понять «чужую» религию, на которую люди бессознательно проецируют «перевернутые» и искаженные смыслы, характерные для их собственного религиозного и культурного обихода (Панченко, 2002. С. 170).
Хлыстовские обряды, как и любой экстаз, определенно имели сексуальный характер. Кастрация не уничтожала сексуальное желание, «похоть», а лишь затрудняла его реализацию. Наиболее благочестивые скопцы после ампутации яичек делали вторую операцию, в ходе которой топором или ножом отсекался половой член, чаще всего у корня. Присутствовали в хлыстовских радениях и гомосексуальные мотивы.
Интерпретация хлыстовства во всех его социальных и сексуальных аспектах остается противоречивой и выходит за рамки моей профессиональной компетенции. Единственное, что я категорически утверждаю, это что русская народная культура никогда не была ни однородной, ни антисексуальной. Судить о поведении и чувствах русских людей по православному канону – то же самое, что описывать быт и нравы советских людей 1970-х годов по моральному кодексу строителя коммунизма и передовым статьям газеты «Правда».
Глава 4. ЛЮБОВЬ И ЭРОТИКА
В русской любви есть что-то темное и мучительное, непросветленное и часто уродливое. У нас не было настоящего романтизма в любви.
Николай Бердяев
Как правильно любить?