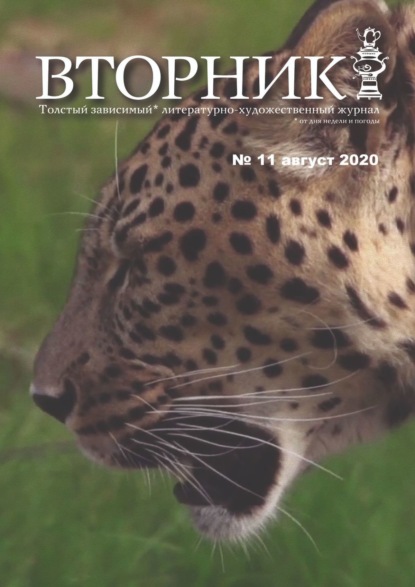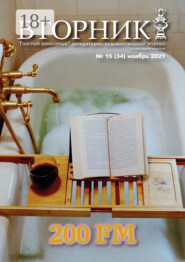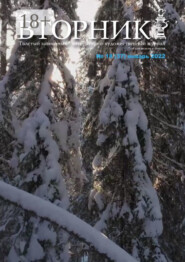По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вторник. №11, август 2020. Толстый, зависимый от дня недели и погоды, литературно-художественный журнал
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хорошо, пусть будет по-вашему, – сказала она каким-то вялым, будто не своим голосом. – У меня есть пятьдесят сантимов. Что вам ещё от меня надо?
Никто ей не ответил. На лицах обоих её спутников отразилась только холодная скука. Она смотрела на немого. Лицо его превращалось в светло-серый булыжник, колебалось, уплывало куда-то вглубь. Она закрыла своё лицо шарфом.
– Чуть-чуть позже, только вздремну немного. Я дам вам пятьдесят сантимов, и мы вместе пойдём ловить Камауэто. Он всем нам принесёт счастье.
Тёплая волна захлестнула её, понесла по жёлтому песку. Она смутно чувствовала, что чья-то рука шарит по её ноге. Ей представилась кривая улыбка на лице клоуна. Ну и пусть, от меня не убудет. Неужели я так легко оттолкну этого несчастного, этого Богом обиженного немого? Потом внезапно всё переменилось. Рука исчезла, мощное бедро тётушки Эвелины притиснуло её к стенке, и Викторин окончательно провалилась в тёплую черноту.
Когда она проснулась, было уже совсем светло, поезд весело стучал колесами на стыках рельс в предместьях Парижа. Тётушки приводили себя в порядок. «Просыпайся, недотепа, скоро Gare de L’Est». Как ты выглядишь?
Карлицы и немого не было.
– Вышли пару часов назад, хотели с тобой попрощаться, но мы не разрешили им тебя будить. Что за отвратительная пара!
«Хоть в чём-то мы с тётушками сходимся, – подумала Викторин. – Эти попутчики, этот вагон, эта дорога, какое ужасное наваждение! Надо всё забыть. Просто кусок прошлой жизни, которая уже закончилась. За-кон-чи-лась! Поезд прибывает в Париж, начинается новая жизнь. Каждый день всё сызнова. Скоро не будет и тётушек, они побудут пару дней и уедут домой. И останутся только двое: я и Париж. Держись, Викторин, жизнь только начинается. Виктория – значит, победа. Тебя ждут блестящие победы».
Девушка заметила на подоконнике маленький камешек. «На самом деле, если разобраться, ничего плохого они мне не сделали, вон и оберег оставили. Оставили для меня. Раз без денег, значит, подарили. Пустяк, а приятно. Что же это я ночью оказалась такой трусихой и совершеннейшей дурой? На меня это совсем не похоже, – Викторин украдкой взяла морскую гальку с дырочкой посредине и спрятала в сумочку. – Может быть, „куриное божество“ действительно принесёт мне удачу в любви? А что эта карлица болтала о моих тётушках? В моей деревушке тоже почему-то трепались, будто тётушки ненастоящие. Может, и не настоящие. Но щиплется тётя Эвелина вполне по-настоящему, все руки в синяках».
Пробившись сквозь толпу на вокзале, они вышли через высокие стеклянные двери и остановились на вершине белой мраморной лестницы напротив бульвара дю Страсбург. Боже, какая красота!
Викторин обратила внимание на нищенку, рывшуюся в мусорных ящиках. Заметив взгляд девушки, бродяжка, шатаясь, поднялась по ступенькам и дернула её за юбку грязной рукой: «Дайте хоть несколько сантимов, мадемуазель!» Та никогда не видела ничего подобного в своей маленькой эльзасской деревеньке и с ужасом отшатнулась от старухи. Носильщик отогнал прочь нищенку и сказал, что здесь, в Париже, её все знают, что раньше её звали Королевой Мабилль.
– Она была куртизанкой. Удивительной красавицей… А начинала на балах Мабилль. Вы знаете, что такое балы Мабилль, мадемуазель? Не знаете? Может, это и к лучшему! Рано вам думать о таких балах. Эта клошарка прославилась тем, что изобрела канкан. Довольно-таки вызывающий танец.
– Я читала о ней, её зовут Селест Могадо.
– У неё было всё: бриллианты, дворец, кареты… В общем – что говорить? – жила на широкую ногу. Любила многих, а вот теперь она – никто.
– А вы говорите, любовь, – задумчиво сказала Викторин и покачала головой. Она вспомнила романс, который пела в поезде:
В то время торжества и счастья
У ней был дом; не дом – дворец,
И в этом доме сладострастья
Томились тысячи сердец.
Какими пышными хвалами
Кадил ей круг её гостей —
При счастье все дружатся с нами.
Подайте ж милостыню ей!
– Догоните несчастную, пока мы не уехали, – попросила она носильщика. – Передайте ей вот эти пятьдесят сантимов. Скажите – от Викторин, будущей Олимпии, покорительницы Парижа.
Так буднично, нетриумфально однажды свежим утром Олимпия появилась в Париже, чтобы завоевать!
Мы знаем из свидетельств современников Викторин: именно так она и назвала себя, будущей Олимпией. Без сомнения, девушка читала роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» и выбрала своим идеалом антагонистку главной героини книги Маргариты Готье, известную всему Парижу куртизанку Олимпию, холодную, расчётливую, не верящую в любовь и неспособную любить. Это было сродни озарению. Викторин предвидела свою будущую славу модели картины великого Эдуарда Мане. Предвидела, провозгласила девиз своей жизни, но не понимала тогда значения этих вещих слов, переносящих на одно мгновение маленькую наивную девушку в будущее её блестящей и скандальной известности.
«Может, и меня ждёт столь же печальная судьба, – подумала Викторин, глядя вслед уходящей нищенке, осчастливленной монетой в полфранка. – Карлица ведь сказала об этом. Пусть так. Всё равно, я не отступлюсь. Селест жила счастливо, и я тоже добьюсь своего. Она многих любила. Хотя и никакой любви на самом деле не бывает. Выдумка богатых. Не хочу быть ни Королевой Мабилль, ни этой жалкой Маргаритой Готье. Я стану Олимпией! Пусть лучше меня любят».
9
Ирочка Котек была первой моей ундиной. Совсем моей, если допустить, что ундина может быть чьей-то. Русалка, наверное, может любить, но, всё равно, живёт сама по себе.
Я сразу понял, что это ундина, как только её увидел. Она задумчиво шла по безымянной улице между Инженерным домом и Артиллерийским цейхгаузом Петропавловской крепости. Совсем молодая, очень грустная и вконец потерянная. «Ей восемнадцать, наверное, студентка какого-нибудь гуманитарного вуза. Вечером учится, днём работает», – подумал я. Потом подтвердилось, я угадал.
Институт культуры и восемнадцать лет!
Зачем я вообще подошёл к ней? Мне уже почти двадцать семь, а тут совсем молоденькая девочка. Обыкновенная, ординарная, такая, как все. Одета просто: невзрачная кремовая блузка, серая юбчонка и мягкие туфли без каблука.
Её не назовешь красоткой. Глаза – хоть и большие, но прозрачные и водянистые, уголки уныло опустились вниз. Ни краски, ни теней. Бледная кожа; волосы русые, прямые, стрижка без затей. Чуть одутловатые щёки, небольшой ротик, сложенный скорбным бантиком. Но ведь это не просто девушка, это ундина, чёрт бы меня побрал, – сердце стучало, как взбесившиеся часы, всё существо моё кричало о том, что передо мной настоящая ундина. Не знаю уж, как я это почувствовал, но понял и не мог я упустить такой случай!
Мы разговорились. Я быстро уболтал её – выставки, концерты, французское кино, «Розовый телефон», книги… Она не очень разбиралась в искусстве… Наверное, ей хотелось быть хоть как-то причастной к миру культуры. Увы, в этом пороке её нельзя было заподозрить. Впрочем, зачем тебе, милая, этот мир навороченных городских условностей и надуманных цивилизационных ценностей? По мне ты и так хороша своей юной незамутнённой излишками знаний свежестью, наивностью и непосредственностью.
Чудная пора, в её возрасте всё кажется притягательным и интересным. Обратил внимание на женственные движения милых ручек и оттопыренных пальчиков. Руки выдают человека. Ноги, кстати, тоже.
Пили кофе, весь день гуляли по Невскому, Мойке, Апрашке, вечером пришли ко мне.
Разделась сама, сразу, просто и буднично, и без всякого стеснения… Возможно, привычно. Привычно – непривычно, какая мне разница? Разделась… И тут я потерял дар речи. Там, в крепости, – мог ли я тогда представить себе, как она хороша? Настолько безупречна, что у меня, живого свидетеля чудесного явления Елены прекрасной в скромной квартире обычного крупнопанельного дома, в тот момент перехватило дыхание.
Она улыбалась – смотри, вот я какая! Лицо преобразилось, освещённое сиянием этой её замечательной улыбки, – бирюзовые глаза лучились, губы налились соками жизни, блеснул белым прибоем ряд идеальных зубов. Нагая и бесконечно прекрасная – «Я знаю, ты один видал Елену без покрывала, голую, как рыба, когда ворвался вместе с храбрецами в Приамов полыхающий дворец» – изумительное совершенство!
Твёрдые, вразлёт груди, светящаяся кожа и длинные ноги идеальной формы. Руки, плечи, бёдра – не худые, не полные, – чуть припухлые, по-детски округлые. Пальчики рук и кисти разведены в стороны, вся она исполнена ожидания любви и ласки, которые по закону всемирного тяготения непременно должны настигнуть её. Разве кто-то смог бы отказать в любви этой юной нимфе? Через некоторое время её восхитительное тело начало струиться и уплывать куда-то перед моими глазами.
Долгие годы, когда мы давно уже не были вместе, в моей памяти появлялась и подолгу стояла эта сверкающая непостижимая красота.
Она была воплощением юной любви – как я мог подумать, что она некрасива?
Что это была за ночь. Так не хотелось, чтобы приходило утро, с его серостью, суетой и хлопотами.
В её объятиях и тихом «не уходи» мне слышалось шекспировское: «Уходишь ты? Ещё не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос, а пенье соловья». Я ответил: «Нет, это были жаворонка клики, глашатая зари. Её лучи румянят облака. Светильник ночи сгорел дотла. В горах родился день и тянется на цыпочках к вершинам».
Ты знаешь, Ирочка, чьи это слова? Почему говорится о жаворонке? И что следует сказать дальше? Нет, ты не знаешь, эти слова тебе неизвестны. А надо было бы что-то ответить. Мне так хотелось, чтобы она ответила. Или хотя бы повторила слова Джульетты: «Нельзя. Нельзя. Скорей беги: светает. Светает. Жаворонок-горлодёр своей нескладицей нам режет уши. А мастер трели будто разводить! Не трели он, а любящих разводит. И жабьи будто у него глаза. Нет, против жаворонков жабы – прелесть!»
«Разводит трели – любящих разводит» – чудесный каламбур! Тебе это непонятно – и существо каламбура, и само слово «каламбур». У тебя пока второй уровень, дорогая. Будет ли когда-нибудь выше? Тебе уже восемнадцать, а Джульетте и четырнадцати не было.
Мы часто встречались, нередко Ира оставалась у меня, но переезжать не хотела. «Нет, нет, у меня мама. Я не должна её оставлять. Живём втроём – я, мама и отчим. Отчим – нехороший человек. Пристаёт ко мне, когда мамы нет. Теряет голову, когда видит мой бюст в вырезе блузки, а если я в короткой юбке – то его вообще не удержать!»
Что говорить, колени и ноги у неё были божественные.
Многое в моей юной возлюбленной оставалось для меня загадкой. И внезапно налетающая грусть, и желание постоянно возвращаться домой, хотя, казалось бы, ничего её там хорошего не ждало. Впрочем, как ничего хорошего, а мама? А ещё была эта странная её подруга, дамочка моего возраста или даже чуть старше. Довольно некрасивая женщина, тоже, кстати, Ирина, – обычная, очень простая, возможно, неглупая и, видимо, достаточно тёртая. Видел её пару раз мельком. Весьма загадочная и неприступная особа – тоже русалка, что ли? Всюду мне эти коварные русалки мерещатся – собираются по ночам, вяжут сети и готовят западню одиноким пилигримам. А кто ещё, интересно, может стать наперсницей ундины? Ирочка иногда по несколько дней жила у неё. Та шефствовала, нянчилась с ней, наряжала, наставляла… И, как я понял, совсем не одобряла наш роман.
– Конечно, этот твой друг, он респектабельный, прилично одевается, начитанный, умный, мягко стелет, но разве такой человек тебе нужен? – нашёптывала она моей нежной подружке, а та в подробностях передавала это мне.
По большому счёту, старшая русалка права: не нужен я юной возлюбленной.
Более опытная Ира номер два была абсолютно права; но дело ещё и в том, что чужая правота подчас особенно раздражает. Кроме того, было что-то ещё, не позволявшее мне принять вторую Иру как просто подругу моей солнечной возлюбленной.
Для моей малышки любые аксессуары чувственности – нежные слова, прикосновения, объятия, ласки – были вершиной всего! Не знаю, с чем сравнить её восприятие этой стороны жизни, мы жили тогда ещё в Советском Союзе – значит, можно сравнить с пиком Ленина или с пиком Коммунизма. Не исключаю, что между двумя Иринами было нечто большее, чем обычные доверительность и исповедальность подружек, но я старался не думать об этом, а если такие догадки приходили в голову – не принимать их слишком близко к сердцу.
Уже тогда было понятно: недолго нам суждено быть вместе. Гнал от себя навязчивую мысль, пытался не прислушиваться к скрипучим доводам разума, мне было просто очень хорошо с этой девочкой. Она вызывала у меня ни с чем не сравнимое пронзительное чувство. Тем не менее я был уверен, что будущего у нас нет. Почему нет будущего, почему я так думал? Не знаю.
– Герман, ты ведь хотел, чтобы я переехала к тебе? Я перееду, пожалуйста. Это зависит только от тебя.
Никто ей не ответил. На лицах обоих её спутников отразилась только холодная скука. Она смотрела на немого. Лицо его превращалось в светло-серый булыжник, колебалось, уплывало куда-то вглубь. Она закрыла своё лицо шарфом.
– Чуть-чуть позже, только вздремну немного. Я дам вам пятьдесят сантимов, и мы вместе пойдём ловить Камауэто. Он всем нам принесёт счастье.
Тёплая волна захлестнула её, понесла по жёлтому песку. Она смутно чувствовала, что чья-то рука шарит по её ноге. Ей представилась кривая улыбка на лице клоуна. Ну и пусть, от меня не убудет. Неужели я так легко оттолкну этого несчастного, этого Богом обиженного немого? Потом внезапно всё переменилось. Рука исчезла, мощное бедро тётушки Эвелины притиснуло её к стенке, и Викторин окончательно провалилась в тёплую черноту.
Когда она проснулась, было уже совсем светло, поезд весело стучал колесами на стыках рельс в предместьях Парижа. Тётушки приводили себя в порядок. «Просыпайся, недотепа, скоро Gare de L’Est». Как ты выглядишь?
Карлицы и немого не было.
– Вышли пару часов назад, хотели с тобой попрощаться, но мы не разрешили им тебя будить. Что за отвратительная пара!
«Хоть в чём-то мы с тётушками сходимся, – подумала Викторин. – Эти попутчики, этот вагон, эта дорога, какое ужасное наваждение! Надо всё забыть. Просто кусок прошлой жизни, которая уже закончилась. За-кон-чи-лась! Поезд прибывает в Париж, начинается новая жизнь. Каждый день всё сызнова. Скоро не будет и тётушек, они побудут пару дней и уедут домой. И останутся только двое: я и Париж. Держись, Викторин, жизнь только начинается. Виктория – значит, победа. Тебя ждут блестящие победы».
Девушка заметила на подоконнике маленький камешек. «На самом деле, если разобраться, ничего плохого они мне не сделали, вон и оберег оставили. Оставили для меня. Раз без денег, значит, подарили. Пустяк, а приятно. Что же это я ночью оказалась такой трусихой и совершеннейшей дурой? На меня это совсем не похоже, – Викторин украдкой взяла морскую гальку с дырочкой посредине и спрятала в сумочку. – Может быть, „куриное божество“ действительно принесёт мне удачу в любви? А что эта карлица болтала о моих тётушках? В моей деревушке тоже почему-то трепались, будто тётушки ненастоящие. Может, и не настоящие. Но щиплется тётя Эвелина вполне по-настоящему, все руки в синяках».
Пробившись сквозь толпу на вокзале, они вышли через высокие стеклянные двери и остановились на вершине белой мраморной лестницы напротив бульвара дю Страсбург. Боже, какая красота!
Викторин обратила внимание на нищенку, рывшуюся в мусорных ящиках. Заметив взгляд девушки, бродяжка, шатаясь, поднялась по ступенькам и дернула её за юбку грязной рукой: «Дайте хоть несколько сантимов, мадемуазель!» Та никогда не видела ничего подобного в своей маленькой эльзасской деревеньке и с ужасом отшатнулась от старухи. Носильщик отогнал прочь нищенку и сказал, что здесь, в Париже, её все знают, что раньше её звали Королевой Мабилль.
– Она была куртизанкой. Удивительной красавицей… А начинала на балах Мабилль. Вы знаете, что такое балы Мабилль, мадемуазель? Не знаете? Может, это и к лучшему! Рано вам думать о таких балах. Эта клошарка прославилась тем, что изобрела канкан. Довольно-таки вызывающий танец.
– Я читала о ней, её зовут Селест Могадо.
– У неё было всё: бриллианты, дворец, кареты… В общем – что говорить? – жила на широкую ногу. Любила многих, а вот теперь она – никто.
– А вы говорите, любовь, – задумчиво сказала Викторин и покачала головой. Она вспомнила романс, который пела в поезде:
В то время торжества и счастья
У ней был дом; не дом – дворец,
И в этом доме сладострастья
Томились тысячи сердец.
Какими пышными хвалами
Кадил ей круг её гостей —
При счастье все дружатся с нами.
Подайте ж милостыню ей!
– Догоните несчастную, пока мы не уехали, – попросила она носильщика. – Передайте ей вот эти пятьдесят сантимов. Скажите – от Викторин, будущей Олимпии, покорительницы Парижа.
Так буднично, нетриумфально однажды свежим утром Олимпия появилась в Париже, чтобы завоевать!
Мы знаем из свидетельств современников Викторин: именно так она и назвала себя, будущей Олимпией. Без сомнения, девушка читала роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» и выбрала своим идеалом антагонистку главной героини книги Маргариты Готье, известную всему Парижу куртизанку Олимпию, холодную, расчётливую, не верящую в любовь и неспособную любить. Это было сродни озарению. Викторин предвидела свою будущую славу модели картины великого Эдуарда Мане. Предвидела, провозгласила девиз своей жизни, но не понимала тогда значения этих вещих слов, переносящих на одно мгновение маленькую наивную девушку в будущее её блестящей и скандальной известности.
«Может, и меня ждёт столь же печальная судьба, – подумала Викторин, глядя вслед уходящей нищенке, осчастливленной монетой в полфранка. – Карлица ведь сказала об этом. Пусть так. Всё равно, я не отступлюсь. Селест жила счастливо, и я тоже добьюсь своего. Она многих любила. Хотя и никакой любви на самом деле не бывает. Выдумка богатых. Не хочу быть ни Королевой Мабилль, ни этой жалкой Маргаритой Готье. Я стану Олимпией! Пусть лучше меня любят».
9
Ирочка Котек была первой моей ундиной. Совсем моей, если допустить, что ундина может быть чьей-то. Русалка, наверное, может любить, но, всё равно, живёт сама по себе.
Я сразу понял, что это ундина, как только её увидел. Она задумчиво шла по безымянной улице между Инженерным домом и Артиллерийским цейхгаузом Петропавловской крепости. Совсем молодая, очень грустная и вконец потерянная. «Ей восемнадцать, наверное, студентка какого-нибудь гуманитарного вуза. Вечером учится, днём работает», – подумал я. Потом подтвердилось, я угадал.
Институт культуры и восемнадцать лет!
Зачем я вообще подошёл к ней? Мне уже почти двадцать семь, а тут совсем молоденькая девочка. Обыкновенная, ординарная, такая, как все. Одета просто: невзрачная кремовая блузка, серая юбчонка и мягкие туфли без каблука.
Её не назовешь красоткой. Глаза – хоть и большие, но прозрачные и водянистые, уголки уныло опустились вниз. Ни краски, ни теней. Бледная кожа; волосы русые, прямые, стрижка без затей. Чуть одутловатые щёки, небольшой ротик, сложенный скорбным бантиком. Но ведь это не просто девушка, это ундина, чёрт бы меня побрал, – сердце стучало, как взбесившиеся часы, всё существо моё кричало о том, что передо мной настоящая ундина. Не знаю уж, как я это почувствовал, но понял и не мог я упустить такой случай!
Мы разговорились. Я быстро уболтал её – выставки, концерты, французское кино, «Розовый телефон», книги… Она не очень разбиралась в искусстве… Наверное, ей хотелось быть хоть как-то причастной к миру культуры. Увы, в этом пороке её нельзя было заподозрить. Впрочем, зачем тебе, милая, этот мир навороченных городских условностей и надуманных цивилизационных ценностей? По мне ты и так хороша своей юной незамутнённой излишками знаний свежестью, наивностью и непосредственностью.
Чудная пора, в её возрасте всё кажется притягательным и интересным. Обратил внимание на женственные движения милых ручек и оттопыренных пальчиков. Руки выдают человека. Ноги, кстати, тоже.
Пили кофе, весь день гуляли по Невскому, Мойке, Апрашке, вечером пришли ко мне.
Разделась сама, сразу, просто и буднично, и без всякого стеснения… Возможно, привычно. Привычно – непривычно, какая мне разница? Разделась… И тут я потерял дар речи. Там, в крепости, – мог ли я тогда представить себе, как она хороша? Настолько безупречна, что у меня, живого свидетеля чудесного явления Елены прекрасной в скромной квартире обычного крупнопанельного дома, в тот момент перехватило дыхание.
Она улыбалась – смотри, вот я какая! Лицо преобразилось, освещённое сиянием этой её замечательной улыбки, – бирюзовые глаза лучились, губы налились соками жизни, блеснул белым прибоем ряд идеальных зубов. Нагая и бесконечно прекрасная – «Я знаю, ты один видал Елену без покрывала, голую, как рыба, когда ворвался вместе с храбрецами в Приамов полыхающий дворец» – изумительное совершенство!
Твёрдые, вразлёт груди, светящаяся кожа и длинные ноги идеальной формы. Руки, плечи, бёдра – не худые, не полные, – чуть припухлые, по-детски округлые. Пальчики рук и кисти разведены в стороны, вся она исполнена ожидания любви и ласки, которые по закону всемирного тяготения непременно должны настигнуть её. Разве кто-то смог бы отказать в любви этой юной нимфе? Через некоторое время её восхитительное тело начало струиться и уплывать куда-то перед моими глазами.
Долгие годы, когда мы давно уже не были вместе, в моей памяти появлялась и подолгу стояла эта сверкающая непостижимая красота.
Она была воплощением юной любви – как я мог подумать, что она некрасива?
Что это была за ночь. Так не хотелось, чтобы приходило утро, с его серостью, суетой и хлопотами.
В её объятиях и тихом «не уходи» мне слышалось шекспировское: «Уходишь ты? Ещё не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос, а пенье соловья». Я ответил: «Нет, это были жаворонка клики, глашатая зари. Её лучи румянят облака. Светильник ночи сгорел дотла. В горах родился день и тянется на цыпочках к вершинам».
Ты знаешь, Ирочка, чьи это слова? Почему говорится о жаворонке? И что следует сказать дальше? Нет, ты не знаешь, эти слова тебе неизвестны. А надо было бы что-то ответить. Мне так хотелось, чтобы она ответила. Или хотя бы повторила слова Джульетты: «Нельзя. Нельзя. Скорей беги: светает. Светает. Жаворонок-горлодёр своей нескладицей нам режет уши. А мастер трели будто разводить! Не трели он, а любящих разводит. И жабьи будто у него глаза. Нет, против жаворонков жабы – прелесть!»
«Разводит трели – любящих разводит» – чудесный каламбур! Тебе это непонятно – и существо каламбура, и само слово «каламбур». У тебя пока второй уровень, дорогая. Будет ли когда-нибудь выше? Тебе уже восемнадцать, а Джульетте и четырнадцати не было.
Мы часто встречались, нередко Ира оставалась у меня, но переезжать не хотела. «Нет, нет, у меня мама. Я не должна её оставлять. Живём втроём – я, мама и отчим. Отчим – нехороший человек. Пристаёт ко мне, когда мамы нет. Теряет голову, когда видит мой бюст в вырезе блузки, а если я в короткой юбке – то его вообще не удержать!»
Что говорить, колени и ноги у неё были божественные.
Многое в моей юной возлюбленной оставалось для меня загадкой. И внезапно налетающая грусть, и желание постоянно возвращаться домой, хотя, казалось бы, ничего её там хорошего не ждало. Впрочем, как ничего хорошего, а мама? А ещё была эта странная её подруга, дамочка моего возраста или даже чуть старше. Довольно некрасивая женщина, тоже, кстати, Ирина, – обычная, очень простая, возможно, неглупая и, видимо, достаточно тёртая. Видел её пару раз мельком. Весьма загадочная и неприступная особа – тоже русалка, что ли? Всюду мне эти коварные русалки мерещатся – собираются по ночам, вяжут сети и готовят западню одиноким пилигримам. А кто ещё, интересно, может стать наперсницей ундины? Ирочка иногда по несколько дней жила у неё. Та шефствовала, нянчилась с ней, наряжала, наставляла… И, как я понял, совсем не одобряла наш роман.
– Конечно, этот твой друг, он респектабельный, прилично одевается, начитанный, умный, мягко стелет, но разве такой человек тебе нужен? – нашёптывала она моей нежной подружке, а та в подробностях передавала это мне.
По большому счёту, старшая русалка права: не нужен я юной возлюбленной.
Более опытная Ира номер два была абсолютно права; но дело ещё и в том, что чужая правота подчас особенно раздражает. Кроме того, было что-то ещё, не позволявшее мне принять вторую Иру как просто подругу моей солнечной возлюбленной.
Для моей малышки любые аксессуары чувственности – нежные слова, прикосновения, объятия, ласки – были вершиной всего! Не знаю, с чем сравнить её восприятие этой стороны жизни, мы жили тогда ещё в Советском Союзе – значит, можно сравнить с пиком Ленина или с пиком Коммунизма. Не исключаю, что между двумя Иринами было нечто большее, чем обычные доверительность и исповедальность подружек, но я старался не думать об этом, а если такие догадки приходили в голову – не принимать их слишком близко к сердцу.
Уже тогда было понятно: недолго нам суждено быть вместе. Гнал от себя навязчивую мысль, пытался не прислушиваться к скрипучим доводам разума, мне было просто очень хорошо с этой девочкой. Она вызывала у меня ни с чем не сравнимое пронзительное чувство. Тем не менее я был уверен, что будущего у нас нет. Почему нет будущего, почему я так думал? Не знаю.
– Герман, ты ведь хотел, чтобы я переехала к тебе? Я перееду, пожалуйста. Это зависит только от тебя.