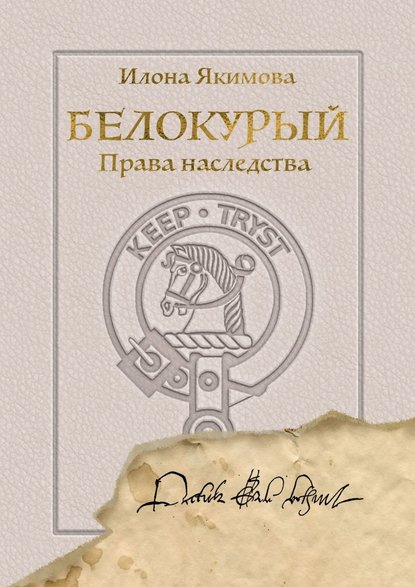По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белокурый. Права наследства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ерунда это… вот дядя мой Джордж – он сечет так сечет. Оглянуться не успеешь, а задница, что твое поле весной, вся в бороздах…
– Есть хочешь? – спросил его граф, полный сочувствия.
– Ага, – сознался Рон.
Они вдвоем пробрались на кухню, произведя сущее разорение в запасах хлеба, эля, сыра, ветчины. Парни росли наперегонки, и есть хотелось практически постоянно. Патрик никак не мог понять, отчего Рон с таким стоическим спокойствием переносит порку, пока тот не пояснил, что дома дядья били его смертным боем, просто ради забавы, и выжил он только потому, что даже вот именно умереть уже не боялся. С этой точки зрения жизнь в колледже нравилась Рону куда больше домашней. Самому Патрику была непонятна такая истовость, за шалости он лишался карманных денег, еды, свободы – ибо приор мог и запереть в своих покоях со стражей, но не поднимал на него руку. Юный граф с малолетства отличался фамильным норовом: дед перепробовал на мальчике все виды убеждения, подкупа и соблазна, но отказался от розог. Патрика было проще убить, чем удержать от чего-либо битьем; исполосованный ореховым прутом, рыдая от боли, в слезах, он сползал со скамьи и тащился заново делать то, за что сей момент получал колотушки. Его еще порой можно было уговорить, но принудить – никогда. Его затопляла природная ярость, и мальчишка превращался в зверенка – орущего, царапающегося, кусающегося, раздающего тумаки направо и налево, и никто не мог с ним справиться, пока не приходила кормилица МакГиллан, которая клала его голову к себе на колени, сильно сжимала виски, целовала в лоб… и принималась петь долгие гэльские песни на старом языке, больше похожие на заклинания, и некоторое время спустя конвульсивные подергивания тела прекращались, синие глаза закрывались, и мальчик засыпал. Мэри МакГиллан умерла рано, оставив Йана вдовцом с тремя детьми, и смерть ее стала одной из самых глубоких душевных ран Патрика.
После таких припадков в детстве он пару дней отлеживался, был слаб и страдал от головной боли. Но потом перерос их, как и многое в своей натуре, имеющее отношение к чувствам.
Для чувств вокруг него была, право, не самая безопасная среда. Наследник семьи Хепберн рос среди междоусобной вражды, дрязг, ссор, хитроумных интриг – пока не принимая участия в этой паучьей возне, но наблюдая со всем вниманием, присущим любознательному ребенку. Дело было еще и в том, что Патрику достался совершенно необыкновенный родственник и воспитатель. Соединяя в себе все лучшие признаки породы, его двоюродный прадед имел и полный набор худших. Джон Хепберн был всесторонне образован, повидал мир, обладал незаурядными талантами в политике и литературе. При первом графе Босуэлле в руках приора Сент-Эндрюса находилась малая печать короля Джеймса IV, и этого Джон Хепберн не забывал никогда. Огромная власть иссушила его чувства, но сделала крепким, словно древесный корень. Глубоко верующий человек, он исполнял свои религиозные обязанности не только со рвением, но и с полной убежденностью. Он мог быть – и был – когда видел такую возможность – и сострадательным, и милосердным, в особенности, к малым сим. Никто, ни в городе, ни за его пределами, не мог упрекнуть настоятеля Сент-Эндрюсского собора ни в неподобающей прелату роскоши, ни в распутстве, таком обычном для большинства клириков, ни в стяжательстве. Подкупить его было невозможно – отчасти и потому, что материальные блага его интересовали исключительно как средство, а не как цель. И в суде, и в миру приор был строг, но справедлив, и пользовался всеобщим уважением. Но была и особенность – укрощал свой темперамент он исключительно перед Господом. Леди Маргарет Хепберн, право, преувеличила свои способности к душевидению, когда решила, что к старости приора Хепберна одолеют думы о вечности и смирение…
Через год после того, как Патрика привезли к деду – он сам не помнил, понятное дело, но город судачил об этом следующие лет десять с наслаждением – приор повздорил с папским легатом епископом Эндрю Форманом по причине того, что господин епископ не только самолично сочинял папские буллы, но и желал распространять их, и стричь прихожан непосредственно на подведомственной старому Джону территории. Приор посчитал это, с учетом общих баснословных богатств Формана, выдающейся наглостью и своею волей перекрыл тому доступ на такие жирные пастбища, как Сент-Эндрюс и Эдинбург. Форман очень боялся Хепберна лично и семьи Хепберн вообще, но денег хотелось больше, и посему кинулся на шею лорду Александру Хоуму, тому самому, что стоял за герцога Олбани. Хоум решился защитить папского легата от злобных сынов Белой лошади, и отправил с ним в Эдинбург для провозглашения булл своего брата и десять тысяч человек. А заодно и три тысячи – в Сент-Эндрюс, чтобы поставить во главе города Формана и выбить оттуда старого Джона к чертям собачьим.
Джон Хепберн, осердясь на такую наглость, собрал родственников, кинсменов, арендаторов и слуг, и нафаршировал людьми, оружием и артиллерией собор Святого Андрея, и, когда подошел Форман вместе с Хоумами, сообщил что-то вроде того, что всегда рад гостям, тем особенно, которые знают правила поведения в приличном обществе. Картина, представшая Хоумам, была нештурмуемой, собор Святого Андрея – это вам не фермерский амбар, внутри в самом деле помещалось очень много Хепбернов. С тяжелыми пушками, разумеется. А далее старый Джон самолично поднес фитиль к запалу ближайшей, выставленной прямо на паперть и обращенной к нападающим, и заодно пообещал взорвать собор, как он выразился, к такой-то Божьей матери, если Хоумы немедленно не исчезнут за горизонтом.
Путем длительных парламентерских переговоров разошлись красиво: Хоум уходит, Хепберн остается по-прежнему приором и настоятелем, а Форман делится доходами, да еще и приплачивает кинсменам и друзьям приора триста фунтов на выпивку за беспокойство. Старый Джон Хепберн выстроил заново за свой счет половину городских стен и основал в университете колледж Сент-Леонардс, и он мог позволить себе какой угодно религиозный диспут. Хуже всего в этой истории пришлось лучезарной Агнесс, второй муж которой осаждал Сент-Эндрюс, а сын ее от первого брака при этом находился внутри осажденного замка… она прокляла все на свете, и, в первую очередь, дорогую бывшую свекровь за то, что та вверила Патрика такому подходящему воспитателю.
Бабушка-графиня, узнав об инциденте с Форманом, впала в типично хантлейское неистовство, убежденная, что приор устроил все это исключительно для того, чтоб позлить ее лично, и выслала старому Джону пачку гневных писем. Джон Хепберн отправил их в камин, не читая. А Патрик таким образом побывал в первой в своей жизни настоящей осаде.
Но, по некоторому размышлению, компенсации Формана и унижения Хоума приору показалось мало, ибо фамильное злопамятство требовало утоления. Это ж подумать только, всякая мелкая дрянь станет голову поднимать против Хепбернов! И вот, когда в тот же год в Шотландию вернулся герцог Олбани, когда прошла и присяга, и представление герцога Парламенту, когда Олбани уже сосредоточил в своих руках полноту власти, из Сент-Эндрюса в Эдинбург прилетело письмо, с оттиском на восковой печати все тем же – Белая лошадь… старый Хепберн жил долго, память имел отличную, а потому перечислил все: и грехи папского легата, и все черные тайны Хоумов, начиная от поля Баннокберна вплоть до Флодденских полей. Самым любопытным для герцога было, разумеется, открытие, какую именно роль сыграли отец и сын Хоумы в истории изгнания его отца и брата… в итоге, одно небольшое письмецо благочестивейшего настоятеля Сент-Эндрюсского собора имело для его врагов самые печальные последствия. Папского легата герцог Олбани обобрал, как липку, сняв с него все накопленные к тому дню бенефиции, заодно лишив его и самих теплых мест: епископата, Сконского аббатства и аббатства Мелроуз. А лорд Александр Хоум, отчим Патрика, и его брат, лорд Уильям Хоум, чуть позже были обезглавлены герцогом Олбани по обвинению в государственной измене…
– Видишь ли, – любил повторять Патрику прадед много лет спустя этой истории, – тут правило одно, мой мальчик. Если не можешь сразу убить – говори. Разговаривай, отравленный язык Змея и в раю нашел себе жертву, а уж на нашей-то грешной земле и подавно отыщет…
И при этом ухмылялся в бороду, словно пират после удачного промысла.
Вот к такому-то человеку однажды вечером ввалился исхудалый, уставший насмерть, забрызганный грязью Йан МакГиллан, чтобы вручить приору шумный сверток, состоящий из годовалого графа и его тоски по матери.
Приор сперва рассердился. Он понимал все резоны своей родственницы, но не имел ни малейшего желания нянчиться с ребенком. Он поместил Патрика с его кормилицей и слугами в восточной башне замка и забыл о нем минимум на год, напоминал о правнуке приору только Йан МакГиллан, который регулярно приходил просить денег в той нудной манере, как умеют только горцы. А потом маленький граф уже и сам начал ходить, всюду лазать, сваливаться с лавок и вообще, постоянно попадаться прадеду на глаза. В промежутке между этими двумя вехами в Сент-Эндрюс явилась Агнесс Хепберн, и приору стоило немалого труда и всех запасов своей кротости умиротворить взбешенную красавицу. Правду сказать, она не была укрощена, но смирилась. Когда же он приложил руку к падению лорда Хоума, отношения их с матерью наследника фамилии испортились еще больше. Но зато приор всерьез заинтересовался ребенком – где-то около трех лет мальчика, когда того было уже пора посадить в седло, а заодно обучить чтению, письму и арифметике.
Патрик рос красивым ребенком и обещал стать красивым юношей. И было в нем что-то такое, что во взрослых людях зовут обаянием – мальчик умел привлекать сердца, сперва безотчетно, как это свойственно всем малышам, а потом уже – и по своему выбору. Кроме того, он ничем во всю свою жизнь не хворал – и потница, и даже оспа обошли его стороной, разве что схватил пару раз насморк, повалявшись в луже в дождливый день. Самой большой горестью его стала смерть кормилицы и няньки, Мэри МакГиллан, случившаяся, когда графу было чуть меньше восьми – он и сам был болен с неделю, и все удивлялись, какую привязанность выказывал к семье покойного после, оправившись от горячки. В остальном, он не доставлял приору хлопот, а именно это, как всякий настоящий мужчина, приор больше всего ценил в детях. Будь он хилым, жалким, вечно болеющим заморышем, Джону Хепберну было бы куда сложней ощутить в себе родственные чувства, а так он скоро поймал себя на том, что гордится ладным, смелым, красивым потомком. Постепенно приор привязался к мальчику настолько, что открыл ему доступ в свои покои в любое время, и сам стал обучать его латыни, греческому и закону Божию. К пяти годам Патрик мог и говорить, и читать на языке Книги – не без ошибок, но удовлетворительно. Чистописание давалось ему с трудом из-за природной непоседливости. По прочим предметам, таким, как светские языки, история, арифметика, геометрия, преподаватели сами приходили из Сент-Леонардса в замок. Иногда, в виде особой чести, маленький граф вместе с приором посещал колледж, но то бывали не дни учения, а дни торжественных приемов. Бывал граф и в большом зале замка, когда по пятницам приор вершил свой суд, и за разбором дела мог прийти к нему любой желающий – примерно с десяти лет наследника Джон Хепберн желал его видеть рядом с собой, пока докапывался до истины, хотя мальчик, сидящий на скамеечке у его ног, откровенно скучал, выслушивая нудные жалобы. Куда с большим интересом он следил за тем, как виновного волокут либо в тюрьму, в Кувшин Кающихся, расположенный здесь же, в Морской башне замка, либо на экзекуцию во двор, где палач, тоже Хепберн, а потому прозывавшийся в городе просто Хромой черт, выдавал жертве плетей. Это было самым частым наказанием у приора, помимо позорного столба и колодок, но Патрику ни разу не случалось видеть, чтобы Хромой запорол человека насмерть. На порку он смотрел, не отводя глаз, и вздрагивая сам при особенно жестоком ударе, но после нескольких случаев, когда юный граф пожелал вмешаться и явить снисхождение, не посоветовавшись с дедом, ему настрого было запрещено лезть под руку палачу – под угрозой, что оставшиеся плети он немедленно получит сам. Наказание, объяснял старый Джон, налагается не от жестокости, а по справедливости и с учетом сил виновного, дабы он, виновный, прочувствовал свое прегрешение, и в таком исполнении является частью божественного промысла, нарушение коего есть, в свою очередь, грех. В дни наказаний Патрик бывал тише и задумчивей обычного, но ровно до тех пор, пока кто-нибудь из его свиты не находил ему новую игру или развлечение, кинжал или охотничьего сокола.
У приора был двор, и у Патрика был свой маленький двор. Те полсотни, которые графиня-бабушка выслала из Хейлса вместе с внуком – они ведь никуда не делись. Осмотрелись, попригрелись в замке и решили, что сытая и спокойная жизнь в Сент-Эндрюсе куда привлекательней непредсказуемого и голодного Приграничья. То есть, осталось около двух десятков, которые и составляли слуг и свиту юного Босуэлла, а человек тридцать нахлебников приор приказами и угрозами все-таки выжил из замка. Кроме того, он же периодически грубо лишал оставшихся кинсменов маленького графа иллюзий о спокойной жизни, но, видимо, Маргарет Хепберн нравилась им в качестве леди куда меньше, чем даже такой неугомонный приор – в качестве лорда. Так, у Патрика были свои пажи, прислуга, конюхи, псари, сокольничий, грумы, все мужчины, которые, правда, незамедлительно постарались обзавестись женами-горожанками… Приор кусал седой ус, подсчитывая количество голодных ртов, которое вскорости наводнит замок, но стоически венчал новые пары, запретив приграничникам, чертям, хотя бы совершать handfast, жениться по обряду. Не то, чтобы ему нечем было кормить народ – старый Джон был весьма и весьма состоятелен, но, как настоящий шотландец, несколько скуповат. Впоследствии приор получал мстительное удовлетворение, меняя Хепбернов из Хейлса женатых – на холостых, возвращая родственнице по два, три, четыре рта вместо одного; леди Маргарет писала старому Джону чаще, чем, по его мнению, требовалось, писем он почти никогда не читал, отвечал ей его секретарь, Джордж Хепберн Крейгс, заготовленными посланиями о здоровье и успехах Патрика, а вот гонцы ее порой оседали в замке насовсем. Вместо них возвращались с женами и детьми те, кого вдруг потянуло в родимый край, или от кого приор пожелал избавиться за бесполезностью. Так, к примеру, приехал и остался однорукий Том-конюх, калека Флоддена, который, однако, держался в седле лучше любого здорового, а лошадей любил больше, чем спасение души своей – его-то приор и сам не отпустил обратно, ибо маленького графа как раз пора было сажать на коня, тут и пригодится знающий человек. Кинсмены нарожали детей, и вокруг графа заклубилась ватага маленьких Хепбернов, но все они были, во-первых, вилланы, а во-вторых, моложе графа на два, на три года, и по двум этим причинам, а также благодаря врожденной задиристости, граф был у них вожаком и заводилой. Но ровни-друга-соперника с ним в замке не было. И оттого появление в его жизни лорда Хея стало для него настоящим благословением, потому что Рон как-то незаметно вселился в замок, все меньше и меньше принимая во внимание, что ему положено жить в колледже Сент-Леонардс. Кроме того, рассудил приор, Патрику на пользу пойдет учиться в компании Рона – зависть заставит его побороть природную лень и догонять нищего всезнайку. Ради воспитательного момента и с уважением относясь к очевидным дарованиям юного Хея, Джон Хепберн без сожалений принял его за стол и в дом. Патрик ликовал – у него было, с кем, наконец, драться по-настоящему, ловить лягушек во рву возле замка и надувать их через соломинку, носиться сломя голову на лоулендских пони, биться на палках, отрабатывая сшибки на палашах, болтать, рвать с ветвей зеленые сливы и яблоки, болеть животом от пережора, презирать английский и греческую грамматику – и все это абсолютно на равных, ибо йестерский Хей спуску графу не давал. А вечерами они пробирались в большой зал, слушать музыкантов и певцов приора Хепберна или требовать волшебных историй от личного сказителя графа, правда, отнюдь не всегда Патрик мог слушать его байки так спокойно, как теперь.
Как всякий горец, Йан МакГиллан был прирожденный рассказчик. Истории, долгие и певучие, как сам гэльский язык, текли из его уст непрерывно, словно дыхание. И гэльский язык Патрик Хепберн тоже впервые услышал именно от своего слуги. Йан рассказывал о русалках и селки – людях-тюленях так, как это умеют только на севере. «Но более всего они горевали по Олавиттину, сыну Гиоги» – от этих слов у Патрика проходил мороз по коже, когда он представлял окровавленную, освежеванную тюленью тушу, которая, он-то знал, на самом деле была человеком. Он рассказывал про леди Нокдалиона, разбившую русалкин камень, и про то, как русалка в отместку убила ее ребенка. Он рассказывал о рыцарях, посланных королевой на Тайн ловить речных дев, дабы предсказали будущее нерожденных младенцев, и про то, что королеве это знание не принесло счастья, ибо она умерла родами. Он рассказывал про погибшее от четвероногой рыбы дитя и про белую голубку, про мальчика, убитого собственной матерью. От этих историй маленький граф просыпался с криком среди ночи, и требовал, чтобы кормилица МакГиллан сидела рядом с ним, держа за руку, покуда он снова не заснет. Мэри МакГиллан выбранила мужа, но прошло всего два или три дня, как Патрик потребовал от Йана новых историй. И начались новые истории – про девицу, служившую королю дуун-ши и воспитывавшую его детей, потерявшую в итоге рассудок от любви к государю холмов, про шабаши ведьм в заброшенных церквях Севера, на которых можно либо погибнуть, либо быть перенесенным в Париж и обратно, про Эльфина Ирвинга, виночерпия фей и его помешанную сестру, про несказанное чудовище Нэккилейви, про церковь Даларосси, куда бегут все души, обреченные после смерти дьяволу, дабы разорвать эти цепи – но не все достигают цели, ибо сатана преследует их в виде черного охотника на черном коне и травит своими адскими собаками. От новых историй Патрику снилось такое, что он вовсе запретил гасить свечи в покоях даже и на ночь, Мэри МакГиллан стала опасаться сгореть во сне, а муж ее Йан, когда дело дошло до Джона Хепберна, едва не заработал порку. Старый Джон забрал мальчика к себе, и граф спал на приставной кровати у ложа приора – храп деда приносил успокоение его мятущемуся воображению. Храп настолько не вязался ни с ведьмами, ни с русалками, ни с королем фей, храп был до такой степени прозаичен и материален, что можно было спокойно спать – никакое волшебное существо однозначно в покои не проберется. Граф все равно требовал историй от Йана, но тот, умудренный беседой с приором на тему возможных способов приложения плети к человеческому телу, выбирал теперь из своего арсенала совсем детские сказки: про селки – жену рыбака, про троих зеленых человечков из Глен-Невиса, про Ловкача, сына вдовы, и про Джила Макдональда по прозвищу Бронзовые башмаки. И бурчал себе под нос, что люди Лоуленда не понимают истинной красоты жизни.
Но длительное присутствие мальчика в поле фантазий Йана не прошло бесследно, и Патрик сам решил поговорить с дедом. Как-то вечером приор стоял у стола за чтением старинного свитка десятого века. Его сухие длинные пальцы бережно, словно касаясь кожи ребенка, разворачивали пергамент – любование маргиналиями доставляло старому Джону наслаждение почти чувственное, когда за спиной у него вдруг раздалось:
– Но почему они не спасутся, Ваше преподобие?
Больше часа Патрик провел в кресле, свернувшись калачиком, следя за его работой, и вот теперь внезапно подал голос.
– Кто именно, мальчик мой? – рассеянно спросил приор, вглядываясь в текст.
– Ну, болотные твари, милорд, те, что живут камышах и танцуют на лунных бликах в воде. И русалки, и селки… почему они горюют, что не спасутся?
При этих словах приор разогнулся и внимательно посмотрел на мальчика. Дурная кровь мечтателей Стюартов, не иначе. Он не помнил себя в десятилетнем возрасте, но и до седых волос ему не пришло в голову задаться вопросом, поместят ли в раю волшебных тюленей, и если нет, то почему. Однако Патрик глядел на него, ожидая, и надо было отвечать. Приор немного подумал, но не вспомнил в священных текстах ни одного прямого указания.
– Потому что у них нет души… вероятно. Вместо сердца у них – холодный камень, и душа – блуждающий огонь над трясиной, нечто несказуемое. А чтобы спастись, чтобы попасть в рай, надобно иметь живую душу, данную от Всевышнего, чтобы было чем понимать Господа, каяться и молиться.
Но это не спасло его от дальнейшего обсуждения, и свиток так и остался лежать на столе, развернутым лишь наполовину.
– А почему у них нет души?
– Потому что они сотворены Господом до людей… первыми, как проба мастерства. Души им не полагалось, но сердце порой есть, и они могут испытывать простые чувства.
Согласно сказкам Йана, чувства их были не так уж просты, но возражать Патрик не стал.
– Йан говорил, из селки получаются отличные жены, ну, пока они не найдут свою шкуру, конечно, – сказал он. – Я думаю, было бы здорово жениться на селки, они красивые…
– Вряд ли разумно будет делать тюлениху графиней, – не согласился приор. – Они все равно чахнут на суше, а я не припомню большой воды нигде в твоих владениях. Не собираешься же ты прожить всю жизнь в Сент-Эндрюсе…
– Нет, мне не хотелось бы, – согласился мальчик. – Я надеюсь когда-нибудь вернуться домой. А в наших холмах вы когда-нибудь видели эльфов, ваше преподобие?
Приор не был в родных краях лет пятьдесят, и все, что он видел в холмах даже в ту романтическую пору своей юности – это вереск.
– Нет, но я всегда велю миссис Кроу оставлять молоко для брауни, – улыбнулся он. – Никогда не знаешь, понадобится ли тебе помощник для срочной работы. Хотя ты уж, будь добр, не рассказывай об этом никому – мой сан не позволяет признаваться в общении с волшебными тварями.
– Скажите, милорд, а все, что говорит Йан – правда? Про брауни, богглов, селки и церковь Даларосси?
– Я не знаю церкви с таким названием, сынок, но любой Божий дом хранит душу от дьявола. А что касается россказней твоего слуги… он – горец, там видят мир по-иному, нежели в Лоуленде. Не говорю, что неверно, но по-другому. Побываешь у своей родни на севере – поймешь.
– Он говорит, что и в Лоуленде есть такие места, что… расскажите мне про камни Найнстен Риг, ваше преподобие, пожалуйста!
Тут уж приор всерьез задумался и решил, что мало объяснил МакГиллану о просветляющих свойствах порки. И переспросил правнука:
– А что ты об этом знаешь?
– Что их поставил колдун де Сулис, тот же, что построил чертов черный замок Хермитейдж, а потом его, в свинцовой обертке, чтоб не сбежал, сварили живьем ведьмы в котле, в том каменном кольце, и душа его до сей поры бродит в камнях, пугая воплями путников, и…
Камни поставил вовсе не де Сулис, там и до Сулиса было очень странное место, но Патрику знать об этом пока не полагалось. Да и вообще, как добрый христианин, Джон Хепберн полагал, что есть вещи, в кои совать нос не следует никому, кроме экзорцистов, а тем паче, юному графу Босуэллу. Пожалуй, Йану все-таки перепадет добрая трепка…
– Уильям де Сулис умер в Дамбартоне, – разочаровал он мальчика, – и вовсе не от ведьм, а от голода в тюрьме, так как злоумышлял на короля Роберта.
– А русалки водятся там, в Хермитейдж-уотер?
– Нет. Я не видел. Разве только что только в Тайне, но это узнаешь, когда приедешь в Хейлс к леди-бабушке.
– А банши?
– Насколько мне известно, мой мальчик, банши у Хепбернов тоже нет, – отвечал приор, пряча улыбку в бороду, – это привилегия горцев.
– Стало быть, когда я буду умирать, – на всякий случай уточнил Патрик, – никто не придет выть над моим телом?
– Разве что только леди-супруга, – также серьезно предположил прадед.
– Мне бы не хотелось, чтобы она очень уж сильно вопила, – задумчиво сказал мальчик. – По правде сказать, мне кажется, умирать вообще не слишком приятно, а если уж еще и воют вокруг все время…
И он, и приор вряд ли могли предположить тогда, что личной банши Патрика Хепберна, третьего Босуэлла, в итоге окажется яблочный вор родом из Хаулетт-холлоу. И не будет никакой леди-супруги поблизости, как он тогда и хотел.