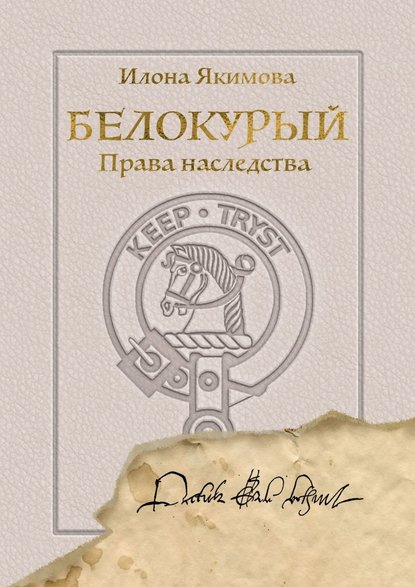По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белокурый. Права наследства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда одинокий ребенок в роскошных покоях замка Сент-Эндюс засыпал и просыпался, под его окнами, там, далеко внизу, об утес билось море. И он мечтал, как любой мальчишка, когда-нибудь отправиться в плаванье на большом корабле, увидеть чужие страны, встретить настоящих норвежских селки и пляшущие огни в небесах над холодным морем… Шансов на это, правда, было у него очень мало – приор неустанно твердил о том, что обязанностью главы семьи является поддерживать мир и порядок среди своих людей и верно служить государю. Но хорошо было говорить приору, который в молодости и попутешествовал по Европе, и жил в Париже, и даже написал отнюдь не религиозную книгу об искусстве охоты. А Патрику априори предлагалось удовольствоваться сушей и своим изрядным куском границы. Он бродил по стенам, усаживаясь, как маленькая нахохленная птица, между зубцов, свесив ноги в шумящую бездну – МакГиллан при этом стоял в полушаге от графа, готовый всякую минуту схватить своевольное дитя за шкирку и втащить обратно на стену – и долгие дни смотрел, как приходят суда в залив Сент-Эндрюс: большие и малые, торговые, военные и легкие лодчонки рыбаков. Кажется, и устный счет он освоил в совершенстве, пересчитывая мачты и корабли. А, став постарше, он по-прежнему проводил летние дни на стене, теперь уже прикидывая на глаз водоизмещение.
Дед не пускал его в город. Впрочем, нет, не так – в город Патрик выезжал только с дедом. Сначала – на лохматом лоулендском пони, как полагалось сыну и внуку приграничника, подлинному Хепберну, а в пять лет ко дню рождения он получил от деда настоящего коня – разумеется, ему требовалось плечо МакГиллана, чтоб забраться в седло, но уж на коне он держался цепко, как мартышка. Каурый обладал мягким характером, вдобавок Патрик постоянно таскал ему на конюшню яблоки и морковку, и Каурка начинал танцевать в стойле, издалека завидев маленького хозяина. Сам приор выезжал на огромном белом боевом жеребце, более приличествующем рыцарю, а не священнику, но ведь приор был Хепберн. Они составляли заметную пару, объезжая город, старик и мальчик, в сопровождении слуг, глашатаев, родичей, кинсменов и джентльменов Файфа.
Он бывал с дедом на службе в соборе – всегда на самом почетном месте, на именной скамье Хепбернов, бывал в ратуше, когда приор посещал городской совет, иногда – в Сент-Леонардсе, но большей частью посещать колледж было незачем, все педагоги приезжали в замок. Иногда они вдвоем по нескольку дней жили в городском доме старого Джона неподалеку от собора и колледжа, и это нравилось Патрику куда больше, чем замок: конечно, отсюда не видно моря, и нет никакого величия в простом фахверковом строении, зато есть яблоневый сад, и скрипучая лестница на чердак, и лаз на черепичную крышу, откуда можно без помех созерцать окрестности, упиваясь прелестями городской жизни. Ведь, по сути, Сент-Эндрюс был его тюрьмой, очень дорогой и уютной, но все-таки клеткой. Будучи окружен все теми же Хепбернами, что и дома, он не ощущал отделения от семьи – но он и не знал семьи. Он не покидал Сент-Эндрюс ни на Рождество, ни на день Святого Николая, ни в праздник майского древа, ни на Михайлов день. Бабушка ни в коем случае не разрешала, словно он был зачарованный и сокрытый принц из старинных легенд. Его семья была – старый Джон и МакГилланы. И мать, конечно, и сестренка Хоум.
Эксцентричная и прекрасная леди Максвелл наезжала в Сент-Эндрюс почти каждый месяц, иногда прихватывая с собою и дочь. Агнесс находилась в ту пору в расцвете своей красоты, и третий муж души в ней не чаял, несмотря на то, что, после неудачной беременности, закончившейся выкидышем, рожать она больше не могла. Теперь уже было ясно, что Бог выделил Агнесс только двоих: Патрика Хепберна и Дженет Хоум. И вот, верхом, во главе кавалькады Максвеллов, порой и в сопровождении своего лорда, она вихрем проносилась через весь город и врывалась в замок. Патрик начинал ждать эти дни задолго до того, как приезжала мать, и сутками пропадал на стене. Старый Джон давно смирился с тем, что упрямую женщину из приората не выкуришь, более того, ее упорство в исполнении материнского долга даже стало вызывать в нем некоторое уважение. Агнесс, правда, с ним едва разговаривала, не простив ни первого отказа отдать ей сына обратно, ни того, что приор своими стараниями во второй раз сделал ее вдовой. Но выбора у нее не было – ради того, чтобы видеться с Патриком, приходилось терпеть и приора.
Едва мать спешивалась, Патрик уже бросался к ней в объятия, сминая юбки, плащ, кружевные жесткие воротники, и вис на ней, и целовал, и затихал, прижавшись лбом к теплой шее. Время вдвоем летело для них стремительно, и когда она уезжала, он тотчас начинал считать дни до будущего месяца. Про леди Максвелл поговаривали, что она несомненно завела в Сент-Эндрюсе любовника – далеко не все знали, что у лучезарной Агнесс тут воспитывается сын, но ей были нипочем любые сплетни. Все время ее пребывания в замке Патрик собачкой ходил за матерью, ни на шаг не отступая от пышных юбок, чем заслуживал всегдашние насмешки сводных братьев Максвеллов, рослых лоботрясов. С рыжим Робертом, старше его двумя годами, они даже подрались, и граф Босуэлл был нещадно избит, но не отступил и привычки своей не оставил.
Первое время, когда мать уезжала, он, маленький, долго и горько плакал, переживая разлуку, потом устал плакать, потом приор уговорил его «быть мужчиной». Все равно же от его горя ровно ничего не менялось, и мать продолжала уезжать. Но она продолжала и возвращаться.
Леди Максвелл не белила лицо, не боялась смеяться, бегала наперегонки с сыном, путаясь в юбках, объясняла ему тонкости соколиной охоты, ревниво расспрашивала его учителей об успехах в учебе и проводила теплые весенние дни, сидя с ним во дворе замка в тени набирающих силу яблонь.
– Ты меня любишь, мама?
– Больше жизни, дитя мое.
И она говорила правду, Патрик чувствовал это всем сердцем.
– Расскажи мне про отца…
Адама Патрик не помнил вовсе, никаких теней не сохранило его младенчество. Агнесс обнимала сына, клала его голову себе на плечо, так, чтобы эта вечная сказка, которая никогда не надоедала мальчику, вливалась прямо от ее губ ему в ухо – и начинала плести песнь, полную чувств и воспоминаний. Из памяти стерлось все – и даже смерть Адама – кроме любви и юности, и он по-прежнему пребывал с Агнесс, неизменный и отчасти воплощенный в сыне. Как они встретились в доме ее брата, лэрда Треквайра, что он говорил, как выглядел, во что был одет; как их венчали и дважды играли свадьбу – в Эдинбурге при короле и для своих в Хейлсе; как он рад был рождению сына… Патрик слушал снова и снова, словно то была легенда о древних героях-полубогах, а вовсе не о его собственных родителях. Только о Флоддене он никогда не спрашивал, боги не должны умирать. Он утащил у Агнесс дорожное зеркало из полированной меди и долго разглядывал себя, пытаясь найти соответствие ее словам об отце: синие глаза – это от него, и норманнский нос де Хиббурнов, и намечающаяся ямочка на подбородке. И он неистово жалел, что мастью вовсе не Хепберн, не вороной. Цветом волос он оказался Стюарт, более того, с пугающей неизбежностью обнаруживала Агнесс порой в нем черты покойного брата Джейми Треквайра.
А вот Дженет Хоум, которую почти всякий раз брала с собою Агнесс, напротив, к его огромной зависти уродилась темненькой. Родственники бедового Алекса Хоума легко отдали девчонку матери – чай, не сын-наследник. Патрик злился, ревновал ужасно, но потом смирился с этим неизбежным приложением к визитам леди Максвелл, когда же подрос, младшая сестренка начала его забавлять своими ухватками. Джен Хоум была леди с пеленок и с малолетства командовала всяким мужчиной, попадавшим в ее поле зрения, независимо от возраста жертвы. И только старший брат вызывал в ней глубокое и всеобъемлющее восхищение. В те дни две детские головы утыкались в подол леди Максвелл, и белокурая, и темная в кудряшках, и под яблонями слышался все тот же вечный припев:
– Мама, расскажи мне…
Джен тоже почти не помнила отца, но ей повезло больше – Джон Максвелл воспитывал ее, как свою, и она росла вблизи матери. Вот по этому женскому теплу, доступному, только руку протяни, в любое время дня, во всякое время года, а не только несколько дней за месяц, он и голодал страстно, алчно, нестерпимо, этим теплом он и жаждал напитаться хотя бы от короткой жизни кормилицы Мэри МакГиллан, но ему никогда, никогда их не хватало – ни тепла, ни женщины рядом. Патрик Хепберн был, несмотря на то, что уготовила ему дальнейшая жизнь, в большей степени именно мужчина для женщин, и семена этой вечной, неутоленной тяги легли в его раненую душу именно там, в Сент-Эндрюсе.
Но и плевелы люциферовой гордыни посеяла в нем тоже, конечно же, мать.
– Помни, – твердила ему Агнесс, – ты не только Хепберн, ты также и Стюарт… и даже, на самую малость – Плантагенет.
Отравленные слова. Они кому хочешь свернут набекрень мозги, что уж говорить про десятилетнего мальчика, которому, вдобавок, рассказывает об этом мать, прекрасная и недосягаемая, как солнце. Она же вещала ему про изощренную в хитроумии, отваге и фортуне незаконную ветвь Плантагенетов – про везучих Бофоров, взысканных удачей настолько, что ныне их отпрыск по женской линии занимает английский престол. И огромное впечатление на Патрика производила мысль, что он также – дважды через Джоан Бофор – кровно причастен к старому дьяволу Джону Гонту, Плантагенету природному, а через него – и к английским, и к шотландским королям, к Стюартам и к Тюдорам. Несколько ночей подряд он даже думал об этом, не в силах спать… воображал свой фамильный герб – роза, стропила, пара львов combatant – на штандартах королевской армии, вел войска, завоевывал города и страны, население коих принимало его с восторгом, а он был к побежденным необычайно милостив… но эта фантазия вскоре прошла, да и сколько их было, тех фантазий, в мальчишеском детстве… по-настоящему его хватало только на то, чтобы организовывать батальные сцены во дворе замка, набирая воинов из детей кинсменов, великодушно отдавая Рону место главнокомандующего противной стороны. Все происходило очень шумно, со многими воплями, тумаками и ссадинами, кое-кому разбили нос, особо неудачливые отделались сломанной рукой. Патрик имел длинную беседу приором на тему, что слуг надо беречь, но слова прадеда все меньше и меньше проникали в эту крепколобую голову. И все чаще воплощению планов его споспешествовал лорд Рональд Хей из Хаулетт-холлоу.
Он ведь и в действительности был лордом, этот нищий мальчишка, круглоголовый, с неровно обстриженными вихрами, с широко расставленными глазами неясыти – зрячими и цепкими сверхъестественно. Было смешно смотреть, как склоняется перед ним единственный слуга с этим подобострастным «милорд Хаулетт Хей», пока граф Босуэлл не уяснил для себя кое-какие подробности. Про Хаулетт-холлоу, Совиную лощину, слухи ходили различные, но Йан МакГиллан смог сообщить только, что Хаулетты – один из старейших и знаменитейших рейдерских родов Бервикшира, хотя теперь практически вымерший. Сыновей всегда рождалось мало, до тех пор, пока мальчики не перестали рождаться совсем…
– Понимаешь, я – последний из Хаулеттов, – пояснил как-то Рональд Патрику Хепберну. – Правда, по женской линии. Хеи давно хотели захапать Совиную лощину, вот и женили младшего на единственной. Младшего сына от третьего брака лэрда Йестера на единственной дочери и наследнице старого Хаулетта из Хаулетт-холлоу. Она умерла, когда мне было три… больше я ничего не помню… кроме мягкости ее волос в моей руке и песни, которую она пела, бывало, когда я долго не хотел засыпать. И от нее ничего не осталось, только вот этот крест, что у меня на шее, и могила в Совиной лощине. Всё. Но зато этот акр земли, где стоит башня – это моё, только моё. Правда, и оно отойдет церкви, когда я приму постриг – так хотят дядья и сам лорд Йестера.
Двое лордов, богатейший и безденежный, бездельничали на крепостной стене, глядя на закатное солнце в заливе, пересчитывая мачты, ставя заклад на то, кто первым угадает флаг приближающегося корабля. По правую руку от замка на мысу вздымалась в небо громадина собора Святого Андрея. День выдался жарким, обоих мальчишек разморило в тепле – лучше момента для откровенности не придумаешь, чем теперь, лежа пузом на шершавых плитах известняка, овеваемых соленым воздухом с моря. Граф Босуэлл проиграл пари, лишившись десерта на ужин – и днем глаза Хея были острее, чем взор кречета из поднебесья, а еще он отлично видел в темноте, под покровом ночи, и на зависть другу искуснейше подражал крику неясыти. В часы, свободные от учебы и общих проказ, Рональд пропадал среди сокольничих приора Хепберна, весьма сведущего в такой охоте, и промежду слуг говорили – редкая птица не сядет на руку этому парню. Всякая когтистая тварь словно чуяла в нем свойский дух, родную кровь. Первый Хаулетт, как гласила легенда, как раз и был человек-сова… само имя его означало «неясыть» на языке отщепенцев, рейдеров, конченого люда Границы. Первый Хаулетт пришел в Мидлотиан еще до Хепбернов, вместе с норманнами Вильгельма Ублюдка. Это была такая толща веков, неосязаемо плотная, за которой могли таиться любые сокровища. И потому Патрик, решившись, спросил:
– А правда всё, что говорят про Хаулетт-холлоу… ну, сам понимаешь?
Первый раз они говорили о том после знакомства, когда он обозвал Хея болотной тварью. Но, против ожидания, Хей отвечал весьма прозаично:
– А я не знаю, что сказать тебе, вот те крест. Я ж оттуда увезен был после трех лет и вырос в Йестере, с той поры башня медленно рушится, меня туда не пускали, а в шесть отправили сюда, в Сент-Эндрюс. Но рассказывают, что чужаку в Совиную лощину хода нет – место заклятое, и если лэрд башни не захочет, так и не найдет ее никто.
– Выходит, ты теперь – лэрд башни, Рон?
– Я, – Рональд Хей помрачнел, – да что от того толку священнику-то? А потом…
Он помолчал. Над каменным выступом за его спиной кружилась пара ласточек, приносящих в глиняный комочек гнезда, приклеенный к водосливу, то мошку, то червяка… оттуда раздавался жадный писк птенцов.
– Ну? – поторопил Патрик.
– Ну, смотри, – отвечал тот.
И вдруг развернулся, пошел в сторону птиц, которые разлетелись при его приближении, подтянулся на руках, шустрый, словно лесной кот, достал из гнезда несчастного птенца – комочек пуха на твердой ладони, повторил, вернувшись к Босуэллу:
– Смотри…
Не понимая еще, Патрик смотрел, переводя взор с птенца на Рональда и обратно, а потом не понял, но почуял – мгновенным холодком по спине. Лорд Хаулетт Хей не делал ничего особенного, не сжимал пальцев, только глядел, не отрываясь, на свою добычу. Взрослые ласточки с диким криком кружились над ним, не смея приблизиться. А птенец в ладони перестал трепетать крылышками, шевелился уже совсем слабо, медленно, вот он начал прикрывать глаза, раз, другой, третий, словно бы засыпая, остывая уже…
– Вот… видишь?
Совершенная смерть, воплощенная в тщедушном мальчишке.
А еще в покоях лорда Хея никто никогда не видел мышей.
– Оставь его! – приказал Босуэлл с возмущением.
Рональд пожал плечами, опять поднялся к гнезду, уронил в дыру еще теплое тельце.
– Все равно они выбросят его сами, – пояснил практично, – он теперь пахнет для них неясытью… понимаешь теперь, почему мне иной дороги, кроме как в монастырь, нет? Совиная лощина разорена и больше не поднимется вновь, а спроси у деда – кто такие были Хаулетты…
Босуэлл хотел от слуги жутких историй о волшебных тварях, но одна из них уже была возле него – во плоти. Как ни странно, эта мысль скорей ободрила его, чем взволновала – как если бы он получил заступничество с иной, доселе незнакомой стороны.
На другой день, вернувшись на стену замка в одиночестве, Патрик Хепберн обнаружил трупик птенца, выброшенного парой ласточек из гнезда.
В Морской башне, в темнице, выли, от Кухонной шел теплый запах еды и жилья, в цветных витражах часовни преломлялся свет, разбрасывая на изразцовые полы внутри нее яркие капли солнца, в открытой аркаде под нею обычно прогуливались гости приора. Две круглых сторожевых башни – справа и слева от Воротной – смотрели на город дулами медных пушек, горячих сейчас не от огня сражения, но от солнца. Между Воротной и правой Сторожевой, также прозванной Епископской, находились покои архиепископа Сент-Эндрюсского, большую часть года пустовавшие. Под ними располагались комнаты старого Джона Хепберна. Скрипел ворот у колодца, яблони отцвели, слуга нес корзину съестного на милостыню нищим. Дело шло к полудню, сонные мухи летали над полупустым двором.
Патрик Хепберн, граф Босуэлл, и лорд Рональд Хей сидели на крыше конюшни и рассуждали о свойствах падения твердых тел, а именно – о скорости, силе удара о препятствие и наносимых при том разрушениях. Рядом с ними была сложена кучка учебных пособий: горшок дерьма из отхожей ямы, горсть камней, от мелких до увесистых, с куриное яйцо, кувшин тинистой воды из рва, дохлый, основательно подгнивший голубь и живой, шипящий в мешке кот. Мишенью благородных лордов предполагались, понятное дело, профессор физики и преподаватель английского, которому при любом раскладе, бедняге, доставалось больше всех. Преподаватели должны были с минуты на минуту прибыть в замок, а крыша конюшни имела очень удобный выступ, с которого открывался идеальный обзор на всех входящих и въезжающих, а также двор с этой точки простреливался целиком в любую сторону, потому благородные лорды и избрали его в качестве разбойного гнезда.
– Опаздывают что-то… – зевнул Хепберн. Он полночи жег приоровы восковые свечи над «Записками о Галльской войне», вслед за Цезарем проходя все перипетии сражений, и у него сейчас не было никакой тяге к физике, за исключением данной практической работы.
– Чур, англичанин мой! – мстительно затребовал Рон, у которого с сассенахом были свои счеты.
Патрик пожал плечами:
– Уступаю…
Они ждали нескольких человек в мантиях профессуры, жалко просачивающихся через калитку в замок, но тут запели воротные механизмы, поползли вверх толстенные цепи, и замок Сент-Эндрюс начал медленно открывать свои вековые врата целиком… Парни мгновенно забыли о жертвах на подходе.
– Ого! Кого это черти несут?
Рон подскочил на ноги, принялся высматривать гостей:
– Никак сам архиепископ пожаловал?