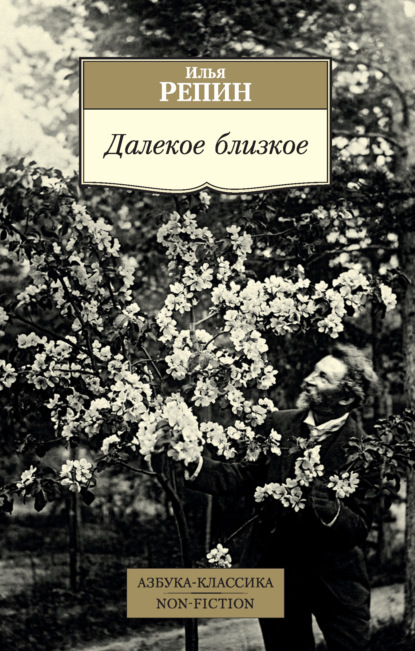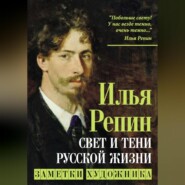По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Далекое близкое
Автор
Жанр
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты не про то! – перебиваю я. – Красочки, что по бумаге рисуют, и бумага там есть?
– Бумага? Вишь ты, бумаги захотел… У Бога всего много. Попросишь Бога, и бумаги даст тебе.
В это время в дверь вошла маменька. Химушка вдруг с испугом отскочила от меня и, как виноватая, стала прятать мерку за спину.
Маменька сердито оглядела ее:
– Тебе тут чего надо? Что ты здесь делала?
Химушка онемела и не отвечала.
– Маменька, – заступаюсь я, – она добрая, она мне гробик сошьет.
– Какой гробик? Кто ее просил? Сошьет!
– Прости, Христа ради, Степановна: все говорят, что Илюнька ваш кончается; я пришла попрощаться с ним, а Алдаким Шавернев называется сделать гробик… А он, вишь, еще смеется. Только смотрите, Степановна, как у него носик завострился; не жилец он на этом свете… уж не сердитесь…
Химушка была прогнана, и маменька прильнула ко мне и стала тихо всхлипывать.
– Так нешто ты умрешь, Илюша? – И разрыдалась, и обдавала меня своими теплыми слезами.
– Не плачьте, маменька, – утешаю я, – все говорят, что умру: носик у меня завострился; а Химушка добрая, она сошьет мне хорошенький гробик. И меня отнесут, где дедушка и бабушка лежат, где мы катали красные яички на их могилках, я знаю дорогу туда, я сам один дошел бы.
Но я не умер, несмотря на верную примету завострившегося носика.
Вероятно, была уже вторая половина зимы, и мне до страсти захотелось нарисовать куст розы: темную зелень листов и яркие розовые цветы, с бутонами даже. Я начал припоминать, как это листы прикреплены к дереву, и никак не мог припомнить, и стал тосковать, что еще не скоро будет лето и я, может быть, больше не увижу густой зелени кустарников и роз.
Пришла однажды Доня Бочарова, двоюродная сестра, подруга Усти. Когда она увидела мои рисунки красками (я уже начал понемногу пробовать рисовать кусты и темную зелень роз и розовые цветы на ней), Доне так понравились мои розовые кусты, что она стала просить меня, чтобы я нарисовал для ее сундучка такой же куст: она прилепит его к крышке. И еще она принесла мне от своего брата Ивани сказку о Бове-королевиче, с картинками. Там был и Полкан, и еще много картинок. Лежали мальчики без рук, без ног, без голов. Это все Бова еще маленьким играючи наделал; такая сила: кого хватит за руку – рука прочь, за ногу – нога прочь. Я отдал ей нашу книжку «Пантюха и Сидорка в Москве». Книжку эту мне читали уже много раз, она уже надоела, но отдавать ее мне все же было жаль.
Заказ Дони Бочаровой потянул и других подруг Усти также украсить свои сундучки моими картинками, и я с наслаждением упивался работою по заказу, высморкаться некогда было… А самым важным в моем искусстве было писание писанок к великдню[28 - Великдень – Светлое Христово Воскресение, Пасха (укр.).]. Я и теперь вспоминаю об этом священнодействии с трепетом. Выбирались утиные или куриные яйца размером побольше. Делалось два прокола в свежем яйце – в остром и тупом конце, и сквозь эти маленькие дырочки терпеливым взбалтыванием выпускалась дочиста вся внутренность яйца. После этого яйцо долго чистилось пемзой, особенно куриное; утиные, по своей нежности и тонкости, требовали мало чистки, но вычищенное куриное яйцо получало какую-то розовую прозрачность, и краска с тонкой кисточки приятно впитывалась в его сферическую поверхность. На одной стороне рисовалось Воскресение Христа; оно обводилось пояском какого-нибудь затейливого орнамента буквами «X. В.». На другой можно было рисовать или сцену преображения, или цветы – все, что подходило к великдню.
По окончании этой тончайшей миниатюры на яйце она покрывалась спиртовым белейшим лаком; в дырочки продергивался тонкий шнурок с кисточками и завязывался искусными руками – большей частью делала это Устя.
За такое произведение в магазине Павлова мне платили полтора рубля. С какой осторожностью нес я свой ящичек, чтобы как-нибудь не разбить эти нежные писанки, переложенные ватой уже руками маменьки. Степаша Павлов сам писал такие писанки, и я был до бесконечности удивлен его работой. Он, однако же, снисходительно хвалил и мою работу и заказывал приносить еще, когда будут. У нас кто-то сплетничал, будто магазин Павлова берет по три рубля за эти писанки. Этому я мало верил: я был более чем доволен своей платой.
Верная бабья примета, слава богу, не оправдалась: я остался жить и даже привык и нисколько не боялся, когда начинала идти кровь из носу. Это частенько бывало от излишней беготни в жаркий день, от самого небольшого ушиба, от вспыльчивости в спорах. Но я уже знал, что делать: сейчас же справившись, из какой ноздри идет кровь (большею частью она шла из левой), я становился затылком к стене, подымал правую руку и держал большой железный ключ от погреба на своем загривке; сначала чувствовал, как кровь наполняет мне рот и идет уже ртом вниз; поднявши высоко голову, я ждал, чтобы кровь остановилась, однако она шла все гуще, но уже тише. И когда совсем переставала, я выпрямлялся. Надо было только долго не сморкаться густой кровью, а то сейчас же опять пойдет. Часа два приходилось быть очень осторожным в движениях и не пригибаться к столу.
Скучно было выдерживать, но что делать – надо было терпеть.
Бедность
Все шло хорошо, но однажды весною, в солнечное утро, на улице я увидел, как Химушку и других соседок погнали на казенную работу. Ефрейтор Середа, худой, серый, сердитый, вечно с палкой, ругает баб, чуть они станут разговаривать.
– А? Поправился? – говорит мне Химушка, проходя мимо меня. – Ну что, как здоровье? Вишь, ожил.
– А вас куда гонят? – спросил я со страхом, пока Середа отстал, подгоняя других баб.
– Далеко, к Харьковской улице, новые казармы обмазывать глиной. А твою мать еще не выгоняли? – спросила она.
– Нет, – ответил я с ужасом. – Разве можно?
– А то что же, ведь она такая же поселянка, как и мы все… А что ж ты Репчиху не выгоняешь на работу вместе с нами? – обратилась она к догнавшему нас Середе. – Ведь такая же поселянка! Что ж она за барыня? Вишь – братья в офицеры выслужились! Да у меня, может быть, дядя в писарях, а я иду же на работу.
Середа остановился, задумался.
– А в сам деле, что ж она за барыня?
Он подошел к нашему крыльцу и крепко застучал палкой в дверь.
Маменька выбежала с бледным лицом…
– Завтра на работу, сегодня только упрежаю, завтра рано собирайся и слушай: когда бабы и девки мимо будут идти – выходи немедленно!
Маменька весь день проплакала, но к утру распорядилась, как завтра быть.
Так как Устя и Иванечка были больны, то Доняшке надо было дома и готовить обед, и смотреть за хозяйством, а мне – нести маменьке обед на работы. Новые казармы были на выгоне, недалеко от Делового двора, откуда виден Страшный ров. К Страшному рву все боялись подходить: там целыми сворами бегали и лежали расстервившиеся собаки, даже бешеные оттуда иногда мчались, мокрые, с пеной у рта, прямо по дороге, пока их не убивали палками мужики. А на днях эти собаки разорвали чьего-то живого теленка, так и растерзали и обглодали до костей. В ров валили всякую падаль; и дохлые коровы, и лошади, и собаки, и кошки, и овцы лежали там с оскаленными зубами, с ободранными шкурами, раздутыми животами, а другие – высоко подняв одну заднюю ногу. Вонь такую несло оттуда, что не подступиться.
Доняшка учила, чтобы я прежде вышел к саду Дворянской улицы и по-над стенкой – тут все-таки люди ходят – пробрался потихоньку к казармам, а там мне уже видны будут наши осиновские бабы.
С узелком (в нем на тарелке было положено съестное для маменьки) я поднялся на Гридину гору и прошел дальше к плетню Дворянского сада; там я увидел, что собаки со страшным лаем понеслись к кладбищу и к Староверскому лесу.
Я обрадовался и почти бегом пустился к казармам, и бабы наши уже были мне видны.
Девки пели песни и мешали глину с коровьим пометом и соломой. День был жаркий, и они почти все были покрыты белыми платками и косынками, чтобы не загореть. Мне трудно было узнать маменьку, я стоял и всматривался.
– Степановна, это, верно, вам Илюнька принес обед! – крикнул из-под одной косынки голос Химушки.
– Барыня, белоручка, – кивали бабы в сторону маменьки, – узнаешь небось, как поселянки работают, а то, вишь, все отбояриваются. Что у нее братья в благородные из кантонистов[29 - Кантонисты – сыновья нижних воинских чинов, числившиеся принадлежащими полку.] повышли, так уже и она барыня!.. Небось Середа тебе покажет барство!.. Вишь, и мальчонка – в чем душа держится, босиком ходить, вишь, не привык, а штанишки на одной подтяжке… У самой-то кожа на руках нежная, сейчас до крови стерла, как стала месить глину. Я уж и то говорю ей: «Ну уж носи, подавай, где тебе месить». Ногами тоже босиком ступить не может: колко ей… Привыкнешь, матушка… Обеднела без мужа; далеко, говорят, угнали.
Подошла Химушка:
– А что, жив остался? Как это ты собакам не попался? Вишь, загорел как, поздоровел, а то был совсем бумажный.
Маменька подошла ко мне; она была под черным большим платком, спущенным низко. Лицо ее было так красно и блестело от слез так, что я едва узнал ее…
– Ах, напрасно ты все это нес, мне и есть не хочется! – сказала маменька.
Мы сели на высохшей травке.
– Как же ты от собак прошел? – спросила маменька.
– Я, как Доняшка сказала, к садам, к плетню, а оттуда, как увидел, что собаки понеслись к окопу, я скорее сюда.
У маменьки руки были в глине, и местами из них кровь сочилась.
– А трудно, маменька? – шепчу я. – Можно мне за вас поработать?
Маменька рассмеялась сквозь слезы и стала меня целовать. Я никогда не любил целоваться.