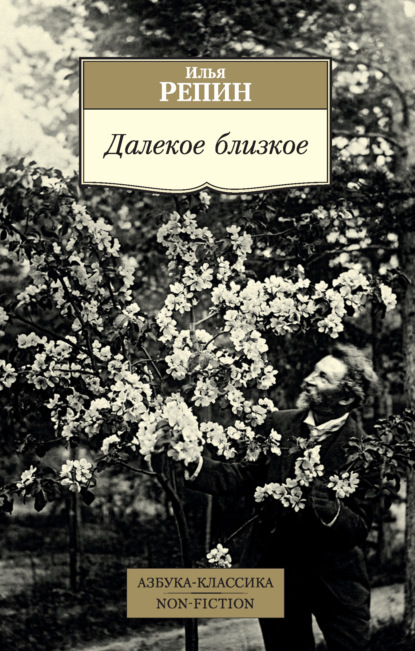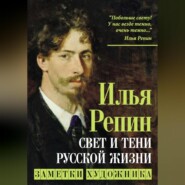По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Далекое близкое
Автор
Жанр
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Проснулся я позже обыкновенного. Глянул прежде всего на страшную золу. У грубки не было серо-желтого трупа. И что же! Не сон ли? Демьян Иваныч в следующей комнате, нашей мастерской, уже работал тихо и усердно: полировал «зубком» большую золоченую раму. Павел с другой стороны так же старательно поспешал не отстать от товарища.
Эта рама была единственная вещь, не законченная нашей артелью в Пристене. Я не мог понять: верно, было объяснение, они помирились, и Кузовкин работает так, утешенный милостями своего хозяина. Но Никулин еще спал; следовательно, ничего не было. Я пришел в панический ужас, когда подошел к Кузовкину. Половину лица и челюсть он перевязал платком, и от этой белой перевязи оно было еще чернее; но главный ужас: оно было почти все залито огромным синяком, а левая щека вздулась и закрыла глаз. Взглянув украдкой своим маленьким глазком из-под повязки и заметив мой ужас, он сказал:
– Ночью у меня так разболелся зуб, даже голова болит, и щека распухла, даже видеть трудно…
Никулин только что проснулся, весело отфыркался, умываясь, и как ни в чем не бывало заварил чай и пригласил нас.
– Что, кучер готовит лошадей? – спросил он Павла. – Вы, Илья Ефимович, едете сейчас со мной в Каменку, а за ними я пришлю лошадей дня через два. Надеюсь, рама эта будет кончена? – повел он влево, где сидел Кузовкин, который был лучший позолотчик.
– Кхе-м, кхе-м так так-то это… будет готова, Дмитрий Васильевич, – едва слышно, но весело, с тихой покорностью лепетал Демьян.
Ни слова о расчете, о деньгах, как будто ничего не было…
– Теперь я оставлю вам по десять рублей, так как еще не получен окончательный расчет здесь от старосты. Подвода заберет вместе с вами весь инструмент и кое-что еще натурой от мужиков, что они недодали.
Ответом было молчаливое согласие.
Как все, и мы чувствовали непреоборимую власть над нами этого человека. Ко мне он был особенно внимателен и ласков.
По меловому кряжу над Осколом мы ехали весь день, и луга с бесконечными далями блестели разными изгибами реки, трепетавшей под солнцем. На каждой горке я с удовольствием соскакивал с нашей брички с кибиткой. Мне было так привольно дышать.
Никулин все время наводил разговор на серьезные предметы, и я удивлялся, даже верить не хотел, что вчера он так бессовестно избил тщедушного позолотчика.
Страшно в этой среде; я начинаю раздумывать как-нибудь отойти, уйти домой… А как это он меня всегда отличает от других!
Вообще все в этом краю меня как-то особенно уважают и отделяют от первых мастеровых. Вот после осмотра наших работ, когда в церкви все было кончено к храмовому празднику, отец Алексей позвал нас к обеду. На торжество приехал его сын – студент из харьковской семинарии. Студент отвел меня в сторону и стал втихомолку расспрашивать, откуда я, кто мои родители. Ни за что верить не хотел, что я – военный поселянин. Это меня даже удивило:
– Что же вы находите во мне? Какую разницу от товарищей?
– Полноте, они вам не товарищи, у вас осанка, манеры. Сейчас видно, что вы другого круга.
И мы стали говорить о литературе. Читал я много и уже давно. Когда еще сестра Устя училась в пансионе Лиманских, у них была библиотека, где мы брали книги. Устя читала вслух, и мы зачитывались романами Вальтер Скотта, перепискою Ивана Грозного с Курбским и многими другими книгами. У Бочаровых также процветало чтение, хотя Иван Бочаров любил более всего сказки.
Когда Устя умерла, то офицеры Чугуевского полка давали мне книги из полковой библиотеки, особенно Жуковского, Пушкина, Лермонтова и других.
Я так обрадовался студенту, так дружески со мною поговорившему. Я горел от восхищения… Это поймет только человек, так проголодавшийся без духовной пищи!
Какая безнадежная скука начинает одолевать человека, надолго погрязшего в «милую простоту», в грубую некультурность! Ни одной мысли, ни одного интересного слова: обыденщина животной жизни. Я опять стал вспоминать маменьку. Как я грубо расстался с нею!.. Положим, я никогда не любил ласк, это правда, всякие нежности меня подмывали даже на грубость, но все же так нарочито, быстро огорчить ее я не предполагал.
Часто и подолгу я мысленно жил прежней жизнью, возвращаясь домой. В уединении я пел романс:
На булат опершись бранный,
Рыцарь в горести стоял…
И в другой стране безвестной
Мнил прославить я себя.
А между тем мы все еще едем с Никулиным, уже вторые сутки, по меловому кряжу возвышенностей над Осколом-рекой. Подолгу и очень умно он останавливается на рассказах из своей жизни, говорит о жизни и нравах мастеровых. Это было очень интересно, и я забывал тогда даже о Чугуеве. Однако он так любил заезжать по дороге к своим многочисленным знакомым, что трудно было заставить его ехать дальше. Обыкновенно у всех – и у добрых хуторян, и у зажиточных паромщиков, и у мукомолов, ведущих большую торговлю мукою и зерном, – выставлялась на стол горилка, вытаскивались кныши, жарилась яичница с салом и рождественскими колбасами; приносились из погребков соленые арбузы, жарились осетры в сметане, в ставах скрывалось большое богатство и налимов, и сазанов, и пир со скрипкой и пением затягивался до поздней ночи. С вечера решали выехать на заре, но иногда какое-нибудь дельце, приход какого-нибудь нужного человека – и наш отъезд опять откладывался и откладывался. Я уже хорошо изучил весь репертуар никулинских музыкальных пьес и очень скучал без дела.
Однако невозможно было не увлечься его игрой на скрипке и особенно его глубоким чувством в песнях, этой незаменимой прелестью его голоса…
Каменка
Лунной ночью мы въехали в Каменку, и тех картин меловых мазанок, ворот и дворов, так сказочно и внезапно обдавших меня поэзией Украины, наутро я уже не нашел; днем все показалось просто и прозаично.
Может быть, это показалось после того, как нас встретила истинная поэзия в лице жены Никулина, молодой, высокой, красивой женщины – Екатерины Васильевны… Бросилось в глаза исстрадавшееся, выразительное лицо этой недюжинной и высокоинтеллигентной натуры. Видно было, что она обожала своего мужа-артиста и часто подолгу томилась в одиночестве.
Утром мне предложили занять для мастерской весь пустой дом, стоявший недалеко от общего жилья. Дом этот бросили с тех пор, как на полатях появился гроб для старой бабушки. Старая-престарая старушка, совершенно высохшая темно-коричневая мумия, была уже позабыта всей родней. Никто не знал, сколько ей лет; считали, далеко за сто. Она пережила все. После того случая, лет пятнадцать тому назад, когда она действительно умирала и ее уже пособоровали, приготовили и даже положили в гроб, так как всем показалось, что она кончалась в последней агонии, – старушка оправилась, вылезла из гроба и пошла на свою любимую печку, где пребывает и сейчас, покидая печку только для солнечных дней, когда она влезает на груду хвороста против солнца и сидит, восторженно глядя в пространство и что-то весело бормоча. Она давно уже была слепа.
Я только однажды услыхал ее тонкий, почти детский голосок:
– Дiвчаточки, дiвчаточки, iдiть до мiне: у меня подушок багацько-багацько!..[34 - Девушки, девушки, идите ко мне: у меня подушек много-много!.. (укр.)] – и расхохоталась.
Екатерина Васильевна сказала мне, что бабушкин гроб можно или вынести куда-нибудь на горище (чердак), или загородить, чтобы его не видно было, так как из-за него дом бросили и нет ни одного смельчака, соглашающегося там жить…
Разумеется, только днем я буду там работать, пока еще тепло, а спать я могу в комнате ее свекра, живущего на покое и не вмешивающегося уже давно ни в какие дела мастерских; только по дому он следил за порядками.
Осмотрев и дом внутри, и гроб, и целый ряд комнат, я выбрал себе для мастерской самую большую комнату в три окна (в ней же и гроб стоял на каком-то возвышении) и рядом для своей спальни комнатку, в которой прекрасно устроил себе кровать из какого-то помоста.
Екатерина Васильевна не без удивления взглянула на мою храбрость и приказала бабам вымести и вытереть пыль, которая толстым слоем лежала всюду в заброшенном жилище.
Бабы с большим недоверием посматривали на меня искоса, и только гроб сдерживал их от насмешек над храбрецом.
Разумеется, я геройствовал, а когда темным вечером я возвращался после ужина в доброй семье Никулиных, где было и светло, и тепло, и весело, и ощупью добирался до своей постели, мне всюду по темным углам мерещилась оживающая от смерти старуха; и казалось, она встанет предо мной и вот-вот преградит мне дорогу.
Едва-едва различаешь, бывало, во мраке черный гроб с черными коленкоровыми оторочками и свесившимся посредине белым саваном, оставшимся нетронутым с тех пор, как из него вылезла ожившая покойница. Да она и сама потеряла последний разум в тот момент, когда вылезала из гроба, и впала с тех пор в бессмысленное детство.
Конечно, я был храбр лишь наружно и, проходя через кухню, наморщивал серьезно брови перед кухонными бабами и был доволен, что они смотрели на меня с тайным страхом.
Однажды я даже услышал такой их разговор на мой счет:
– А хиба ж не бачиш: у його в носi не пусто; у його i волосся не таке; вiн щось зна…[35 - Разве не видишь: у него в носу не пусто; у него и волосы не так; он что-то знает… (укр.)]
Волосы у меня были стрижены сплошь под гребенку, и я щеткой зачесывал их ежом назад и был уверен, что имею внушительный вид.
– Та вже ж, – отвечала другая. – Хто ж би оце спав в пустiй хатинi, та ще з домовиной вiд покiйницi? Звiстно, незпроста[36 - И то… Кто же спал бы в пустой хате, да еще с гробом от покойницы? Известно, неспроста (укр.).].
А у меня в мастерской стояли на мольбертах-треножниках два местных образа: Спасителя и Божьей Матери, и я с увлечением добивался света от этих фигур, в лицах искал божественности. Настроение мое было религиозным.
Наконец ярко блестевшими мазками несмешанных и лиловых полос с палевыми я достиг необыкновенного света вокруг голов на образах.
Екатерина Васильевна, придя навести ревизию бабьим работам по очистке, очень удивилась моим образам, долго их рассматривала и спросила, с каких оригиналов я писал и где я видел такие образцы. Она была умна, обладала большим тактом. Как хозяйка, она воздержалась от похвал, но я чувствовал, что ей было и ново, и неожиданно мое искусство.
Впервые здесь, у Никулиных, я начал читать книгу Диккенса «Давид Копперфильд младший».
Припоминаю теперь, что при свете одной свечи мои комнаты с гробом более всего похожи были на катакомбы, и в них я не мог расстаться с книгой, пока однажды не получил выговора от бабушки – матери Екатерины Васильевны – за долгие засидки в пустом доме. В воскресенье почти с утра устроившись поудобнее, просиживал почти весь день, целиком уходя в жизнь и интересы героев Диккенса.
Не помню, по какому случаю, совершенно неожиданно мне пришлось услышать из другой комнаты серьезный разговор Екатерины Васильевны с Дмитрием Васильевичем Никулиным.