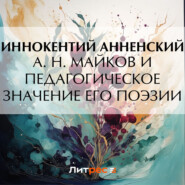По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три социальных драмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да, право, перепил французского, что ли… Ребята, вяжи его. Острог… Сибирь… Эх-ма… А петля-то? Легко… А дьявол! Это не он, не Никита язык высунул… Это беспятый дразнится.
«Так не велишь бояться людей?» И вот Никита начинает свое искупление.
«Творите мужское дело», – так говорил некогда Владимир Мономах, поучая своих детей. Та же мысль о дерзании и мужестве, которые даже больше нужны для жизни, чем чтобы с нею покончить, мелькает и в чадных словах унтера. Это – тоже замаскированная речь Толстого. В чьей деятельности было более дерзания? Чей анализ был глубже и бесстрашнее? – Но не будем закрывать глаз и на цену этого мужества и дерзания. Сквозь Митрича я вижу не ересиарха, я вижу и не реалиста-художника. Я вижу одно глубокое отчаяние. Вот она, черная бездна провала, поглотившая все наши иллюзии: и героя, и науку, и музыку… и будущее… и, страшно сказать, что еще поглотившая…
Драма на дне
Я не видел пьесы Горького. Вероятно, ее играли превосходно. Я готов поверить, что реалистичность, тонкость и нервность ее исполнения заполнят новую страницу в истории русской сцены, но для моей сегодняшней цели, может быть, лучше даже, что я могу пользоваться текстом Горького без театрального комментария, без навязанных и ярких, но деспотически ограничивающих концепцию поэта сценических иллюзий.
Я думаю, что в наши дни вообще коллизия между поэзией и сценой все чаще становится неизбежной. На сцене вместе с развитием реалистичности растет и объективность изображения.
Театр дает все более простора творческой индивидуальности каждого артиста, и при этом школа и традиция, которые раньше условно объединяли и ограничивали эти индивидуальности, уходят куда-то все далее от наших подмостков. Между тем поэзия становится все индивидуальнее и сосредоточеннее. Поэт в наши дни проявляется свободно и полно, но проявления его личности становятся чересчур прихотливыми, особенно ввиду того, что усложнилась не только его натура, но и жизнь вокруг нее. Границы между реальным и фантастическим для поэта не только утоньшились, но местами стали вовсе призрачными. Истина и желания нередко сливают для него свои цвета. Жизнь кажется мистической и декорация живой.
И вот сцена вместо одной сложной индивидуальности поэта дает в лучшем случае целую гамму их, и эти индивидуальности, ограничивая друг друга, сводят свободную игру творческой мысли к иллюзорной реальности.
Если слово как внушающий символ всегда резко отличалось от слова как интонации и жеста и поэзия как высшее и нераздельное проявление индивидуальности от поэзии отраженной, комбинаторной и лицедействующей, то в наши дни это различие стало приобретать иногда почти болезненный оттенок.
Мне лично мешали бы, я знаю, вглядываться в интересную ткань поэтической концепции Горького: весь этот нестройный гул жизни, недоговоренные реплики, хлопанье дверей, мельканье мокрых подолов, свист напилка, плач ребенка, – словом, все, что неизбежно в жизни и что, может быть, составляет торжество сценического искусства, но что мешает думать и в театре, как в действительности.
А между тем, чтоб оценить пьесу Горького и ею наслаждаться, над ней надо пристально думать, потому что создавшая ее индивидуальность сложна и проявляется очень прихотливо.
Непосредственного впечатления пьеса не дает; пока уяснишь себе ее внутреннюю идейную стройность, которая то на минуту осветится, то снова гаснет, – читателю все время кажется, то будто он блуждает по лабиринту, то будто он никак не выпутается из цепких противоречий.
После Достоевского Горький, по-моему, самый резко выраженный русский символист. Его реалистичность совсем не та, что была у Гончарова, Писемского или Островского. Глядя на его картины, вспоминаешь слова автора «Подростка», который говорил когда-то, что в иные минуты самая будничная обстановка кажется ему сном или иллюзией[49 - …вспоминаешь слова автора «Подростка», который говорил когда-то, что… самая будничная обстановка кажется ему сном или иллюзией. – См.: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: „А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото“ а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1975, т. 13, с. 113). Ср. также со стихотворением Анненского «Петербург».]. Он испытывал это, например, гнилым, желтым, осенним утром на петербургских улицах.
Один театральный критик, по-моему, очень хорошо сказал о персонажах Горького, что они похожи на чертей[50 - Один театральный критик… сказал о персонажах Горького, что они похожи на чертей. – Источник ссылки установлен предположительно на основании аналогичной ссылки А. В. Амфитеатрова, который пишет: «А. С. Суворин открыл, что герои Горького-не люди, но черти» (Амфитеатров А. В. Собр. соч. СПб., т. 22, 1896, с. 147).]. Я понимаю, конечно, под этой метафорой не пресловутую демоничность новых литературных героев: речь может идти только о загадочности и своеобычности тех масок, за которыми мелькает душа поэта, о той дразнящей неуловимости контуров, которую как-то странно рядить в типические шаблоны театра.
Шулер, побитый за нечистую игру и одурманенный водкой, страстно, хотя и с надрывом, говорит об истинах, которые волнуют лучшие умы человечества. Старик, которого в жизни только мяли, выносит из своих тисков незлобивость и свежесть. Двадцатилетняя девушка, которая не видела в жизни ничего, кроме грязи и ужаса, сберегает сердце каким-то лилейно чистым и детски свободным. А Пепел, этот профессиональный вор, дитя острога и в то же время такой нервный, как женщина, стыдливый и даже мечтательный? Это внутреннее несоответствие людей их положению, эта жизнь, мыслимая поэтом как грязный налет на свободной человеческой душе, придает реализму Горького особо фантастический, а с другой стороны, удивительно русский колорит. Недаром в наших старых сказках носителем силы и удали нежданно-негаданно является какой-нибудь хроменький Потанюшка, а алмаз царевны отыскивают на осмеянном дураке, где-то на черной печке, завернутым в грязные тряпицы. Но Горький уже не Достоевский, для которого алмаз был бог, а человек мог быть случайным и скудельным сосудом божества; у Горького, по крайней мере для вида, – все для человека и все в человеке, там и царевнин алмаз. И если для Достоевского девизом было – смирись и дай говорить богу, то для Горького он звучит гордым: борись, и ты одолеешь мертвую стихию, если умеешь желать.
Перечитывая пьесу Горького, я убедился, что этот менее всего имел в виду дразнить душу своего читателя реальным изображением нищеты, падения и надрыва.
Вообще он не относится к тем бытописателям, которые стараются сблизить читателя с обстановкой изображаемых им лиц. Рисовать он, кажется, и никогда не любил, да и фантазия едва ли дает ему такие яркие отображения действительности, какими страдал, например, во время творчества Гончаров. Романы Горького скорее идейные эскизы, связанные настоятельностью проблемы, чем искусно скомпонованные истории человеческих сердец. Горький как-то странно расстается со своими героями – он то убивает их, то бросает совсем молодыми, когда бы еще впору было затеять роман. Его, кажется, не особенно интересуют «типические особи человека или занимательные эпизоды». К изображению его подводит не цепкая наблюдательность и не интерес к проблемам индивидуальной психологии, а идейные запросы его чуткой артистической природы.
Когда я читаю в двадцатый раз о гончаровском Захаре, или Флобер рассказывает мне о Пекюше[51 - Пекюше – герой неоконченного романа Гюстава Флобера (1821–1880) «Бювар и Пекюше» (опубл. в 1881 г.).] или Шарле Бовари, или Теккерей методически, не торопясь, развертывает передо мной летопись жизни Ребекки Шарп[52 - Ребекка Шарп – персонаж из романа Уильяма Теккерея (1811–1863) «Ярмарка тщеславия» (1847–1848).], я не спрашиваю зачем? Меня занимает прежде всего конкретный человек: мне хочется представить его себе до мелочей одежды, до звука голоса, я ищу вокруг ему подобных, мне даже кажется иногда, что я встречал и терял его в толпе или был с ним знаком. Когда я оставлю книгу, мне некоторое время скучно без нарисованного друга, хотя бы беллетрист рассказывал мне о самом неинтересном человеке в мире. Связь наша с миром Захаров и Шарлей Бовари или Пиквиков уходит куда-то глубоко, на самое дно бессознательной души, и, отличаясь большой прочностью, порою выжимает даже слезы.
Но возьмите, с другой стороны, какого-нибудь Степана Петровича Верховенского из «Бесов» Достоевского, когда этот старик осанисто козыряет с червей, когда он объясняется в любви, или фрондирует, или кается. Его французская речь и припадки холерины, его наивность, легкомыслие, – все это так прекрасно написано и так художественно скомпоновано, но не чувствуете ли вы, что есть нечто, мешающее вам отнестись к герою Достоевского, как к Обломову или Калиновичу[53 - Калинович – герой романа А. Ф. Писемского «Тысяча душ» (1858).]?
За Верховенским, как за Левиным, Познышевым, Иваном Карамазовым, вслед за появлением каждого из этих лиц вырастает нечто новое, что выше и значительнее их. За Верховенским, например, вы чувствуете душевную тревогу Достоевского, которая мало-помалу обращается для нас в суровый и скорбный суд над тем милым прошлым, от которого родился в настоящем такой ужас, как убийство Шатова[54 - …убийство Шатова. – Эпизод из романа Достоевского «Бесы» (1871–1872).].
Горький принадлежит именно к тому типу писателей, у которых при появлении нового лица ждешь не подробностей, хочешь знать не что, а зачем. Читая его, думаешь не о действительности и прошлом, а об этике и будущем.
«На дне» – настоящая драма, только не совсем обычная, и Горький более скромно, чем правильно, назвал пьесу свою сценами. Перед нами развертывается нечто цельное и строго объединенное мыслью и настроением поэта.
В ночлежку, где скучилась подневольно сплоченная и странная семь приходит человек из другого мира. Его совершенно особая обаятельность вносит в медленное умирание «бывших людей» будто бы и живительную струю, но оглядываться на себя обитателям подполья опасно.
В результате приход Луки только на минуту ускоряет пульс замирающей жизни, но ни спасти, ни поднять он никого не может. Поддонное царство нагло торжествует: взамен двух убитых людей оно берет себе двух новых: Татарина и Клеща, которые дотоле еще крепились, не порывая связи с прошлым. Драма Горького имеет чисто социальный характер, – романическая история Пепла с Наташей только эпизод, искусно включенный автором в общую цепь.
Если хотите, любовь Василия к Наташе почти ни при чем даже в убийстве Костылева. Причина этого события лежит в Луке, который взбаламутил болотную стоячую воду. Нервный Пепел – это только тот шальной камень, который метнуло вверх из нового водоворота, а Костылев – та жаба, которая думала до конца дней своих спокойно купаться в тинистых водах, внезапно забурливших и грозных, хотя бы на минуту и для одной только старой жабы.
Самое Дно Горького, как элемент трагедии, не представляет никакой новости. Это старинная судьба, та ?????????, которая когда-то вырвала глаза Эдипу и задушила Дездемону, – только теперь она оказывается довольно начитанной художницей du nouveau genre[55 - В новом роде (фр.).], и на ее палитре мелькают не виданные дотоле краски вырождения, порочной наследственности и железных законов рынка.
Опустившись на дно, конечно, в безопасном колоколе, – дама эта оказалась гораздо речистее, чем была она, живя над нашими головами, когда она лишь на минуту являла миру свои тяжкие и красные когти.
Прежде судьба выбирала себе царственные жертвы: ей нужны были то седина Лира, то лилии Корделии. Теперь она разглядела, что игра может быть не лишена пикантности и с экземплярами менее редкими, и ей стало довольно и каких-нибудь Клещей или Сатиных. Теперь она не брезгает для своего маленького дела даже самой будничной обстановкой, но зато теперь, совершенно оставив романтические эффекты и мир сверхчеловеческих страстей, она умеет прекрасно пользоваться для своих целей данными психопатологии и уголовной статистики.
Вместе с этой переменой в личине судьбы и самая драма потеряла у нас свой индивидуально-психологический характер. Подобно роману, она ищет почвы социальной. Драма должна была измениться уже по одному тому, что душа современного зрителя и читателя восприняла в себя более и научных идей, и общественных интересов, а главное, стала более чуткой к этическим вопросам и вообще более боязливой. Пришлось обновить и драматургические приемы.
Так, драгоценный остаток мифического периода – герой, человек божественной природы, избранник, любимая жертва рока, заменяется теперь типической группой, классовой разновидностью.
Интрига просто перестала нас интересовать, потому что стала банальной. Жизнь, которою мы обречены заменять драматизированный миф, тоже вносит в строение драмы большие поправки.
Эта жизнь теперь и пестра, и сложна, а главное, она стала не терпеть и перегородок, ни правильных нарастаний и падений изолированного действия, ни грубо ощутимой гармонии.
Цельность новой драмы устанавливается исключительно идеею автора, поэтически настроенная индивидуальность – вот единственное объединение пестрых жизненных впечатлений, вот та единственная власть, которую не может не признавать над собою драматизируемая поэтом жизнь.
Драматургия пьесы «На дне» имеет несколько характерных черт. В пьесе три главных элемента: 1) сила судьбы, 2) душа бывшего человека и 3) человек иного порядка, который своим появлением вызывает болезненное для бывших людей столкновение двух первых стихий и сильную реакцию со стороны судьбы. Центр действия не остается все время один и тот же, как в старых драмах, а постоянно перемещается: точнее, внимание наше последовательно захватывается минутным героем: сначала это Анна и Клещ, потом Лука, Пепел, Василиса, Настя, Барон, Наташа, Затин, Бубнов и наконец Актер. Личные драмы то тлеют, то вспыхивают из-под пепла, а по временам огни их очень затейливо сплетаются друг с другом.
Строго говоря, в драме Горького нет ни обычного начала, ни традиционной развязки. Пьеса похожа на степную реку, которая незаметно рождается где-то в болоте, чтобы замереть в песке. Но вчитайтесь внимательнее в начальную и последнюю сцену, и вы увидите, что «На дне» вовсе не какая-то серая полоса с блестками, которую бог знает зачем выкроили из действительности и расцветили, а что это настоящее художественное произведение.
Начало – это пробуждение ночлежки. Только что сейчас вот этот старик с длинной косматой бородой poivre et sel[56 - С проседью (фр.).] был, как все, как мы с вами, потому что он спал. Но проснулся и сразу становится бывшим человеком.
Вся ночлежка точно родится в момент поднятия занавеса. Ночь давала ее обитателям непререкаемую иллюзию, ночью, во время сна, самое существование этого ада являлось будто химерой.
Вот и Актер. В полусне он носится со своим алкоголизмом, как с патентом на общественное внимание, это для него последние актерские лавры: да, и он как все, он даже важнее других, хотя и потерял имя, он важнее прочих, потому что у него организм отравлен алкоголем, а все эти бродяги даже не понимают, что это такое значит. У Насти, может быть, горела всю ночь керосинка, и она упивалась «Роковой любовью»[57 - «Роковая любовь» – роман немецкого писателя Эрнста фон Вильденбруха (18451900); в переводе на русский язык был издан «Новым журналом иностранной литературы» (СПб., 1901).]. С другой стороны, в Анне с рассветом пробуждается надежда еще пожить: она теперь не одна, ей не дадут умереть. Словом, что может быть естественнее и драматичнее начала новой трагедии судьбы? Конец в пьесе тоже удивительный. Если хотите, это примирение души бывшего человека с судьбой. Судьба берет, конечно, свое: мстя бывшему человеку за бунт, она приобщает к своим жертвам три новеньких: во-первых, Клеща, который с этого дня не будет уже говорить о честном труде и откажется от своей спеси, привыкая к чарочке и жуликам; во-вторых. Татарина, который сегодня должен получить из когтей этой судьбы пламенное крещение в алкоголе, чтобы мало-помалу забыть и Коран, и далекую татарку, «которая закон помнит». Третья жертва – комическая, это развенчанный властитель – Медведев, который сменил сегодня свисток будочника на женину кофту, становясь таким образом тоже бывшим человеком.
Примирение взбунтовавшейся души с судьбой скрепляется и своеобразной тризной: погибает в петле самый слабый, самый доверчивый и самый бестолковый из бывших людей – Актер. Над гладкой зыбью успокоившейся заводи остается только поэзия, эта живучая тварь, которая не разбирает ни стойла, ни пойла, ни старых, ни малых, ни крестин, ни похорон. Формы ее бесконечно разнообразны. Теперь она повисла над мертвой зыбью желтым туманом острожной песни. Чем же не занавес для финала современной пьесы?
Я говорил выше о несколько мистическом характере судьбы, которая делает людей бывшими; Горький хорошо показал, что он об этом думает, в одном из своих последних рассказов[58 - «В сочельник», – в книге рассказов и стихов, изд. Куркина, в Москве, с. 29 сл.].
Речь идет о некоем податном инспекторе Гончарове, которому как-то под праздник стало особенно скучно и моторно в своей семейке и обстановочке, и о том, как этого барина, в шубе и с деньжонками, без всякой видимой причины потянуло к босякам. Отыскав подходящую парочку людей, которые показались ему достаточно оборванными и жуликоватыми, Гончаров начинает, как ему, верно, кажется, ницшеанствовать и говорит бродягам о своем душевном томлении. Вот часть этого разговора:
– Вы, впрочем, жулики, и вам это не понятно.
– Я понимаю, в чем дело! – сказал я инспектору.
– Ты? Ты кто? – спросил он меня.
– Я тоже бывший порядочный человек, – сказал я. – Я тоже испытал прелести безмятежного и мирного жития. И меня выжимали из жизни ее мелочи. Они выжали, вытеснили меня и душу, и все, что в ней было… Я тосковал, как вы теперь, и запил, и спился… имею честь представиться!
Инспектор вытаращил на меня глаза и долго в угрюмом молчании любовался мною. Его толстые красные губы, я видел, брезгливо вздрагивали под пушистыми усами, и нос сморщился совсем не лестно для меня.
– Подай мне шубу.
Вот все, что имел еще духу крикнуть злополучный романтик босячества. Но не без трагического злорадства Горький пишет далее:
Посмотрел я на его вытянувшееся лицо и ничего более не сказал. Каждому скоту уготован судьбой хлев по природе его, и сколько бы скот ни лягался, – на месте, уготованном ему, он будет… «хе-хе-хе»!
Впрочем, фатум босяков вовсе не написан на их лицах, как у героев Марлинского[59 - Марлинский – псевдоним Бестужева Александра Александровича (1797–1837) – декабриста, писателя. Анненский имеет в виду героев Марлинского, окруженных ореолом тайны и наделенных большими страстями.]. Все дело в том, что Горький умеет, заглянув даже в нашу филистерскую душу, открыть в ней порою черты босячьей психологии. Но зачем же, однако, написал Максим Горький свое «На дне»? Неужто чтобы пугать Гончаровых? Или, может быть, чтоб банкиры в смокингах смотрели на баронов и думали из своих лож: «Боже, благодарю тебя за то, что я не как этот мытарь»? Неужто наконец нас, вскормленных пером Достоевского, надо еще учить жалеть людей? Или Горький хотел усилить в людях чувство отдаленной и общей ответственности, как превосходно сделал это недавно в своем очерке «Не страшное» В. Г. Короленко[60 - …«Не страшное» В. Г. Короленко… – Рассказ «Не страшное» опубликован в «Русском богатстве» (1903, э 2).]? Нет и нет. Горький – Горький. Он не моралист, как Короленко, и не будет он бездушными перстами, как кто-нибудь из его собратьев, подвинчивать в наших сердцах струны и канифолить смычок, чтобы потом играть на этих струнах шопеновские ноктюрны.
«Так не велишь бояться людей?» И вот Никита начинает свое искупление.
«Творите мужское дело», – так говорил некогда Владимир Мономах, поучая своих детей. Та же мысль о дерзании и мужестве, которые даже больше нужны для жизни, чем чтобы с нею покончить, мелькает и в чадных словах унтера. Это – тоже замаскированная речь Толстого. В чьей деятельности было более дерзания? Чей анализ был глубже и бесстрашнее? – Но не будем закрывать глаз и на цену этого мужества и дерзания. Сквозь Митрича я вижу не ересиарха, я вижу и не реалиста-художника. Я вижу одно глубокое отчаяние. Вот она, черная бездна провала, поглотившая все наши иллюзии: и героя, и науку, и музыку… и будущее… и, страшно сказать, что еще поглотившая…
Драма на дне
Я не видел пьесы Горького. Вероятно, ее играли превосходно. Я готов поверить, что реалистичность, тонкость и нервность ее исполнения заполнят новую страницу в истории русской сцены, но для моей сегодняшней цели, может быть, лучше даже, что я могу пользоваться текстом Горького без театрального комментария, без навязанных и ярких, но деспотически ограничивающих концепцию поэта сценических иллюзий.
Я думаю, что в наши дни вообще коллизия между поэзией и сценой все чаще становится неизбежной. На сцене вместе с развитием реалистичности растет и объективность изображения.
Театр дает все более простора творческой индивидуальности каждого артиста, и при этом школа и традиция, которые раньше условно объединяли и ограничивали эти индивидуальности, уходят куда-то все далее от наших подмостков. Между тем поэзия становится все индивидуальнее и сосредоточеннее. Поэт в наши дни проявляется свободно и полно, но проявления его личности становятся чересчур прихотливыми, особенно ввиду того, что усложнилась не только его натура, но и жизнь вокруг нее. Границы между реальным и фантастическим для поэта не только утоньшились, но местами стали вовсе призрачными. Истина и желания нередко сливают для него свои цвета. Жизнь кажется мистической и декорация живой.
И вот сцена вместо одной сложной индивидуальности поэта дает в лучшем случае целую гамму их, и эти индивидуальности, ограничивая друг друга, сводят свободную игру творческой мысли к иллюзорной реальности.
Если слово как внушающий символ всегда резко отличалось от слова как интонации и жеста и поэзия как высшее и нераздельное проявление индивидуальности от поэзии отраженной, комбинаторной и лицедействующей, то в наши дни это различие стало приобретать иногда почти болезненный оттенок.
Мне лично мешали бы, я знаю, вглядываться в интересную ткань поэтической концепции Горького: весь этот нестройный гул жизни, недоговоренные реплики, хлопанье дверей, мельканье мокрых подолов, свист напилка, плач ребенка, – словом, все, что неизбежно в жизни и что, может быть, составляет торжество сценического искусства, но что мешает думать и в театре, как в действительности.
А между тем, чтоб оценить пьесу Горького и ею наслаждаться, над ней надо пристально думать, потому что создавшая ее индивидуальность сложна и проявляется очень прихотливо.
Непосредственного впечатления пьеса не дает; пока уяснишь себе ее внутреннюю идейную стройность, которая то на минуту осветится, то снова гаснет, – читателю все время кажется, то будто он блуждает по лабиринту, то будто он никак не выпутается из цепких противоречий.
После Достоевского Горький, по-моему, самый резко выраженный русский символист. Его реалистичность совсем не та, что была у Гончарова, Писемского или Островского. Глядя на его картины, вспоминаешь слова автора «Подростка», который говорил когда-то, что в иные минуты самая будничная обстановка кажется ему сном или иллюзией[49 - …вспоминаешь слова автора «Подростка», который говорил когда-то, что… самая будничная обстановка кажется ему сном или иллюзией. – См.: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: „А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото“ а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1975, т. 13, с. 113). Ср. также со стихотворением Анненского «Петербург».]. Он испытывал это, например, гнилым, желтым, осенним утром на петербургских улицах.
Один театральный критик, по-моему, очень хорошо сказал о персонажах Горького, что они похожи на чертей[50 - Один театральный критик… сказал о персонажах Горького, что они похожи на чертей. – Источник ссылки установлен предположительно на основании аналогичной ссылки А. В. Амфитеатрова, который пишет: «А. С. Суворин открыл, что герои Горького-не люди, но черти» (Амфитеатров А. В. Собр. соч. СПб., т. 22, 1896, с. 147).]. Я понимаю, конечно, под этой метафорой не пресловутую демоничность новых литературных героев: речь может идти только о загадочности и своеобычности тех масок, за которыми мелькает душа поэта, о той дразнящей неуловимости контуров, которую как-то странно рядить в типические шаблоны театра.
Шулер, побитый за нечистую игру и одурманенный водкой, страстно, хотя и с надрывом, говорит об истинах, которые волнуют лучшие умы человечества. Старик, которого в жизни только мяли, выносит из своих тисков незлобивость и свежесть. Двадцатилетняя девушка, которая не видела в жизни ничего, кроме грязи и ужаса, сберегает сердце каким-то лилейно чистым и детски свободным. А Пепел, этот профессиональный вор, дитя острога и в то же время такой нервный, как женщина, стыдливый и даже мечтательный? Это внутреннее несоответствие людей их положению, эта жизнь, мыслимая поэтом как грязный налет на свободной человеческой душе, придает реализму Горького особо фантастический, а с другой стороны, удивительно русский колорит. Недаром в наших старых сказках носителем силы и удали нежданно-негаданно является какой-нибудь хроменький Потанюшка, а алмаз царевны отыскивают на осмеянном дураке, где-то на черной печке, завернутым в грязные тряпицы. Но Горький уже не Достоевский, для которого алмаз был бог, а человек мог быть случайным и скудельным сосудом божества; у Горького, по крайней мере для вида, – все для человека и все в человеке, там и царевнин алмаз. И если для Достоевского девизом было – смирись и дай говорить богу, то для Горького он звучит гордым: борись, и ты одолеешь мертвую стихию, если умеешь желать.
Перечитывая пьесу Горького, я убедился, что этот менее всего имел в виду дразнить душу своего читателя реальным изображением нищеты, падения и надрыва.
Вообще он не относится к тем бытописателям, которые стараются сблизить читателя с обстановкой изображаемых им лиц. Рисовать он, кажется, и никогда не любил, да и фантазия едва ли дает ему такие яркие отображения действительности, какими страдал, например, во время творчества Гончаров. Романы Горького скорее идейные эскизы, связанные настоятельностью проблемы, чем искусно скомпонованные истории человеческих сердец. Горький как-то странно расстается со своими героями – он то убивает их, то бросает совсем молодыми, когда бы еще впору было затеять роман. Его, кажется, не особенно интересуют «типические особи человека или занимательные эпизоды». К изображению его подводит не цепкая наблюдательность и не интерес к проблемам индивидуальной психологии, а идейные запросы его чуткой артистической природы.
Когда я читаю в двадцатый раз о гончаровском Захаре, или Флобер рассказывает мне о Пекюше[51 - Пекюше – герой неоконченного романа Гюстава Флобера (1821–1880) «Бювар и Пекюше» (опубл. в 1881 г.).] или Шарле Бовари, или Теккерей методически, не торопясь, развертывает передо мной летопись жизни Ребекки Шарп[52 - Ребекка Шарп – персонаж из романа Уильяма Теккерея (1811–1863) «Ярмарка тщеславия» (1847–1848).], я не спрашиваю зачем? Меня занимает прежде всего конкретный человек: мне хочется представить его себе до мелочей одежды, до звука голоса, я ищу вокруг ему подобных, мне даже кажется иногда, что я встречал и терял его в толпе или был с ним знаком. Когда я оставлю книгу, мне некоторое время скучно без нарисованного друга, хотя бы беллетрист рассказывал мне о самом неинтересном человеке в мире. Связь наша с миром Захаров и Шарлей Бовари или Пиквиков уходит куда-то глубоко, на самое дно бессознательной души, и, отличаясь большой прочностью, порою выжимает даже слезы.
Но возьмите, с другой стороны, какого-нибудь Степана Петровича Верховенского из «Бесов» Достоевского, когда этот старик осанисто козыряет с червей, когда он объясняется в любви, или фрондирует, или кается. Его французская речь и припадки холерины, его наивность, легкомыслие, – все это так прекрасно написано и так художественно скомпоновано, но не чувствуете ли вы, что есть нечто, мешающее вам отнестись к герою Достоевского, как к Обломову или Калиновичу[53 - Калинович – герой романа А. Ф. Писемского «Тысяча душ» (1858).]?
За Верховенским, как за Левиным, Познышевым, Иваном Карамазовым, вслед за появлением каждого из этих лиц вырастает нечто новое, что выше и значительнее их. За Верховенским, например, вы чувствуете душевную тревогу Достоевского, которая мало-помалу обращается для нас в суровый и скорбный суд над тем милым прошлым, от которого родился в настоящем такой ужас, как убийство Шатова[54 - …убийство Шатова. – Эпизод из романа Достоевского «Бесы» (1871–1872).].
Горький принадлежит именно к тому типу писателей, у которых при появлении нового лица ждешь не подробностей, хочешь знать не что, а зачем. Читая его, думаешь не о действительности и прошлом, а об этике и будущем.
«На дне» – настоящая драма, только не совсем обычная, и Горький более скромно, чем правильно, назвал пьесу свою сценами. Перед нами развертывается нечто цельное и строго объединенное мыслью и настроением поэта.
В ночлежку, где скучилась подневольно сплоченная и странная семь приходит человек из другого мира. Его совершенно особая обаятельность вносит в медленное умирание «бывших людей» будто бы и живительную струю, но оглядываться на себя обитателям подполья опасно.
В результате приход Луки только на минуту ускоряет пульс замирающей жизни, но ни спасти, ни поднять он никого не может. Поддонное царство нагло торжествует: взамен двух убитых людей оно берет себе двух новых: Татарина и Клеща, которые дотоле еще крепились, не порывая связи с прошлым. Драма Горького имеет чисто социальный характер, – романическая история Пепла с Наташей только эпизод, искусно включенный автором в общую цепь.
Если хотите, любовь Василия к Наташе почти ни при чем даже в убийстве Костылева. Причина этого события лежит в Луке, который взбаламутил болотную стоячую воду. Нервный Пепел – это только тот шальной камень, который метнуло вверх из нового водоворота, а Костылев – та жаба, которая думала до конца дней своих спокойно купаться в тинистых водах, внезапно забурливших и грозных, хотя бы на минуту и для одной только старой жабы.
Самое Дно Горького, как элемент трагедии, не представляет никакой новости. Это старинная судьба, та ?????????, которая когда-то вырвала глаза Эдипу и задушила Дездемону, – только теперь она оказывается довольно начитанной художницей du nouveau genre[55 - В новом роде (фр.).], и на ее палитре мелькают не виданные дотоле краски вырождения, порочной наследственности и железных законов рынка.
Опустившись на дно, конечно, в безопасном колоколе, – дама эта оказалась гораздо речистее, чем была она, живя над нашими головами, когда она лишь на минуту являла миру свои тяжкие и красные когти.
Прежде судьба выбирала себе царственные жертвы: ей нужны были то седина Лира, то лилии Корделии. Теперь она разглядела, что игра может быть не лишена пикантности и с экземплярами менее редкими, и ей стало довольно и каких-нибудь Клещей или Сатиных. Теперь она не брезгает для своего маленького дела даже самой будничной обстановкой, но зато теперь, совершенно оставив романтические эффекты и мир сверхчеловеческих страстей, она умеет прекрасно пользоваться для своих целей данными психопатологии и уголовной статистики.
Вместе с этой переменой в личине судьбы и самая драма потеряла у нас свой индивидуально-психологический характер. Подобно роману, она ищет почвы социальной. Драма должна была измениться уже по одному тому, что душа современного зрителя и читателя восприняла в себя более и научных идей, и общественных интересов, а главное, стала более чуткой к этическим вопросам и вообще более боязливой. Пришлось обновить и драматургические приемы.
Так, драгоценный остаток мифического периода – герой, человек божественной природы, избранник, любимая жертва рока, заменяется теперь типической группой, классовой разновидностью.
Интрига просто перестала нас интересовать, потому что стала банальной. Жизнь, которою мы обречены заменять драматизированный миф, тоже вносит в строение драмы большие поправки.
Эта жизнь теперь и пестра, и сложна, а главное, она стала не терпеть и перегородок, ни правильных нарастаний и падений изолированного действия, ни грубо ощутимой гармонии.
Цельность новой драмы устанавливается исключительно идеею автора, поэтически настроенная индивидуальность – вот единственное объединение пестрых жизненных впечатлений, вот та единственная власть, которую не может не признавать над собою драматизируемая поэтом жизнь.
Драматургия пьесы «На дне» имеет несколько характерных черт. В пьесе три главных элемента: 1) сила судьбы, 2) душа бывшего человека и 3) человек иного порядка, который своим появлением вызывает болезненное для бывших людей столкновение двух первых стихий и сильную реакцию со стороны судьбы. Центр действия не остается все время один и тот же, как в старых драмах, а постоянно перемещается: точнее, внимание наше последовательно захватывается минутным героем: сначала это Анна и Клещ, потом Лука, Пепел, Василиса, Настя, Барон, Наташа, Затин, Бубнов и наконец Актер. Личные драмы то тлеют, то вспыхивают из-под пепла, а по временам огни их очень затейливо сплетаются друг с другом.
Строго говоря, в драме Горького нет ни обычного начала, ни традиционной развязки. Пьеса похожа на степную реку, которая незаметно рождается где-то в болоте, чтобы замереть в песке. Но вчитайтесь внимательнее в начальную и последнюю сцену, и вы увидите, что «На дне» вовсе не какая-то серая полоса с блестками, которую бог знает зачем выкроили из действительности и расцветили, а что это настоящее художественное произведение.
Начало – это пробуждение ночлежки. Только что сейчас вот этот старик с длинной косматой бородой poivre et sel[56 - С проседью (фр.).] был, как все, как мы с вами, потому что он спал. Но проснулся и сразу становится бывшим человеком.
Вся ночлежка точно родится в момент поднятия занавеса. Ночь давала ее обитателям непререкаемую иллюзию, ночью, во время сна, самое существование этого ада являлось будто химерой.
Вот и Актер. В полусне он носится со своим алкоголизмом, как с патентом на общественное внимание, это для него последние актерские лавры: да, и он как все, он даже важнее других, хотя и потерял имя, он важнее прочих, потому что у него организм отравлен алкоголем, а все эти бродяги даже не понимают, что это такое значит. У Насти, может быть, горела всю ночь керосинка, и она упивалась «Роковой любовью»[57 - «Роковая любовь» – роман немецкого писателя Эрнста фон Вильденбруха (18451900); в переводе на русский язык был издан «Новым журналом иностранной литературы» (СПб., 1901).]. С другой стороны, в Анне с рассветом пробуждается надежда еще пожить: она теперь не одна, ей не дадут умереть. Словом, что может быть естественнее и драматичнее начала новой трагедии судьбы? Конец в пьесе тоже удивительный. Если хотите, это примирение души бывшего человека с судьбой. Судьба берет, конечно, свое: мстя бывшему человеку за бунт, она приобщает к своим жертвам три новеньких: во-первых, Клеща, который с этого дня не будет уже говорить о честном труде и откажется от своей спеси, привыкая к чарочке и жуликам; во-вторых. Татарина, который сегодня должен получить из когтей этой судьбы пламенное крещение в алкоголе, чтобы мало-помалу забыть и Коран, и далекую татарку, «которая закон помнит». Третья жертва – комическая, это развенчанный властитель – Медведев, который сменил сегодня свисток будочника на женину кофту, становясь таким образом тоже бывшим человеком.
Примирение взбунтовавшейся души с судьбой скрепляется и своеобразной тризной: погибает в петле самый слабый, самый доверчивый и самый бестолковый из бывших людей – Актер. Над гладкой зыбью успокоившейся заводи остается только поэзия, эта живучая тварь, которая не разбирает ни стойла, ни пойла, ни старых, ни малых, ни крестин, ни похорон. Формы ее бесконечно разнообразны. Теперь она повисла над мертвой зыбью желтым туманом острожной песни. Чем же не занавес для финала современной пьесы?
Я говорил выше о несколько мистическом характере судьбы, которая делает людей бывшими; Горький хорошо показал, что он об этом думает, в одном из своих последних рассказов[58 - «В сочельник», – в книге рассказов и стихов, изд. Куркина, в Москве, с. 29 сл.].
Речь идет о некоем податном инспекторе Гончарове, которому как-то под праздник стало особенно скучно и моторно в своей семейке и обстановочке, и о том, как этого барина, в шубе и с деньжонками, без всякой видимой причины потянуло к босякам. Отыскав подходящую парочку людей, которые показались ему достаточно оборванными и жуликоватыми, Гончаров начинает, как ему, верно, кажется, ницшеанствовать и говорит бродягам о своем душевном томлении. Вот часть этого разговора:
– Вы, впрочем, жулики, и вам это не понятно.
– Я понимаю, в чем дело! – сказал я инспектору.
– Ты? Ты кто? – спросил он меня.
– Я тоже бывший порядочный человек, – сказал я. – Я тоже испытал прелести безмятежного и мирного жития. И меня выжимали из жизни ее мелочи. Они выжали, вытеснили меня и душу, и все, что в ней было… Я тосковал, как вы теперь, и запил, и спился… имею честь представиться!
Инспектор вытаращил на меня глаза и долго в угрюмом молчании любовался мною. Его толстые красные губы, я видел, брезгливо вздрагивали под пушистыми усами, и нос сморщился совсем не лестно для меня.
– Подай мне шубу.
Вот все, что имел еще духу крикнуть злополучный романтик босячества. Но не без трагического злорадства Горький пишет далее:
Посмотрел я на его вытянувшееся лицо и ничего более не сказал. Каждому скоту уготован судьбой хлев по природе его, и сколько бы скот ни лягался, – на месте, уготованном ему, он будет… «хе-хе-хе»!
Впрочем, фатум босяков вовсе не написан на их лицах, как у героев Марлинского[59 - Марлинский – псевдоним Бестужева Александра Александровича (1797–1837) – декабриста, писателя. Анненский имеет в виду героев Марлинского, окруженных ореолом тайны и наделенных большими страстями.]. Все дело в том, что Горький умеет, заглянув даже в нашу филистерскую душу, открыть в ней порою черты босячьей психологии. Но зачем же, однако, написал Максим Горький свое «На дне»? Неужто чтобы пугать Гончаровых? Или, может быть, чтоб банкиры в смокингах смотрели на баронов и думали из своих лож: «Боже, благодарю тебя за то, что я не как этот мытарь»? Неужто наконец нас, вскормленных пером Достоевского, надо еще учить жалеть людей? Или Горький хотел усилить в людях чувство отдаленной и общей ответственности, как превосходно сделал это недавно в своем очерке «Не страшное» В. Г. Короленко[60 - …«Не страшное» В. Г. Короленко… – Рассказ «Не страшное» опубликован в «Русском богатстве» (1903, э 2).]? Нет и нет. Горький – Горький. Он не моралист, как Короленко, и не будет он бездушными перстами, как кто-нибудь из его собратьев, подвинчивать в наших сердцах струны и канифолить смычок, чтобы потом играть на этих струнах шопеновские ноктюрны.