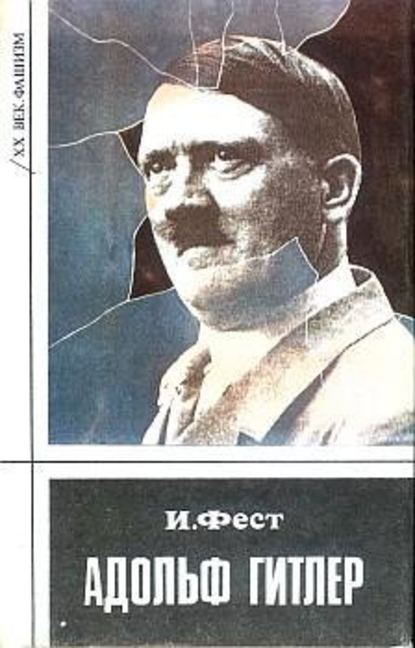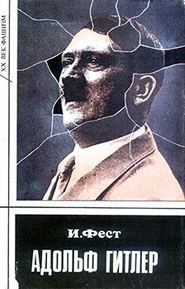По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Адольф Гитлер (Том 2)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако остроумное замечание о несостоявшейся немецкой революции – это только половина правды. Ибо нация, память которой не знает ни казнённых королей, ни победоносных народных восстаний, больше любой другой способствовала революционной мобилизации мира. Она дал так называемому веку революций самые провокационные озарения, самые острые революционные лозунги и, как высокопарно выражался Фихте, разметала скалы мыслей, из которых следующие века возвели себе жилища. Интеллектуальный радикализм Германии не знает себе подобных, и именно эта неповторимость придала немецкому духу величие и характерный блеск. Но что касается действительности, то тут имела место полная неспособность к прагматическому типу поведения, в котором примирились бы друг с другом мышление и жизнь, а разум стал бы разумным. Немецкий дух мало заботился об этом. Он был в буквальном смысле слова асоциален и никогда не стоял ни слева, ни справа, но преимущественно в прославляемом противоречии с жизнью: дух безоговорочный и концентрированный, всегда в позиции «не могу иначе», с почти апокалипсической «тягой к интеллектуальной пропасти»[362 - Mann Th. Denken und Leben, GW, Bd. 11. S. 246.], на краю которой виделась не столько банальная действительность людей, сколько погибали целые эпохи в грозе, губившей миры. Господи, Бог мой – что этому духу было до жизни!
И всё же это типичное разграничение между спекулятивным и политическим уровнями все ещё имело характер эрзац-действия: радикальность идеи одновременно прикрывала бессилие воли. Замечание Гегеля о том, что мышление стало силой, направленной против существующей действительности, было задумано как триумф, но одновременно и утешение. Не только столетняя дилемма затхлого немецкого мирка с его тяжёлой жизнью и провинциальностью подвигала мысль на полёты в свободные просторы, но и та долго игнорируемая роль, на которую мысль была обречена бездуховностью или франкоманией княжеского правления. От самых неудобоваримых текстов начала XIX века до поверхностного политического журнализма 20-х годов – во всём чувствуется, хоть и во вторичных, книжных или просто жалких проявлениях – что-то от того характерного основного движения духа, который «предоставил эпоху самой себе», чтобы строить идеальное внутреннее царство, которое безмятежно противопоставляло себя внешнему. Никогда ему не удавалось скрыть жажду отмщения, жившую в радикальности его суждений. Это было тонкое ощущение мести по отношению к реальности, считавшей, что она не нуждается в духе, и поэтому теперь посрамлённой духом.
Процесс отчуждения от действительности ещё усилился вследствие многочисленных разочарований, пережитых бюргерским сознанием в XIX веке в ходе его попыток достичь политической свободы, и следы этого процесса заметны почти на всех уровнях: в фиктивности политической мысли, в мифологизирующих идеологиях от Винкельмана до Вагнера или же в странно оторванном от реальности немецком представлении об образовании, решительно избравшем для себя призрачную стихию искусства и всего возвышенного. Политика лежала в стороне от этого пути, она не была частью национальной культуры.
Общественный тип, в котором сконцентрировались эти тенденции, представлял немецкую суть настолько точно, что до сего дня сохранил высочайший социальный престиж: это те далёкие от мира сего, погруженные в размышления господа на старинных портретах, в профессиональной мине которых так много идеальной строгости, верности принципам и задумчивой выразительности, люди, чьё простодушие было не без глубин. Они мыслили обширными категориями, низвергали или создавали системы, их взгляд шёл издалека. В то же время они излучали флюиды интимной и тесной домашности, явный запах приватного образа жизни. «Книги и мечты» были, как говорил Пауль де Лагард[363 - Lagarde P. Ausgewaehlte Schriften. Hrsg. von Fischer P. Muenchen, 1934, S. 34.], их стихией, они жили в своей придуманной действительности, их гениальная изобретательность с лихвой компенсировала им недостаток реальной действительности, их уверенность проистекала из их интеллектуальной профессии и свидетельствовала о довольстве культурой и собственным вкладом в неё.
Презрению к действительности соответствовало все яснее проступавшее пренебрежительное отношение к политике, так как она была действительностью в самом строгом, навязчивом смысле: пошлый элемент, «господство неполноценных», как это было сформулировано в заглавии знаменитой книги 20-х годов[364 - «Господство неполноценных» – название содержащей резкую критику демократии книги Э. Юнга, который, будучи сотрудником Папена, стал позднее жертвой расправ, учинённых 30 июня 1934 года.]. И сегодня ещё политическая мысль в Германии сохранила нечто от той торжественной тональности, с помощью которой она, по собственному мнению, морально и интеллектуально поднимается над низкой действительностью. За этим всегда – и раньше, и теперь – стояла потребность в идеальной, «аполитичной политике», потребность, отражавшая подавленность как следствие постоянного политического бессилия. Если отвлечься от небольшого и постоянно попадающего в изоляцию меньшинства, то общественность в Германии относилась к политике как к чужеродному телу и не знала, что с ней делать; политика оставалась предметом старательно выказываемого интереса, самопринуждения и даже, согласно широко распространённому мнению, самоотчуждения. Мир немцев ориентировался на частные, приватные понятия, цели и добродетели. Никакие социальные обещания не могли сравниться с завлекающим пафосом частного мира, семейного счастья, умилением природой, лихорадкой научного познания в тиши кабинета – со всей этой сферой вполне обозримых форм удовлетворённости своим существованием. Никто эту сферу и не собирался покидать, если тайну лесов предстояло поменять только на «шум ярмарки», а вместо свободы грёз предлагались только конституционные права.
И это чувство в свою очередь радикализировалось. «Человек политики противен», – писал Рихард Вагнер Ференцу Листу, а один из почитателей Вагнера заметил: «Если Вагнер в какой-то степени был выразителем своего народа, если он в чём-то был немцем, гуманным по-немецки, немецким бюргером в высшем и самом чистом смысле, то это – в своей ненависти к политике»[365 - Mann Th. Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 113. Письмо Вагнера Ф. Листу опубликовано в кн.: Nitsche R. Der haessliche Buerger. Guetersloh, 1969, S. 158.]. Аффект аполитичности охотно рядился в одежды защитника морали от власти, человечного от социального, духа от политики, и из этих антитез во все новых, глубокомысленных и полемических рассуждениях вырастали излюбленные темы бюргерских саморефлексий. Своей блестящей кульминации, полной сложных признаний, этот аффект достигает в изданном в 1918 году произведении Томаса Манна «Наблюдения аполитичного». Они были задуманы как защита гордого своей культурой немецкого бюргерства от просветительского, западного «террора политики» и содержали уже в самом названии указание на романтическую цель, сознательно игнорирующую действительность: на традиционный поиск аполитичной политики.
Эстетически-интеллектуальное неприятие политики, ставшее содержанием все более обширной, запутанной учёной литературы, нашло своё крайнее выражение в своеобразном представлении о спасении от политики, которое с середины XIX века стало необычайно популярным – в мысли о спасении искусством. Эта мысль вобрала в себя все несбывшиеся надежды, все разочарования нации. Как намёк, она возникала ещё в романтизме с его постулатом тесного взаимопроникновения политики и поэзии; Шопенгауэр, говоривший об избавлении идеи от трагических перипетий жизненной борьбы прежде всего с помощью музыки, придал этой мысли субъективную окраску, и у Рихарда Вагнера она, наконец, достигла своего высочайшего развития в рассуждениях об обновлённом театре, изложенных в его «Грёзах культуры о „конце политики“ и начале человечности»[366 - Mann Th. Op. cit. S. 115; затем прежде всего: Wagner R. Kunst und Revolution, Ges. Schriften, Bd. HI, S. 194; см. в этой связи также: Gutmann R. Op. cit. S. 148 ff., 309, Stern F. Op. cit. S. 154, 166, 172.]. Политика, требовал он, должна стать грандиозным зрелищем, государство – произведением искусства, а человек искусства должен занять место государственного деятеля; искусство было тайной, его храмом – Байрейт, а его святыней – драгоценная чаша арийской крови, исцелившая умирающего Амфортаса и погубившая под развалинами фантастического замка волшебника Клингсора, это воплощение противостоящих сил еврейства, политики и сексуальности. Пожалуй, с не меньшим успехом, чем у Вагнера, Юлиус Лангбен в конце столетия провозгласил Рембрандта символом жажды обновления. Искусство, подчёркивал он, должно вернуть заплутавшему миру простоту, естественность и интуицию, устранить торговлю и технику, примирить друг с другом классы, объединить народ и привнести утерянное единство в наконец-то замиренный мир: ибо искусство – великий победитель. Конечной целью объявлялось устранение любой политики и её обратное превращение в экстаз, власть, харизму, гениальность. Самым последовательным образом он оставляет право на господство в желанном новом веке благословенному свыше гению, своему «великому герою искусства», «отдельной личности цезаристско-артистического склада».[367 - Stern F. Op. cit. S. 181 ff; см. кроме того: Klemperer К. v. Op. cit. S. 167 ff.]
Все эти мотивы сыграли свою роль в том попятном движении, которым немцы сильнее, чем прежде, реагировали на политику, столкнувшись с ней во время и после войны болезненно, как никогда. Традиционный путь бегства вёл их в области эстетики или мифологии. В отвращении к «грязной» революции неприятие политики чувствовалось не меньше, чем в разнообразных теориях заговора, омрачивших горизонт веймарских лет: например, в легенде об «ударе кинжалом в спину» или в теории двойной угрозы – со стороны красного (коммунистического) и золотого (капиталистического) интернационала, в антисемитизме или в распространённых страхах перед масонами и иезуитами, словом, в самых разных симптомах бегства от действительности в воображаемый, фиктивный мир, полный таких романтических категорий как измена, одиночество и обманутое величие.
Соответствующее политическое мышление тоже было во власти аполитичных образов и категорий, всякого рода идеологий – войны как переживания, «молодых народов», «тотальной мобилизации» или «варварского цезаризма». Это был почти необозримый поток национально-утопических проектов и модных философий так называемой «консервативной революции»; и все они так или иначе видели свою цель в том, чтобы, перефразируя слова Фихте, натянуть на мир мундир иррационализма. Усилиям, предпринимаемым в политической действительности ради достижения какого-то. равновесного положения, они противопоставляли свои безоговорочные лозунги и судили повседневность от имени грандиозных мифов. Хоть и не оказывая прямого влияния, они своими вносящими сумятицу романтическими альтернативами в немалой мере способствовали интеллектуальному истощению республики, тем более, что «отвращение к политике» больше чем когда-либо разжигалось ненавистной действительностью. В то время как защитники Веймарской республики часто производили впечатление апологетов коррумпированной, безнадёжной системы и были не в состоянии преодолеть пропасть между собственным пафосом и всем и каждому видимым неблагополучием, противники республики, особенно правые, казались исполненными воображения, были полны проектов и создавали из мифов, грёз и капли горечи контробраз республики. Среди их самых презрительных упрёков в адрес «системы» был тот, что она приучает нацию к «мелкому счастью», потребительству и мелкобуржуазному эпикурейству[368 - Смысл критики демократии Игнацио Силоне см.: Silone I. Die Kunst der Diktatur, S. 171.]. Категориями же этого времени, обладающими привлекательной силой, были приключение, трагизм, гибель, и если Карл Осецкий видел среди интеллектуалов страны многочисленных «бескорыстных любителей всевозможных катастроф, гурманов всемирно-политических несчастий», один французский наблюдатель в начале 30-х годов задавался вопросом, не вкладывает ли Германия в «свой кризис слишком много страсти и радикализма»[369 - Vienot P. Ungewisses Deutschland. Frankfurt/M., 1931, S. 93.]. И в самом деле, старая «тяга к интеллектуальной пропасти» тоже частично ответственна за то, что кризис в Германии приобрёл совершенно безвыходный, отчаянный характер; это и сделало потребность к бегству от действительности массовым явлением, а идею романтически-героического прыжка в неизвестность – самой близкой и привычной.
Феномен Гитлера следует рассматривать на этом идеологическом фоне. Иногда он даже производит впечатление вульгарного искусственного продукта всех этих взглядов, реакций и комплексов, впечатление комбинации мифологического и рационального мышления в крайнем радикализме социально отчуждённого интеллектуала. В его речах появлялись почти все известные риторические фигуры аполитичного аффекта: ненависть к партиям, к компромиссному характеру «системы», отсутствие у неё «величия»; он всегда рассматривал политику как понятие, близкое к понятию судьбы, т. е. нечто само по себе пассивное и потому нуждающееся в освобождении сильной личностью, через искусство или с помощью некоей высшей силы, обозначаемой как «провидение». В одном из своих главных выступлении периода захвата власти, прозвучавшем 21-го марта по случаю Дня Потсдама, он так сформулировал связь между политическим бессилием, мечтами как эрзацем силы и избавлением через искусство:
«Немец, рассорившийся сам с собой, непоследовательный в мыслях, с расщеплённой волей и потому бессильный в действии, теряет силу в утверждении собственной жизни. Он мечтает о праве на звёздах и теряет почву под ногами на земле… В конечном итоге немцам всегда оставался только путь внутрь себя. Будучи народом певцов, поэтов и мыслителей, немцы мечтали тогда о мире, в котором жили другие, и только когда нужда и лишения наносили этому народу бесчеловечную травму, тогда, может быть, на почве искусства произросло желание нового подъёма, нового царства, а значит и новой жизни».[370 - Domarus M. Op. cit. S. 226 f.]
Он считал себя именно такой фигурой спасителя, раз уж он в своё время расстался с мечтами об искусстве. В контексте духовной традиции он, несомненно, ощущал большую близость к «великому герою искусства», о котором писал Лангбен, чем, например, к Бисмарку, которым он, судя по разным его высказываниям, восхищался не столько как политиком, сколько как эстетическим феноменом великого человека[371 - См. примечание 392 к кн. второй (т. 1).]. Для Гитлера политика тоже означала прежде всего средство достичь величия, ни с чем не сравнимый шанс компенсации недостаточного художественного таланта в грандиозной замещающей роли. Все, чем он располагал как политик, он выучил или усвоил как временную роль; что касается его импульсивных озарений, то тут он был полностью в плену мистического, эстетического, чуждого действительности, т. е. аполитичного мышления. Он проливал слезы над произведениями искусства, свидетелем чего стал один из его современников[372 - Свидетельство Карла Герделера согласно стенограмме, сделанной Рихардом Брайтингом, см.: Calic Op. cit. S. 171; затем: Hoffmann H. Op. cit. S. 188.], но «humanities»[373 - Гуманитарные науки – Англ.] были ему, по словам его окружения, безразличны. Убедительное доказательство тому – неофициальные документы его жизни, ранние выступления, а также застольные беседы в его штаб-квартире. Возможно, что редко какая-либо похвала доставила ему большее удовольствие, чем замечание X. Ст. Чемберлена в письме от октября 1923 года, где он был назван «противоположностью политики»; Чемберлен добавлял: «Идеалом политики было бы отсутствие всякой политики; но эту не-политику, следует признать откровенно, пришлось бы навязывать миру»[374 - См.: IUustrierter Beobachter, 1926, Nr. 2, S. 6.]. В этом смысле у Гитлера действительно не было политики, её место занимала великая суггестивная идея судьбы, и осуществление этой идеи он с максимальным упорством сделал целью своей жизни.
Вальтер Беньямин назвал фашизм «эстетизацией политики», и фашизм захватил немцев – народ, чьё понимание политики всегда было пронизано эстетикой, – с особой стремительностью. Одна из причин крушения Веймарской республики заключалась в том, что, не понимая психологии немцев, она не видела в политике ничего, кроме политики.
Только Гитлер путём беспрерывного затуманивания сути дела, театральных эффектов, экстаза и сутолоки вокруг создания нового идолопоклонства вернул общественным делам издавна привычный образ. Их самым выразительным символом стали «огненные соборы» – стены из волшебства и света, отделяющие от мрачного, угрожающего внешнего мира. Даже если немцы и не разделяли голод Гитлера по пространству, его антисемитизм, присущие ему черты вульгарности и грубости, они поддержали его и пошли за ним, потому что он снова привнёс в политику мощное звучание темы судьбы, смешанное с элементом страха и трепета.
В соответствии с идеологией аполитичного «государства красоты» Гитлер не отделял своих представлений художника от представлений политика, а свой режим охотно восхвалял как наконец-то состоявшееся примирение искусства с политикой[375 - Speer A. Op. cit. S. 134.]. Он считал, что идёт по стопам Перикла, и любил проводить соответствующие параллели; по свидетельству Альберта Шпеера автобаны были для него его Парфеноном[376 - Из записки Шпеера для автора; об отклонении кандидатур Гесса и Гиммлера в качестве преемников см.: Speer A. Op. cit. S. 152.]. Совершенно всерьёз он заявлял, что «как люди, которым недоступно наслаждение искусством», ни рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, ни Рудольф Гесс по сути своей не способны стать в будущем его преемниками. Зато Шпеер сумел забраться так высоко и иногда даже считался предрешённым преемником фюрера не в последнюю очередь потому, что по мнению Гитлера был «человеком, понимающим искусство», «артистом», «гением». Характерно, что в начале войны Гитлер освободил от военной службы людей искусства, но не учёных и техников. Даже когда ему демонстрировали новый вид оружия, он редко не обращал внимания на его эстетическое оформление и мог, например, похвалить «элегантность» орудийного ствола. Вне искусства для него не было ничего, и даже полководец, говаривал он, может одерживать победы, только будучи человеком с художественным вкусом[377 - Ziegler H. S. Op. cit. S. 75; Speer A. Op. cit. S. 249. Научно-технические работники были освобождены от воинской службы в 1942 году по инициативе Шпеера; проблему освобождения от воинской повинности творческих работников Гитлер решил, как сообщил автору Шпеер, приказав взять их дела из управлений военно-призывных районов и тут же уничтожить.]. Поэтому после победы над Францией он предпочёл посетить Париж не как завоеватель, а скорее как любитель музеев. По этим же причинам он довольно рано, а со временем все раздражительнее стал тосковать по прошлым годам: «Я стал политиком поневоле», – так или почти так говорил он снова и снова, «политика для меня – только средство для достижения цели. Есть люди, думающие, что мне станет очень трудно, если я когда-нибудь прекращу свою теперешнюю деятельность. Нет! Это будет самый прекрасный день моей жизни, если я уйду из политической жизни и оставлю далеко позади все заботы, муки и неприятности… Войны приходят и проходят. Остаются только культурные ценности». Ханс Франк видел в таких настроениях даже тенденцию эпохи, заключающуюся в том, чтобы «снова изгнать все, что связано с государствами, войной, политикой и т. д., и суметь поставить над этим высокий идеал творения искусства»[378 - Frank H. Friedrich Nietzsche, цит. по: Klessmann Ch. Op. cit. S. 256, Hitlers Tischgespraeche, S. 167 f.; Speer A. Op. cit. S. 38.]. Примечательно в этой связи, что в национал-социалистической верхушке была непропорционально высока доля людей, не сумевших стать людьми искусства, не состоявшихся в творчестве. Сюда кроме самого Гитлера можно отнести Дитриха Эккарта; Геббельс безуспешно пытался писать романы, Розенберг начинал как архитектор, фон Ширах и Ханс Франк пописывали когда-то стихи, а Функ был музыкантом. Сюда же относится и Шпеер с его тягой к аполитичной изоляции, а также вообще тот тип интеллигента, мыслящего одновременно расплывчато и непреклонно, который, испытывая эстетскую слабость к государственным переворотам, сопровождал и поощрял подъем национал-социализма.
Искажение понятия действительности у социально отчуждённых интеллектуалов позже наложило отпечаток и на весь мир идей Гитлера. Многие современники констатировали его склонность во время разговора забираться «в высшие сферы», из которых его снова и снова приходилось «стаскивать на почву фактов», как писал один из них[379 - Таково одно из высказываний Шляйхера, см.: Conze W. Zum Sturz Bruenings. In: VJHfZ, 1953, H. 2, S. 261 ff. Hitlers Tischgespraeche, S. 167 f.; Speer A. Op. cit. S. 38.]. Примечательно, что Гитлер любил предаваться своим смутным размышлениям в Оберзальцберге или же в «Орлином гнезде», которое он приказал соорудить выше «Бергхофа» на Кельштайне, на высоте 2 тыс. метров. Здесь, в разреженном воздухе, в роковых декорациях окружающих скал, он обдумывал свои проекты и, как он однажды заметил, принимал все свои важнейшие решения[380 - См.: Hillgruber A. Hitlers Strategic S. 216.]. Но фантастические мечты о гигантской империи вплоть до Урала, геополитические замыслы в масштабах великих пространств и передела миров, генетические видения массового истребления целых народов и рас, грёзы о сверхчеловеке и фантасмагории на тему чистоты крови и святого Грааля, да и, наконец, вся эта задуманная в масштабах континента система шоссейных дорог, военных сооружений и укреплённых поселений – все это, по сути, отнюдь не было «немецким», а брало своё начало из близких или очень отдалённых источников. Немецкой тут была только интеллектуальная, непомерная логика и последовательность, с которой он в мыслях складывал эту мозаику, и немецким же был несгибаемый ригоризм, не отступающий ни перед какими последствиями. Жёсткость Гитлера была связана несомненно с предпосылками, заложенными в его чудовищном характере; в его радикальности тоже всегда присутствовал элемент экстремизма и бесшабашности маргинала. Но помимо прочего она демонстрировала ту аполитичную, враждебную действительности позицию по отношению к миру, которая принадлежит к духовным традициям страны. В точке схода немецкой истории он находится не из-за своих расистских концепций или экспансионистских целей, но как один из тех интеллектуалов, которые будучи исполнены веры в теории, высокомерно подчиняли реальность собственным категорическим принципам. От ему подобных Гитлера отличала способность занять политическую позицию: он был исключением, интеллектуалом с практическим пониманием власти. В текстах его предшественников, вплоть до массовой макулатуры, вышедшей из-под пера «фелькише», нетрудно найти постулаты и порадикальней, чем у Гитлера. И в немецкой, и в европейской культуре есть гораздо более яркие свидетельства страха перед настоящим и эстетствующего отрицания действительности. Так, Маринетти жаждал избавления от «подлой действительности» и в Манифесте 1920 года потребовал предоставить «всю власть людям искусства» (так брошюра и называлась), ибо власть должна принадлежать «широко понимаемому пролетариату гениев». Но и эти, и им подобные выступления только упоённо кокетничают бессилием интеллектуалов и наслаждаются им. Характерно, что Маринетти свои заклинания против действительности обращал к «мстящему морю»[381 - Цит. по: Joll J. Three Intellectuals in Politics, P. 135, 174.]. Здесь Гитлер опять-таки был исключением – в силу своей готовности принимать собственные интеллектуальные фикции за чистую монету и только что не питаться фразами, рождёнными вековой экзальтацией мысли.
Тут он был единственным в своём роде. Если тиран Писистрат захватил афинян врасплох на пиру, то о Гитлере и немцах этого не скажешь. Как и все остальные, они могли бы быть настороже, так как Гитлер многократно излагал свои намерения открыто, без всякой интеллектуальной сдержанности. Но традиционное разделение придуманной и социальной реальности уже давно создало представление о том, что слова не стоят ничего, а его слова казались и вовсе дешёвкой. Только этим можно объяснить ту сугубо неверную оценку Гитлера, которая одновременно была и неверной оценкой этого времени. Рудольф Брайтшайд, председатель фракции СДПГ в рейхстаге, окончивший свои дни в концентрационном лагере Бухенвальд, радостно зааплодировал, узнав о назначении Гитлера рейхсканцлером, и сказал, что наконец-то Гитлер сам себя погубит. Другие, произведя предварительные расчёты, полагали, что Гитлер всегда будет в меньшинстве и ни за что не получит большинства в две трети, необходимого для изменения конституции. Юлиус Лебер, другой ведущий социал-демократ, снисходительно заметил, что подобно всем остальным хотел бы, наконец, что-либо «узнать о духовной базе этого движения».[382 - Как заявляет Герхард Риттер, большинству немцев мысль о том, что они оказались в руках бессовестного авантюриста, показалась бы «прямо-таки гротескной». См.: Ritter G. Carl Goerdeler, S. 109. Мнение Рудольфа Брайтшайда передаёт Фабиан фон Шлабрендорф: Schlabrendorff F. V. Offiziere gegen Hitler, S. 12; об отсутствии духовной базы Юлиус Лебер писал в одной из своих дневниковых записей, см.: Leber J. Ein Mann geht seinen Weg. Berlin, 1952, S. 123 f. Многие социал-демократы втайне надеялись, что Гитлер очень быстро начнёт конфликтовать с Папеном и Гинденбургом, так что они смогут появиться на сцене в качестве радующегося третьего «и тут-то мы и сведём с ними счёты, не то что в 1918 году», – пригрозил бывший статс-секретарь Пруссии Абегг в беседе с графом Кеслером, как говорится в «Дневниках» последнего, см.: Kessler H. Tagebuecher, S. 708.]
Кажется, никто не понимал, кем Гитлер был на самом деле. Только географическая отдалённость сделала кое-кого проницательней. Правда, ожидаемых санкций заграницы не последовало – столицы, не меньше самой Германии попавшие в сеть ослепления, надежд на укрощение и слабость, готовились к соглашениям и пактам будущих лет. И всё же отдельные тревожные предчувствия высказывались, хотя и в них проскальзывала странная зачарованность. Так, немецкий наблюдатель в Париже отмечал, что французы испытывают «такое чувство, словно в непосредственной близости от них началось извержение вулкана, которое в любой день может опустошить их поля и города и за малейшими движениями которого они следят поэтому с изумлением и страхом. Явление природы, перед которым они почти бессильны. Германия ныне – снова международная звезда первой величины, притягивающая к себе внимание масс в каждой газете, в каждом кинотеатре и вызывающая страх и непонимание, смешанные с невольным восхищением, не лишённым, однако, доли злорадства; великая трагическая, жуткая, опасная страна-авантюрист».[383 - Kessler H., Graf, Op. cit. S. 684 f.]
Почти ни одна из идей, под знаком которых страна пустилась в свою авантюру, не принадлежала ей одной; но немецкой была та бесчеловечная серьёзность, с которой она отринула своё существование в области воображения. Описанные здесь тенденции и аффекты, усиленные уже нестерпимой напряжённостью между многовековой революционной мыслью и статичностью общественных отношений, придали этому выступлению небывалый вес и экстремистский характер запоздалой реакции: немецкий гром, наконец, достиг цели. В его раскатах потонула отчаянная попытка отрицания реальности под знаком ретроспективной утопии.
Однако отрицание действительности во имя радикально идеализированных представлений довольно трудно подавить; оно имеет дело со стихией фантазии и дерзостью мысли. Политическая проблематика тут налицо. Но тем, что такое он был, немецкий дух не в последнюю очередь обязан своей позицией отказа от реальности, и вопреки бытующему мнению, не все его развитие тупо ведёт только к Освенциму.
Книга пятая
Захват власти
Глава I
Легальная революция
Это не было победой, ибо отсутствовали противники.
Освальд Шпенглер, 1933 г.
Первые шаги. – Перед генералами. – Преемственность целей. – Концепция захвата власти. – Первые чрезвычайные распоряжения. – И опять предвыборная борьба. – Перед предпринимателями. – Пожар рейхстага. – Основной закон «третьего рейха». – Выборы 5 марта. – Революция, устроенная СА. – «Национальное восстание». – День Потсдама. – Закон о чрезвычайных полномочиях. – Самоотречение Гинденбурга. – Революция на открытой сцене. – Бесславные закаты. – Внутреннее расставание с Веймарской республикой.
В ходе продолжавшегося всего лишь несколько месяцев бурного процесса Гитлер не только завоевал власть, но и добился осуществления части своих далеко идущих революционных планов. Комментарии, касающиеся его прихода к власти, носили сплошь пренебрежительный характер: Гитлера если и не называли «пленником» Гугенберга – по своеобразному совпадению такие иллюзии разделял целый спектр сил – от центра до СДПГ и коммунистов, то оценивали его шансы невысоко, полагая, что продержится он недолго[384 - «Пусть перебесится» – сказал фон Нойрат, который сам был членом кабинета Гитлера; см.: Rauschning Н. Gespraeche, S. 141.]. Однако все скептические прогнозы, которые предрекали крушение Гитлера в силу мощи консервативных партнёров по коалиции, Гинденбурга и рейхсвера, сопротивления масс, в особенности левых партий и профсоюзов, многочисленности и тяжести экономических проблем, вмешательства заграницы или же, наконец, его собственного, ставшего очевидным дилетантства – все они были опровергнуты впечатляющим процессом захвата власти, который вряд ли имеет себе аналог в истории. Да, ход событий отнюдь не был так тонко рассчитан в деталях, как это порой представляется в исторической ретроспективе, но тем не менее каждый момент Гитлер имел перед глазами одну цель: взять всю власть в свои руки до ожидавшейся смерти восьмидесятипятилетнего президента страны, и он знал, какая тактика необходима для этого: модифицированная страхом и чувством неуверенности практика легальных действий, которую он так успешно опробовал в предшествующие годы. Средством ему служил атакующий динамизм, который удар за ударом прорывал одну за другой позиции противника, не давая возможности обескураженным силам последнего, пытавшимся оказать сопротивление, сформироваться; в то время как ему на руку играли случайности, появлявшиеся возможности и всякий раз краешек плаща Провидения, орудием которого он себя провозглашал, и этот уголок плаща он учился схватывать все более уверенно.
Уже 2 февраля Гитлер посвятил заседание кабинета главным образом подготовке новых выборов, согласие на которые он выжал незадолго до приведения к присяге 30 января из сопротивлявшегося Гугенберга и необходимость которых он затем лицемерно оправдывал быстрым провалом проводившихся для видимости переговоров с партией Центра. Доступ ко всем государственным средствам давал не только возможность выправить положение, сложившееся после поражения в ноябре, но и с первых же шагов выйти из-под контроля партнёра – Немецкой национальной народной партии. Хотя предложение Фрика предоставить правительству миллион марок на предвыборную борьбу было отклонено после возражения министра финансов Шверина фон Крозига, чтобы совершить тот «шедевр агитации», который предсказывал Геббельс в одной из своих дневниковых записей, без таких подпорок можно было и обойтись, имея за спиной государственную власть.[385 - Goebbels J. Kaiserhof, S. 256.]
Как это отвечало склонности Гитлера фиксировать внимание на одном вопросе, с этого момента все мысли, каждый тактический ход были поставлены на службу широкой кампании подготовки к назначенным 5 марта выборам. Он сам дал сигнал её начала «Воззванием к немецкому народу», с которым выступил по радио поздно вечером 1 февраля. Гитлер как нельзя быстро вжился в свою новую роль и ту манеру поведения, которой она требовала. Хотя присутствовавший при зачтении воззвания Яльмар Шахт мог наблюдать возбуждение Гитлера и то, как он в отдельные моменты «дрожал и дёргался всем телом»[386 - Schacht H. Abrechnung mit Hitler, S. 31; само «Воззвание» опубликовано в кн. Domarus M. Op. cit. S. 191 ff.], сам документ, предварительно представленный на одобрение всем членам кабинета, был выдержан в ровном тоне заявления государственного мужа. Он соединял в себе критику прошлого и разрыв с ним с патетическими заверениями в преданности национальным, консервативным и христианским ценностям: с дней предательства в ноябре 1918 года, начал Гитлер выступление: «Всевышний лишил наш народ своего благословения». Грызня между кучей партий, ненависть и хаос подменили единство нации «клубком политико-эгоистических противоречий», Германия являет собой «картину разобщённости, при виде которой сердце обливается кровью». Вынося обобщающие вердикты прошлому, он клеймил внутренний разлад, а также нищету, голод, утрату собственного достоинства и катастрофы последних лет и рисовал страшную картину конца двухтысячелетней культуры под широким натиском штурма опирающегося на «волю и насилие» коммунизма:
«Эта способная лишь на отрицание, всеразрушающая идея не пощадила ничего – начиная с семьи и всех понятий чести и верности, народа и Отечества, культуры и хозяйства вплоть до вечных основ нашей морали и нашей веры. 14 лет марксизма разорили Германию. Один год большевизма Германию бы уничтожил. Районы, относящиеся сегодня к самым богатым и прекрасным культурным областям мира, были бы повергнуты в хаос и превратились бы в руины. Даже страдания последних полутора десятилетий нельзя было бы сравнить с бедствиями Европы, в центре которой взвился бы красный флаг уничтожения».
В качестве задачи нового правительства Гитлер назвал восстановление «единства духа и воли нашего народа», он обещал взять под защиту «христианство как основу всей нашей морали, семью как основную ячейку нашего народного и государственного организма», преодолеть классовую борьбу и вернуть традициям подобающее им почётное место. Восстановление экономики должно было быть обеспечено при помощи двух широкомасштабных четырехлетних планов, принцип которых он вновь заимствовал у своих противников – марксистов, загранице было твёрдо указано на жизненные права Германии, но в тоже время её успокаивали смягчающими тон фразами о наличии воли к примирению. За четыре года, – завершал Гитлер своё обращение, – его правительство постарается «загладить вину 14 лет», правда, при этом, прежде чем благоговейно просить благословения у Бога, он ясно дал понять, что правительство отбросит в сторону все конституционные контрольные механизмы: «Оно не может просить одобрения на восстановительный труд у тех, кто виновен в развале. У партий, приверженных марксизму, и их попутчиков было 14 лет, чтобы доказать на что они способны. Результат налицо – груда развалин…»
Тактическую сдержанность, которую несмотря на все угрожающие революционные нотки всё-таки в целом сохраняло это воззвание, Гитлер отбросил, когда он всего лишь двумя днями позже имел беседу в служебной квартире командующего сухопутными войсками генерала фон Хаммерштайна с верхушкой рейхсвера. Примечательная быстрота, с которой он стремился провести эту встречу, несмотря на множество требовавших его неотложного участия дел, была связана не только с ключевой позицией военных в его концепции завоевания власти – в упоении и на волне подъёма тех дней ему, несмотря на всю скрытность, не терпелось посвятить в свои грандиозные планы новых людей. Вряд ли что-либо так ясно подчёркивает это нетерпение, как тот факт, что Гитлер раскрыл перед командующими свою самую сокровенную, центральную идею.[387 - См. в этой связи: Kluke P. Nationalsozialistische Europaideologie. In: VJHfZ, H. 3, S. 244. П. Клуке придерживается той точки зрения, что поведение Гитлера «объяснялось лишь чувством триумфа непосредственно в час окончательного захвата власти»; см. затем также: Gisevius Н. В. Adolf Hitler, S. 175.Полный текст этого выступления не сохранился, однако имеется несколько подробных и взаимодополняющих свидетельств участников встречи. См., напр., записи Хорста фон Меллентина, бывшего в то время вторым адъютантом фон Хаммерштайна: Mellenthin H. Zeugenschrifttum des IfZ Muenchen, Nr. 105, S. 1 ff.; ему же принадлежит и цитируемое в следующем абзаце описание этой встречи; см., кроме того, сделанные во время выступления записи генерала Либмана среди документов, собранных Тило Фогельзангом: Vogelsang Th. VJHfZ, 1954, Н. 2, S. 434 f., a также показания Редера в Нюрнберге: IMT, Bd. XIV, S. 28; правда, Редер утверждает, что «ни о каких военных намерениях, воинственных намерениях и речи не было». Однако другие свидетельства противоречат этому. И утверждение Редера, будто высказывания Гитлера «были с удовлетворением» восприняты всеми слушателями, также оспаривается многими, например, генералом фон дём Буше. См. также: Hammerstein К. v. Spaehtrupp, S. 64. Гитлер сам якобы заявил Бломбергу, что это выступление было «одной из его самых трудных речей, поскольку он всё время говорил, словно обращаясь к стене»; см.: Foertsch H. Schuld und Verhaengnis, S. 33.]
Хаммерштайн, как описывает один из участников встречи, «несколько покровительственно», свысока, представил «господина рейхсканцлера», фаланга генералов с холодной вежливостью поприветствовала его, Гитлер скромно, угловато со всеми раскланялся и пребывал в состоянии смущения до тех пор, пока после трапезы он не получил за столом возможность для продолжительного выступления. Гитлер обещал вермахту как единственному носителю оружия в стране главное развитие, а в начале своей почти двухчасовой речи он, как и в дюссельдорфском клубе промышленников коснулся мысли о примате внутренней политики: самая первоочередная цель нового правительства – вновь сосредоточить власть в своих руках посредством «полного преобразования нынешних внутриполитических условий», не останавливающегося ни перед чем искоренения марксизма и пацифизма, а также создания широкой готовности к борьбе и обороне за счёт «жёсткого авторитарного государственного руководства»; только последнее даёт гарантию возможности сперва начать борьбу с Версалем при помощи осторожно действующей внешней политики, чтобы затем, собрав силы, перейти к «завоеванию нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадной германизации». Непреложную необходимость экспансии, он между тем, обосновывал не только геостратегическими аргументами и требованием обеспечить страну продовольствием, но и ссылкой на экономический кризис: и его причина, и его решение заключаются-де в «жизненном пространстве». При анализе положения ему представляются проблематичными только годы скрытого военно-политического восстановления, в этот период станет видно, имеются ли во Франции государственные деятели: «Если да, она не даст нам времени, а нападёт на нас, вероятно, с восточными сателлитами», – записал один из участников встречи.
В этом выступлении примечательно не только то, что оно с новой стороны высветило построенную на идее насилия структуру мышления Гитлера: буквально каждое явление он воспринимал лишь как дополнительное подтверждение уже давно закрепившихся в уме идей, хотя и при этом настолько неверно оценивал сущность явлений – как в случае с экономическим кризисом, что это напоминало прямо-таки гротеск; и, по-прежнему, единственным решением, вообще понятным ему, было насилие. Рассуждения в этой речи одновременно свидетельствуют о преемственности мира идей Гитлера и опровергают все теории, согласно которым влияние лёгшей на его плечи ответственности сделало его более умеренным, а позже (обычно называют 1938 год), когда он впал в старые агрессивные комплексы ненависти или же, как утверждает другая версия, оказался под воздействием новой системы маниакальных идей, его сущность изменилась.
Гитлеровская концепция завоевания власти, которая несмотря на все заимствования из апробированной практики большевистских и прежде всего фашистских государственных переворотов относится к числу действительно самостоятельно разработанных, оригинальных элементов его взлёта, все ещё остаётся по своему сценарию классической моделью тоталитарного преодоления демократических институтов изнутри, т. е. при помощи государственной власти, а не в схватке с ней. Он с незаурядной находчивостью, не стеснённой в выборе средств, пускал в ход методы последних месяцев, приспосабливая их к новому положению. В продуманном взаимодействии с коричневыми вспомогательными формированиями все новые дерзкие революционные акции так сочетались с юридически санкционированными актами, что возникала, если брать каждый отдельный случай, хотя часто сомнительная, но в целом убедительная кулиса легальности, прикрывавшая противозаконность режима. В ту же линию вписывалось и то, что во многом сохранялись старые институциональные фасады: тем беспрепятственнее можно было в их тени осуществлять глубинное преобразование всех отношений – пока люди безнадёжно запутывались в своих оценках законности или незаконности системы, необходимости лояльности или сопротивления; парадоксальное понятие легальной революции – это было нечто гораздо «большее, чем пропагандистский приём», его значение для успеха процесса захвата власти невозможно переоценить[388 - Так считает К. Д. Брахер, см.: Bracher К. D. Diktatur, S. 210.]. Гитлер сам объяснял позже, что Германия в то время хотела порядка, в силу чего ему пришлось отказаться от открытого применения силы; в один из последних дней жизни, когда его охватывали настроения отчаяния, он, подводя итог ошибок и упущений прошлого, возлагал на любовь немцев к порядку, их манию законопослушания и глубокое неприятие хаоса, которые придали нерешительный характер уже революции 1918 года, сорвали и его акцию у «Фельдхеррнхалле», ответственность за всю половинчатость, компромиссы и роковой отказ от внезапной кровавой расправы: «Иначе тогда были бы ликвидированы тысячи… Только потом начинаешь жалеть, что был таким добрым».[389 - См. последнее застенографированное обсуждение обстановки 27 апреля 1945 года: Der Spiegel, 10.01.1966. Геббельс добавил – и это весьма примечательно, – что и в 1938 году, в ходе аншлюсса Австрии, «было бы лучше, если бы Вена оказала сопротивление, и мы смогли бы все разделать под орех». Затем: Hitlers Tischgespraeche, S. 364, 366.]
В тот же момент тактика лавинообразно развёртывающейся революции, прикрытой атрибутами легальности, представлялась, однако, чрезвычайно успешной. По сути дела, всё было предопределено уже в течение февраля тремя декретами, законность которых, как казалось, в равной степени обеспечивали буржуазные авторитеты, находившиеся рядом с Гитлером, подпись Гинденбурга и сопровождавший все это туман национальных лозунгов. Уже 4 февраля вышел декрет «О защите немецкого народа», который предоставлял правительству права запрещать политические мероприятия, газеты и печатные издания конкурирующих партий на самых неопределённых основаниях. Тут же последовали драконовские меры, направленные против отличающихся политических воззрений любого направления, был прерван даже вскоре после его начала конгресс левых интеллектуалов и деятелей искусств в опере Кролля из-за якобы атеистических высказываний. Двумя днями позже, следующим чрезвычайным декретом, своего рода вторым государственным переворотом, был распущен прусский ландтаг, после того, как соответствующая попытка добиться этого парламентским путём потерпела провал. Спустя ещё два дня Гитлер обосновал перед ведущими немецкими журналистами чрезвычайный декрет от 4 февраля, обратив при этом их внимание на ошибочные суждения газет о Рихарде Вагнере и заявив, что «хочет уберечь нынешнюю печать от подобных промахов». Одновременно он пригрозил самыми решительными мерами тем, «кто сознательно хочет вредить Германии»[390 - Domarus M. Op. cit. S. 202 f, S. 200.]. В комплексе маловразумительных сообщений, эффектно скомпонованных с угрозами и актами насилия, скупо поступали сведения о Гитлере как о человеке. 5 февраля бюро НСДАП по связям с печатью известило, что Адольф Гитлер, «который очень привязан к Мюнхену», сохраняет там свою квартиру и что он, между прочим, отказался от оклада рейхсканцлера.
Тем временем национал-социалисты глубоко проникают в управленческий аппарат. При распределении ролей актёров легальной революции Герингу, чья дородность придавала ей столь жизнелюбивый оттенок, досталась задача не знающего удержу неистового преобразователя. Хотя новый чрезвычайный декрет передавал все правительственные полномочия в Пруссии Папену, реальная власть была у Геринга. Пока вице-канцлер надеялся на свою «воспитательную работу внутри кабинета»[391 - Papen F. v. Op. cit. S. 294.], соратник Гитлера направил в прусское МВД несколько так называемых почётных комиссаров, таких, как оберфюрер СС Курт Далюге, которые тут же закрепились в крупнейшем управленческом ведомстве Германии и стали, проводя обширную перетряску кадров, отдавать распоряжения об увольнениях и назначениях новых людей, так что, как говорилось в свидетельстве очевидца, «чинуши старой системы вылетали штабелями. Эта беспощадная чистка затронула всех – от оберпрезидента до вахмистра».[392 - Gritzbach E. Herman Goering. Werk und Mensch, S. 31; см. также: Horkenbach С Op. cit. S. 66. Некоторое представление о размахе этих мер даёт тот факт, что, например, из 32 полковников охранной полиции были уволены 22. «Сотни офицеров и тысячи вахмистров разделили ту же участь в последующие месяцы. Привлекались новые силы, и повсюду эти силы черпались из огромного резервуара С А и СС», – так писал Геринг, см.: Aufbau einer Nation, S. 84.]
Особое внимание Геринга было направлено на управления полиции, руководство которых он за короткое время укомплектовал командирами СА высокого ранга. 17 февраля он обязал полицию своим приказом «установить отношения наилучшего взаимодействия с национальными формированиями (СА, СС, „Стальной шлем“), а в отношении же левых „применять в случае необходимости оружие без малейших колебаний“: „Каждая пуля, – так предельно откровенно он подтвердил это распоряжение в произнесённой позже речи, – которая будет выпущена из ствола полицейского пистолета, выпущена мной. Если это называть убийством, то считайте, что это убийство совершил я, все это приказано мною, это я беру на себя“. Из невзрачного второразрядного ведомства в берлинском управлении полиции, которое занималось надзором за антиконституционными действиями, начало формироваться гестапо (государственная тайная полиция), аппарат которого уже четырьмя годами позже имел бюджет в сорок раз больше прежнего и располагал только в Берлине четырьмя тысячами чиновников[393 - Bracher К. D. Machtergreifung, S. 73; затем: Crankshaw E. Die Gestapo, S. 35 ff., где даётся картина этого роста. Высказывание Геринга см.: Aufbau einer Nation, S. 86 f.]. 22 февраля «для разгрузки линейных подразделений полиции при особых ситуациях» Геринг отдал распоряжение об образовании насчитывающей около 50 тысяч вспомогательной полиции, прежде всего за счёт личного состава СА и СС, открыто покончив с фикцией нейтральной полиции и заменив её выполнением функций террора в интересах одной партии. Белая повязка на рукаве, резиновая дубинка и пистолет отныне делали законными дикие аресты и произвол партийной армии, возводя их в ранг правомочных действий на службе государству. «Мои меры, – заверял Геринг в одном из своих заявлений тех дней, в которых витает дух упоения насилием, – не будут страдать боязнью нарушить в чём-то юридические нормы. Мои меры не будут страдать болезнью какой-либо бюрократии. Моё дело здесь – не блюсти справедливость, а уничтожать и истреблять – и баста».[394 - Из выступления на митинге НСДАП во Франкфурте-на-Майне 3. 03. 1933 г.: Goering H. Reden und Aufsaetze. Muenchen, 1930, S. 27.]
Тем самым объявлялась война прежде всего коммунистам, которые были не только принципиальными противниками, но и определяли формирование большинства в будущем рейхстаге. Уже спустя три дня после создания правительства Геринг запретил в Пруссии все митинги коммунистов, после того как КПГ призвала к всеобщей забастовке и демонстрациям. Тихая гражданская война тем не менее продолжалась, только в первые дни февраля в результате столкновений пятнадцать человек погибло и примерно в десять раз больше было ранено. 24 февраля полиция в ходе рассчитанной на внешний эффект акции захватила здание ЦК КПГ, дом Карла Либкнехта на Бюловплац в Берлине, которое, правда, руководство компартии давно покинуло. И уже на следующий день печать и радио сообщали о сенсационной находке «многих сотен центнеров материала, свидетельствовавшего о замышлявшейся государственной измене», что позволило снабдить национал-социалистических агитаторов написанными леденящими душу красками жуткими картинами коммунистической революции. Сам материал, правда никогда не был опубликован: «террористические акты против отдельных вождей народа и руководителей государства, выведение из строя жизненно важных предприятий и публичных зданий, отравление целых групп лиц, которых они особенно боялись, захват заложников, жён и детей выдающихся деятелей должны были запугать народ, приведя его в ужас», – говорилось в докладе полиции. Тем не менее КПГ не запрещали, чтобы не толкнуть её избирателей в объятия СДПГ.
Тем временем национал-социалисты взвинтили свои пропагандистские мероприятия до самой шумной и безудержной предвыборной борьбы тех лет. Гитлер, который опять был самым мощным фактором воздействия на людей, лично открыл кампанию большой речью в берлинском Дворце спорта, которая в обильном потоке слов повторяла старые проклятья четырнадцати годам позора и нищеты, старые идеи непримиримости к ноябрьским преступникам и партиям прежней системы, равно как и старые формулы спасения страны и заканчивалась пламенной парафразой «Отче наш»: он, кричал Гитлер, «непоколебимо убеждён в том, что настанет час, когда миллионы тех, кто нас ненавидит, встанут за нами и вместе с нами будут приветствовать сообща созданный, завоёванный в тяжелейшей борьбе, выстраданный нами новый германский рейх Величия и Чести, Мощи, Великолепия и Справедливости. Аминь!»[395 - Domarus M. Op. cit. S. 208.] Опять в ход были пущены все технические средства, на это раз уже с опорой на престиж государства и его поддержку, страну захватил пароксизм воззваний, опять Гитлер летал по всей Германии; разработанный Геббельсом план предусматривал как можно более широкое использование радио, «которое наши противники не умели применить с толком, – писал шеф пропаганды, – тем лучше должны освоить работу с ним мы». Выступления Гитлера во всех городах должны были транслироваться передвижными радиостанциями: «Мы будем осуществлять трансляцию непосредственно из толщи народа, давая слушателю яркую картину происходящего на наших собраниях. Я сам буду предварять каждую речь фюрера вступлением, в котором я постараюсь донести до слушателя магию и атмосферу наших массовых митингов».[396 - Goebbels J. Kaiserhof, S. 256 f.]
Значительная часть средств для предвыборной кампании была собрана благодаря мероприятию, на которое Геринг пригласил 20 февраля во дворец рейхспрезидента ведущих промышленников. Среди участников встречи – их было около двадцати пяти – находились Яльмар Шахт, Крупп фон Болен, Альберт Феглер из «Ферайнигте Штальверке», Георг фон Шницлер из концерна «ИГ Фарбениндустри», Курт фон Шрёдер, представители тяжёлой, горной промышленности и банков. В своей речи Гитлер опять подробно проанализировал антагонизм между авторитарной предпринимательской идеологией и тем демократическим строем, который он с издёвкой назвал политической организацией слабости и упадка, он превозносил жёстко организованное идеологизированное государство как единственную возможность устоять перед лицом коммунистической угрозы и превозносил право отдельной великой личности. Он более не желает, продолжал Гитлер, зависеть от терпимости партии Центра, от поддержки Гугенберга и дойч-националов, и он должен сперва завоевать всю власть, чтобы окончательно раздавить противника. Словами, в которых не было и тени стремления оставаться в рамках легальности, он призвал своих слушателей к финансовым пожертвованиям: «Сейчас мы стоим накануне последних выборов. Каким бы ни был их итог, назад пути больше нет… Так или иначе, если положение не разрешится при помощи выборов, то развязка произойдёт другим путём». В заключение Геринг заявил, что запрашиваемые финансовые пожертвования «будут даны промышленностью тем легче, чем скорее она осознает, что выборы 5 марта наверняка будут последними в ближайшие десять лет, а возможно и на ближайшие сто лет». Затем Шахт обратился к собравшимся с возгласом «А теперь, господа, пора раскошеливаться!» и предложил создать «предвыборную кассу», в которую он за короткое время собрал среди ведущих промышленных компаний по меньшей мере три миллиона марок, а может быть и больше.[397 - О проведении и значении этого мероприятия стало известно лишь во время Нюрнбергского процесса; см. конкретные детали: IMT, Bd. XXXV, S. 42 if. А также: IMT, Bd. V, S. 497ff, затем: Bd. XXXVI, S. 520 ff.]
Гитлер в значительной степени отошёл от прежней сдержанности и в предвыборных речах. «Время интернационалистской болтовни и обещаний примирения народов кончилось, на смену ему пришло время немецкого народного сообщества», – воскликнул он в Касселе; в Штутгарте он обещал «выжечь калёным железом явления разложения и обезвредить яд»; он преисполнен решимости «ни в коем случае не допустить возврата Германии к прежним порядкам». Он тщательно избегал изложения каких бы то ни было программных позиций («мы не хотим лгать и мы не хотим жульничать… раздавая дешёвые обещания»), конкретно он формулировал только одно намерение – «никогда, никогда… не отступать от задачи истребить в Германии марксизм и сопутствующие ему явления»; «первый пункт» его программы – призыв к противникам «Похороните все иллюзии!» Через четыре года он будет держать ответ перед немецким народом, а не перед партиями, развалившими страну; вот тогда пусть будет судьёй народ – и никто иной, воскликнул он богохульно с надрывом, на который его в те дни часто толкала самооценка себя как мессии, «по мне, пусть народ меня распнёт, если он решит, что я не выполнил своего долга».[398 - См.: Domarus M. Op. cit. S. 214, 207, 209, 211; затем: Baynes N. Op. cit., Vol. I, p. 252, 238.]
Концепция легальной революции предусматривала расправу с противником не посредством открытого террора и мер запрета, а постоянной провокацией его на акты применения насилия, чтобы он сам создавал предлоги для законных мер подавления и их оправдания. Геббельс описал этот тактический метод уже в дневниковой записи от 31 января: «Пока мы хотим не прибегать к прямым контрмерам (против коммунистов). Пусть сперва вспыхнет пламя большевистской попытки осуществить революцию. А потом мы в подходящий момент нанесём удар»[399 - Goebbels J. Kaiserhof, S. 254.]. Это была старая гитлеровская идеальная революционная схема расстановки сил: его призывают на помощь как последнюю кандидатуру спасителя, к которой люди отчаянно рвутся всей душой, в кульминационный момент попытки коммунистического переворота, чтобы в драматической схватке уничтожить мощного врага, покончить с хаосом и обрести легитимность и уважение среди масс в качестве вызывающей ликование силы порядка. Поэтому уже на первом заседании кабинета 30 января он отклонил требование Гугенберга, не долго думая запретить компартию, забрать себе её депутатские мандаты и обеспечить таким образом себе большинство в рейхстаге, в силу чего новые выборы стали бы излишними.
Однако его мучило опасение, что коммунисты вообще не способны на широкомасштабную, энергичную акцию восстания. Он уже и до того порой высказывал сомнения в их революционной силе, такой же позиции, кстати, придерживался и Геббельс, который в начале 1932 года не видел в них опасности[400 - Ibid. S. 86, По поводу сомнений Гитлера в революционной силе марксизма см. его выступление на совещании объединения партийных руководителей Тюрингии в начале 1927 года: Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit., «Начало 1927 г.» S. 2. На фоне этих и подобных высказываний по разным поводам следует особое внимание обратить на бытующий ещё и поныне, особенно рьяно пропагандировавшийся именно Гитлером и Геббельсом аргумент, будто бы перед Германией стояла тогда неизбежная альтернатива: коммунизм или национал-социализм. Об упоминаемых выше слухах насчёт покушения см.: Goebbels J. Kaiserhof, S. 294.]. Действительно, потребовались известные пропагандистские усилия, чтобы стилизовать их образ под тот призрак, как это им самим хотелось бы в соответствии с их свидетельством о рождении[401 - Имеется в виду «Манифест Коммунистической партии». – Примеч. ред.]. Намёки на найденные в здании ЦК центнеры революционного материала служили этой установке, так же как и ходившие с середины февраля многочисленные, явно инспирированные самими национал-социалистами слухи о предстоящем покушении на Гитлера. Повисший в воздухе в 1918 году вопрос Розы Люксембург «Германский пролетариат – ну где же ты?» – остался и на этот раз без ответа. Хотя в первые недели февраля дело в ряде случаев доходило до уличных побоищ, они все же носили характер стычек явно местного характера, а никаких хотя бы самых призрачных свидетельств крупномасштабной, централизованно управляемой попытки восстания, благодаря которой можно было бы насаждать стимулирующие комплексы страха, не было. Причиной тому были не только депрессия и истощение энергии рабочих вообще, что, естественно, сильнее всего сказалось на коммунистах, но и доходившее прямо-таки до гротеска заблуждение их руководства в оценке исторической ситуации. Не обращая никакого внимания на преследования и мучения, на бегство многочисленных товарищей и массовый отток своих сторонников, коммунисты продолжали считать, что их основной противник – социал-демократия, что нет разницы между фашизмом и парламентской демократией, что Гитлер всего-навсего марионетка, что если он придёт к власти, то тем самым только приблизит власть коммунизма, а на нынешней стадии высшая революционная добродетель – терпение.
Эти тактические просчёты были, очевидно, отражением глубинного процесса смещения центров власти. Один из необычных моментов захвата власти состоял в том, что враг, существование которого было так долго в психологическом плане стимулом жизни национал-социализма, в решающей степени вдохновляло его и позволило вырасти в могучую силу, в момент решающей схватки не вышел на арену. Ещё недавно представлявший собой мощно действующую угрозу, наводивший ужас на буржуазию многомиллионный отряд сторонников коммунистов вдруг испарился – без какого-либо признака сопротивления, действия, сигнала. Если верно, что о фашизме нельзя говорить, не рассуждая как о капитализме, так и о коммунизме[402 - См. в этой связи: Nolte E. Kapitalismus – Marxismus – Paschismus. In: Merkur, 1973, H. 2, S. Ill ff.], то теперь после окончания одной связи исторически перестала существовать и другая: с этого момента фашизм уже не был ни инструментом, ни отрицанием, ни зеркальным отражением; в дни захвата власти он пережил как бы вступление во власть на основании своих собственных прав. В Германии коммунизм так больше и не появился на сцене в качестве провоцирующей контрсилы до самого конца фашизма.
На этом фоне надо рассматривать драматический, по сути дела уже закрепивший захват власти Гитлером пожар рейхстага 27 февраля 1933 года, этот фон определяет и многолетнюю дискуссию об ответственности за него. Коммунисты постоянно горячо отрицали какую-либо причастность к поджогу, и действительно, у них для этого не было никакого мотива; партия со сломленной волей к самоутверждению не могла подать такой грандиозный сигнал к переходу в наступление. Ответственность национал-социалистов можно было убедительно обосновать как раз потому, что пожар так превосходно вписывался в картину революционного нетерпения Гитлера. Долго считался потом бесспорным тезис об их вине, хотя отдельные вопросы оставались невыясненными, и было видно, что спор ведётся с подставными свидетелями и сфабрикованными документами. Сопровождавшие эти события обстоятельства из криминальной сферы также давали благодатную почву для воображения честолюбивых летописцев, так что происшедшее оказалось покрытым мощным слоем отчасти поверхностной, отчасти дерзкой сознательной лжи и стало представляться искажённым даже в его самоочевидных аспектах.
Значение и заслуга известного исследования, опубликованного Фрицем Тобиасом в начале 60-х годов, заключались прежде всего в том, что оно детально и предметно вскрывало многочисленные грубые измышления, продиктованные партийными интересами или же только живой фантазией авторов легенд. Выходящий за рамки упоминавшихся предположений тезис, что не национал-социалисты, а схваченный в горящем рейхстаге потный, полуголый и восклицавший заплетающимся языком «Протест! Протест!» голландец Маринус ван дер Люббе был ни с кем не связанным преступником-одиночкой, обоснована точнее и убедительнее, чем какая-либо другая версия события, но всё же оставались немалые сомнения, которые поддерживали огонь горячо шедших много лет споров[403 - Tobias P. Der Reichstagsbrand. Если верить много численным сообщениям, которые, правда, на момент окончания работы над рукописью ещё не были как следует проверены, Эдуард Чалич и возглавляемый им «Европейский комитет по научному изучению причин и последствий второй мировой войны» придерживаются противоположной точки зрения. См. в этой связи, напр., также: Mommsen H. Der Reichstagsbrand und seine politischen Folgen. In: VJHfZ, 1964, H. 4 и статью того же автора в: Die Zeit, 26. 02. 1971, S. 11. И на самом деле кажется сомнительным, что ван дер Люббе смог в одиночку и в течение всего лишь нескольких минут создать столько крупных очагов возгорания и, опять же, как увязать смелость и расчётливую осмотрительность этого поступка с тремя другими явно неумело организованными поджогами, которые ван дер Люббе устроил в тот же день.]. Приводившиеся при этом доводы «за» и «против», весомость аргументов в нашем контексте к делу отношения не имеет, ибо вопрос о том, кто устроил поджог, – это вопрос криминалистики и имеет для исторического понимания процесса захвата власти второстепенное значение. Мгновенно использовав данное событие для реализации планов установления своей диктатуры, национал-социалисты так или иначе взяли это преступление на свою совесть, обнаружили своё соучастие в том смысле, который не в силах затронуть споры о признаках состава преступления и вопрос о виновном в нём. В Нюрнберге Геринг признался, что аресты и преследования были бы проведены в любом случае, пожар рейхстага их только ускорил.[404 - См.: IMT, Bd. IX, S. 481 f., а также документ PS-3593. Геринг, кстати, до самого конца решительно отрицал какое-либо своё участие в поджоге и – что вполне убедительно – заметил, что ему не нужно было никаких особых поводов для расправы над коммунистами. «На их счёту было столько вины, а их преступление столь огромно, что я без какого-либо дополнительного предлога был полон решимости и желания начать беспощадную войну по искоренению этой чумы всеми находившимися в моём распоряжении средствами власти. Напротив, как я уже заявлял на процессе о поджоге рейхстага, этот пожар, вынудивший меня к срочному принятию мер, был для меня крайне нежелателен, поскольку он заставил меня действовать раньше запланированного срока и ещё до того, как я закончил все необходимые приготовления». См.: Aufbau einer Nation, S. 93 f.]
Решения о первых шагах в сложившейся обстановке были приняты уже на месте события. Гитлер проводил вечер на квартире Геббельса на Рейхсканцлерплац, когда позвонил Ханфштенгль и доложил, что рейхстаг охвачен пламенем. Полагая, что эта информация является «несуразным плодом чьей-то буйной фантазии», Геббельс сперва не стал информировать об этом Гитлера. И только когда вскоре поступило подтверждение известия, он передал его. Спонтанное восклицание Гитлера «Теперь они у меня не выкрутятся!» уже предвещало, как он собирался использовать случившееся в тактическом и агитационном плане. Оба тут же «помчались на скорости 100 км в час по Шарлоттенбургскому шоссе к рейхстагу» и добрались, перешагивая через толстые пожарные рукава, до большой крытой галереи. Здесь они встретили Геринга, который прибыл туда первым и «в сильном возбуждении» уже объявил происшедшее организованной политической акцией коммунистов, эта установка с данного момента и предопределяла формирование политического, журналистского и криминалистического мнения. Один из тогдашних сотрудников Геринга, который позже стал первым руководителем гестапо, Рудольф Дильс, рассказывает, что происходило на месте преступления:
«Когда я вошёл, ко мне приблизился Геринг. В его голосе звучал весь судьбоносный пафос этого драматического часа: „Это начало коммунистического восстания, они пошли в бой! Нельзя терять ни минуты!“
И всё же это типичное разграничение между спекулятивным и политическим уровнями все ещё имело характер эрзац-действия: радикальность идеи одновременно прикрывала бессилие воли. Замечание Гегеля о том, что мышление стало силой, направленной против существующей действительности, было задумано как триумф, но одновременно и утешение. Не только столетняя дилемма затхлого немецкого мирка с его тяжёлой жизнью и провинциальностью подвигала мысль на полёты в свободные просторы, но и та долго игнорируемая роль, на которую мысль была обречена бездуховностью или франкоманией княжеского правления. От самых неудобоваримых текстов начала XIX века до поверхностного политического журнализма 20-х годов – во всём чувствуется, хоть и во вторичных, книжных или просто жалких проявлениях – что-то от того характерного основного движения духа, который «предоставил эпоху самой себе», чтобы строить идеальное внутреннее царство, которое безмятежно противопоставляло себя внешнему. Никогда ему не удавалось скрыть жажду отмщения, жившую в радикальности его суждений. Это было тонкое ощущение мести по отношению к реальности, считавшей, что она не нуждается в духе, и поэтому теперь посрамлённой духом.
Процесс отчуждения от действительности ещё усилился вследствие многочисленных разочарований, пережитых бюргерским сознанием в XIX веке в ходе его попыток достичь политической свободы, и следы этого процесса заметны почти на всех уровнях: в фиктивности политической мысли, в мифологизирующих идеологиях от Винкельмана до Вагнера или же в странно оторванном от реальности немецком представлении об образовании, решительно избравшем для себя призрачную стихию искусства и всего возвышенного. Политика лежала в стороне от этого пути, она не была частью национальной культуры.
Общественный тип, в котором сконцентрировались эти тенденции, представлял немецкую суть настолько точно, что до сего дня сохранил высочайший социальный престиж: это те далёкие от мира сего, погруженные в размышления господа на старинных портретах, в профессиональной мине которых так много идеальной строгости, верности принципам и задумчивой выразительности, люди, чьё простодушие было не без глубин. Они мыслили обширными категориями, низвергали или создавали системы, их взгляд шёл издалека. В то же время они излучали флюиды интимной и тесной домашности, явный запах приватного образа жизни. «Книги и мечты» были, как говорил Пауль де Лагард[363 - Lagarde P. Ausgewaehlte Schriften. Hrsg. von Fischer P. Muenchen, 1934, S. 34.], их стихией, они жили в своей придуманной действительности, их гениальная изобретательность с лихвой компенсировала им недостаток реальной действительности, их уверенность проистекала из их интеллектуальной профессии и свидетельствовала о довольстве культурой и собственным вкладом в неё.
Презрению к действительности соответствовало все яснее проступавшее пренебрежительное отношение к политике, так как она была действительностью в самом строгом, навязчивом смысле: пошлый элемент, «господство неполноценных», как это было сформулировано в заглавии знаменитой книги 20-х годов[364 - «Господство неполноценных» – название содержащей резкую критику демократии книги Э. Юнга, который, будучи сотрудником Папена, стал позднее жертвой расправ, учинённых 30 июня 1934 года.]. И сегодня ещё политическая мысль в Германии сохранила нечто от той торжественной тональности, с помощью которой она, по собственному мнению, морально и интеллектуально поднимается над низкой действительностью. За этим всегда – и раньше, и теперь – стояла потребность в идеальной, «аполитичной политике», потребность, отражавшая подавленность как следствие постоянного политического бессилия. Если отвлечься от небольшого и постоянно попадающего в изоляцию меньшинства, то общественность в Германии относилась к политике как к чужеродному телу и не знала, что с ней делать; политика оставалась предметом старательно выказываемого интереса, самопринуждения и даже, согласно широко распространённому мнению, самоотчуждения. Мир немцев ориентировался на частные, приватные понятия, цели и добродетели. Никакие социальные обещания не могли сравниться с завлекающим пафосом частного мира, семейного счастья, умилением природой, лихорадкой научного познания в тиши кабинета – со всей этой сферой вполне обозримых форм удовлетворённости своим существованием. Никто эту сферу и не собирался покидать, если тайну лесов предстояло поменять только на «шум ярмарки», а вместо свободы грёз предлагались только конституционные права.
И это чувство в свою очередь радикализировалось. «Человек политики противен», – писал Рихард Вагнер Ференцу Листу, а один из почитателей Вагнера заметил: «Если Вагнер в какой-то степени был выразителем своего народа, если он в чём-то был немцем, гуманным по-немецки, немецким бюргером в высшем и самом чистом смысле, то это – в своей ненависти к политике»[365 - Mann Th. Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 113. Письмо Вагнера Ф. Листу опубликовано в кн.: Nitsche R. Der haessliche Buerger. Guetersloh, 1969, S. 158.]. Аффект аполитичности охотно рядился в одежды защитника морали от власти, человечного от социального, духа от политики, и из этих антитез во все новых, глубокомысленных и полемических рассуждениях вырастали излюбленные темы бюргерских саморефлексий. Своей блестящей кульминации, полной сложных признаний, этот аффект достигает в изданном в 1918 году произведении Томаса Манна «Наблюдения аполитичного». Они были задуманы как защита гордого своей культурой немецкого бюргерства от просветительского, западного «террора политики» и содержали уже в самом названии указание на романтическую цель, сознательно игнорирующую действительность: на традиционный поиск аполитичной политики.
Эстетически-интеллектуальное неприятие политики, ставшее содержанием все более обширной, запутанной учёной литературы, нашло своё крайнее выражение в своеобразном представлении о спасении от политики, которое с середины XIX века стало необычайно популярным – в мысли о спасении искусством. Эта мысль вобрала в себя все несбывшиеся надежды, все разочарования нации. Как намёк, она возникала ещё в романтизме с его постулатом тесного взаимопроникновения политики и поэзии; Шопенгауэр, говоривший об избавлении идеи от трагических перипетий жизненной борьбы прежде всего с помощью музыки, придал этой мысли субъективную окраску, и у Рихарда Вагнера она, наконец, достигла своего высочайшего развития в рассуждениях об обновлённом театре, изложенных в его «Грёзах культуры о „конце политики“ и начале человечности»[366 - Mann Th. Op. cit. S. 115; затем прежде всего: Wagner R. Kunst und Revolution, Ges. Schriften, Bd. HI, S. 194; см. в этой связи также: Gutmann R. Op. cit. S. 148 ff., 309, Stern F. Op. cit. S. 154, 166, 172.]. Политика, требовал он, должна стать грандиозным зрелищем, государство – произведением искусства, а человек искусства должен занять место государственного деятеля; искусство было тайной, его храмом – Байрейт, а его святыней – драгоценная чаша арийской крови, исцелившая умирающего Амфортаса и погубившая под развалинами фантастического замка волшебника Клингсора, это воплощение противостоящих сил еврейства, политики и сексуальности. Пожалуй, с не меньшим успехом, чем у Вагнера, Юлиус Лангбен в конце столетия провозгласил Рембрандта символом жажды обновления. Искусство, подчёркивал он, должно вернуть заплутавшему миру простоту, естественность и интуицию, устранить торговлю и технику, примирить друг с другом классы, объединить народ и привнести утерянное единство в наконец-то замиренный мир: ибо искусство – великий победитель. Конечной целью объявлялось устранение любой политики и её обратное превращение в экстаз, власть, харизму, гениальность. Самым последовательным образом он оставляет право на господство в желанном новом веке благословенному свыше гению, своему «великому герою искусства», «отдельной личности цезаристско-артистического склада».[367 - Stern F. Op. cit. S. 181 ff; см. кроме того: Klemperer К. v. Op. cit. S. 167 ff.]
Все эти мотивы сыграли свою роль в том попятном движении, которым немцы сильнее, чем прежде, реагировали на политику, столкнувшись с ней во время и после войны болезненно, как никогда. Традиционный путь бегства вёл их в области эстетики или мифологии. В отвращении к «грязной» революции неприятие политики чувствовалось не меньше, чем в разнообразных теориях заговора, омрачивших горизонт веймарских лет: например, в легенде об «ударе кинжалом в спину» или в теории двойной угрозы – со стороны красного (коммунистического) и золотого (капиталистического) интернационала, в антисемитизме или в распространённых страхах перед масонами и иезуитами, словом, в самых разных симптомах бегства от действительности в воображаемый, фиктивный мир, полный таких романтических категорий как измена, одиночество и обманутое величие.
Соответствующее политическое мышление тоже было во власти аполитичных образов и категорий, всякого рода идеологий – войны как переживания, «молодых народов», «тотальной мобилизации» или «варварского цезаризма». Это был почти необозримый поток национально-утопических проектов и модных философий так называемой «консервативной революции»; и все они так или иначе видели свою цель в том, чтобы, перефразируя слова Фихте, натянуть на мир мундир иррационализма. Усилиям, предпринимаемым в политической действительности ради достижения какого-то. равновесного положения, они противопоставляли свои безоговорочные лозунги и судили повседневность от имени грандиозных мифов. Хоть и не оказывая прямого влияния, они своими вносящими сумятицу романтическими альтернативами в немалой мере способствовали интеллектуальному истощению республики, тем более, что «отвращение к политике» больше чем когда-либо разжигалось ненавистной действительностью. В то время как защитники Веймарской республики часто производили впечатление апологетов коррумпированной, безнадёжной системы и были не в состоянии преодолеть пропасть между собственным пафосом и всем и каждому видимым неблагополучием, противники республики, особенно правые, казались исполненными воображения, были полны проектов и создавали из мифов, грёз и капли горечи контробраз республики. Среди их самых презрительных упрёков в адрес «системы» был тот, что она приучает нацию к «мелкому счастью», потребительству и мелкобуржуазному эпикурейству[368 - Смысл критики демократии Игнацио Силоне см.: Silone I. Die Kunst der Diktatur, S. 171.]. Категориями же этого времени, обладающими привлекательной силой, были приключение, трагизм, гибель, и если Карл Осецкий видел среди интеллектуалов страны многочисленных «бескорыстных любителей всевозможных катастроф, гурманов всемирно-политических несчастий», один французский наблюдатель в начале 30-х годов задавался вопросом, не вкладывает ли Германия в «свой кризис слишком много страсти и радикализма»[369 - Vienot P. Ungewisses Deutschland. Frankfurt/M., 1931, S. 93.]. И в самом деле, старая «тяга к интеллектуальной пропасти» тоже частично ответственна за то, что кризис в Германии приобрёл совершенно безвыходный, отчаянный характер; это и сделало потребность к бегству от действительности массовым явлением, а идею романтически-героического прыжка в неизвестность – самой близкой и привычной.
Феномен Гитлера следует рассматривать на этом идеологическом фоне. Иногда он даже производит впечатление вульгарного искусственного продукта всех этих взглядов, реакций и комплексов, впечатление комбинации мифологического и рационального мышления в крайнем радикализме социально отчуждённого интеллектуала. В его речах появлялись почти все известные риторические фигуры аполитичного аффекта: ненависть к партиям, к компромиссному характеру «системы», отсутствие у неё «величия»; он всегда рассматривал политику как понятие, близкое к понятию судьбы, т. е. нечто само по себе пассивное и потому нуждающееся в освобождении сильной личностью, через искусство или с помощью некоей высшей силы, обозначаемой как «провидение». В одном из своих главных выступлении периода захвата власти, прозвучавшем 21-го марта по случаю Дня Потсдама, он так сформулировал связь между политическим бессилием, мечтами как эрзацем силы и избавлением через искусство:
«Немец, рассорившийся сам с собой, непоследовательный в мыслях, с расщеплённой волей и потому бессильный в действии, теряет силу в утверждении собственной жизни. Он мечтает о праве на звёздах и теряет почву под ногами на земле… В конечном итоге немцам всегда оставался только путь внутрь себя. Будучи народом певцов, поэтов и мыслителей, немцы мечтали тогда о мире, в котором жили другие, и только когда нужда и лишения наносили этому народу бесчеловечную травму, тогда, может быть, на почве искусства произросло желание нового подъёма, нового царства, а значит и новой жизни».[370 - Domarus M. Op. cit. S. 226 f.]
Он считал себя именно такой фигурой спасителя, раз уж он в своё время расстался с мечтами об искусстве. В контексте духовной традиции он, несомненно, ощущал большую близость к «великому герою искусства», о котором писал Лангбен, чем, например, к Бисмарку, которым он, судя по разным его высказываниям, восхищался не столько как политиком, сколько как эстетическим феноменом великого человека[371 - См. примечание 392 к кн. второй (т. 1).]. Для Гитлера политика тоже означала прежде всего средство достичь величия, ни с чем не сравнимый шанс компенсации недостаточного художественного таланта в грандиозной замещающей роли. Все, чем он располагал как политик, он выучил или усвоил как временную роль; что касается его импульсивных озарений, то тут он был полностью в плену мистического, эстетического, чуждого действительности, т. е. аполитичного мышления. Он проливал слезы над произведениями искусства, свидетелем чего стал один из его современников[372 - Свидетельство Карла Герделера согласно стенограмме, сделанной Рихардом Брайтингом, см.: Calic Op. cit. S. 171; затем: Hoffmann H. Op. cit. S. 188.], но «humanities»[373 - Гуманитарные науки – Англ.] были ему, по словам его окружения, безразличны. Убедительное доказательство тому – неофициальные документы его жизни, ранние выступления, а также застольные беседы в его штаб-квартире. Возможно, что редко какая-либо похвала доставила ему большее удовольствие, чем замечание X. Ст. Чемберлена в письме от октября 1923 года, где он был назван «противоположностью политики»; Чемберлен добавлял: «Идеалом политики было бы отсутствие всякой политики; но эту не-политику, следует признать откровенно, пришлось бы навязывать миру»[374 - См.: IUustrierter Beobachter, 1926, Nr. 2, S. 6.]. В этом смысле у Гитлера действительно не было политики, её место занимала великая суггестивная идея судьбы, и осуществление этой идеи он с максимальным упорством сделал целью своей жизни.
Вальтер Беньямин назвал фашизм «эстетизацией политики», и фашизм захватил немцев – народ, чьё понимание политики всегда было пронизано эстетикой, – с особой стремительностью. Одна из причин крушения Веймарской республики заключалась в том, что, не понимая психологии немцев, она не видела в политике ничего, кроме политики.
Только Гитлер путём беспрерывного затуманивания сути дела, театральных эффектов, экстаза и сутолоки вокруг создания нового идолопоклонства вернул общественным делам издавна привычный образ. Их самым выразительным символом стали «огненные соборы» – стены из волшебства и света, отделяющие от мрачного, угрожающего внешнего мира. Даже если немцы и не разделяли голод Гитлера по пространству, его антисемитизм, присущие ему черты вульгарности и грубости, они поддержали его и пошли за ним, потому что он снова привнёс в политику мощное звучание темы судьбы, смешанное с элементом страха и трепета.
В соответствии с идеологией аполитичного «государства красоты» Гитлер не отделял своих представлений художника от представлений политика, а свой режим охотно восхвалял как наконец-то состоявшееся примирение искусства с политикой[375 - Speer A. Op. cit. S. 134.]. Он считал, что идёт по стопам Перикла, и любил проводить соответствующие параллели; по свидетельству Альберта Шпеера автобаны были для него его Парфеноном[376 - Из записки Шпеера для автора; об отклонении кандидатур Гесса и Гиммлера в качестве преемников см.: Speer A. Op. cit. S. 152.]. Совершенно всерьёз он заявлял, что «как люди, которым недоступно наслаждение искусством», ни рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, ни Рудольф Гесс по сути своей не способны стать в будущем его преемниками. Зато Шпеер сумел забраться так высоко и иногда даже считался предрешённым преемником фюрера не в последнюю очередь потому, что по мнению Гитлера был «человеком, понимающим искусство», «артистом», «гением». Характерно, что в начале войны Гитлер освободил от военной службы людей искусства, но не учёных и техников. Даже когда ему демонстрировали новый вид оружия, он редко не обращал внимания на его эстетическое оформление и мог, например, похвалить «элегантность» орудийного ствола. Вне искусства для него не было ничего, и даже полководец, говаривал он, может одерживать победы, только будучи человеком с художественным вкусом[377 - Ziegler H. S. Op. cit. S. 75; Speer A. Op. cit. S. 249. Научно-технические работники были освобождены от воинской службы в 1942 году по инициативе Шпеера; проблему освобождения от воинской повинности творческих работников Гитлер решил, как сообщил автору Шпеер, приказав взять их дела из управлений военно-призывных районов и тут же уничтожить.]. Поэтому после победы над Францией он предпочёл посетить Париж не как завоеватель, а скорее как любитель музеев. По этим же причинам он довольно рано, а со временем все раздражительнее стал тосковать по прошлым годам: «Я стал политиком поневоле», – так или почти так говорил он снова и снова, «политика для меня – только средство для достижения цели. Есть люди, думающие, что мне станет очень трудно, если я когда-нибудь прекращу свою теперешнюю деятельность. Нет! Это будет самый прекрасный день моей жизни, если я уйду из политической жизни и оставлю далеко позади все заботы, муки и неприятности… Войны приходят и проходят. Остаются только культурные ценности». Ханс Франк видел в таких настроениях даже тенденцию эпохи, заключающуюся в том, чтобы «снова изгнать все, что связано с государствами, войной, политикой и т. д., и суметь поставить над этим высокий идеал творения искусства»[378 - Frank H. Friedrich Nietzsche, цит. по: Klessmann Ch. Op. cit. S. 256, Hitlers Tischgespraeche, S. 167 f.; Speer A. Op. cit. S. 38.]. Примечательно в этой связи, что в национал-социалистической верхушке была непропорционально высока доля людей, не сумевших стать людьми искусства, не состоявшихся в творчестве. Сюда кроме самого Гитлера можно отнести Дитриха Эккарта; Геббельс безуспешно пытался писать романы, Розенберг начинал как архитектор, фон Ширах и Ханс Франк пописывали когда-то стихи, а Функ был музыкантом. Сюда же относится и Шпеер с его тягой к аполитичной изоляции, а также вообще тот тип интеллигента, мыслящего одновременно расплывчато и непреклонно, который, испытывая эстетскую слабость к государственным переворотам, сопровождал и поощрял подъем национал-социализма.
Искажение понятия действительности у социально отчуждённых интеллектуалов позже наложило отпечаток и на весь мир идей Гитлера. Многие современники констатировали его склонность во время разговора забираться «в высшие сферы», из которых его снова и снова приходилось «стаскивать на почву фактов», как писал один из них[379 - Таково одно из высказываний Шляйхера, см.: Conze W. Zum Sturz Bruenings. In: VJHfZ, 1953, H. 2, S. 261 ff. Hitlers Tischgespraeche, S. 167 f.; Speer A. Op. cit. S. 38.]. Примечательно, что Гитлер любил предаваться своим смутным размышлениям в Оберзальцберге или же в «Орлином гнезде», которое он приказал соорудить выше «Бергхофа» на Кельштайне, на высоте 2 тыс. метров. Здесь, в разреженном воздухе, в роковых декорациях окружающих скал, он обдумывал свои проекты и, как он однажды заметил, принимал все свои важнейшие решения[380 - См.: Hillgruber A. Hitlers Strategic S. 216.]. Но фантастические мечты о гигантской империи вплоть до Урала, геополитические замыслы в масштабах великих пространств и передела миров, генетические видения массового истребления целых народов и рас, грёзы о сверхчеловеке и фантасмагории на тему чистоты крови и святого Грааля, да и, наконец, вся эта задуманная в масштабах континента система шоссейных дорог, военных сооружений и укреплённых поселений – все это, по сути, отнюдь не было «немецким», а брало своё начало из близких или очень отдалённых источников. Немецкой тут была только интеллектуальная, непомерная логика и последовательность, с которой он в мыслях складывал эту мозаику, и немецким же был несгибаемый ригоризм, не отступающий ни перед какими последствиями. Жёсткость Гитлера была связана несомненно с предпосылками, заложенными в его чудовищном характере; в его радикальности тоже всегда присутствовал элемент экстремизма и бесшабашности маргинала. Но помимо прочего она демонстрировала ту аполитичную, враждебную действительности позицию по отношению к миру, которая принадлежит к духовным традициям страны. В точке схода немецкой истории он находится не из-за своих расистских концепций или экспансионистских целей, но как один из тех интеллектуалов, которые будучи исполнены веры в теории, высокомерно подчиняли реальность собственным категорическим принципам. От ему подобных Гитлера отличала способность занять политическую позицию: он был исключением, интеллектуалом с практическим пониманием власти. В текстах его предшественников, вплоть до массовой макулатуры, вышедшей из-под пера «фелькише», нетрудно найти постулаты и порадикальней, чем у Гитлера. И в немецкой, и в европейской культуре есть гораздо более яркие свидетельства страха перед настоящим и эстетствующего отрицания действительности. Так, Маринетти жаждал избавления от «подлой действительности» и в Манифесте 1920 года потребовал предоставить «всю власть людям искусства» (так брошюра и называлась), ибо власть должна принадлежать «широко понимаемому пролетариату гениев». Но и эти, и им подобные выступления только упоённо кокетничают бессилием интеллектуалов и наслаждаются им. Характерно, что Маринетти свои заклинания против действительности обращал к «мстящему морю»[381 - Цит. по: Joll J. Three Intellectuals in Politics, P. 135, 174.]. Здесь Гитлер опять-таки был исключением – в силу своей готовности принимать собственные интеллектуальные фикции за чистую монету и только что не питаться фразами, рождёнными вековой экзальтацией мысли.
Тут он был единственным в своём роде. Если тиран Писистрат захватил афинян врасплох на пиру, то о Гитлере и немцах этого не скажешь. Как и все остальные, они могли бы быть настороже, так как Гитлер многократно излагал свои намерения открыто, без всякой интеллектуальной сдержанности. Но традиционное разделение придуманной и социальной реальности уже давно создало представление о том, что слова не стоят ничего, а его слова казались и вовсе дешёвкой. Только этим можно объяснить ту сугубо неверную оценку Гитлера, которая одновременно была и неверной оценкой этого времени. Рудольф Брайтшайд, председатель фракции СДПГ в рейхстаге, окончивший свои дни в концентрационном лагере Бухенвальд, радостно зааплодировал, узнав о назначении Гитлера рейхсканцлером, и сказал, что наконец-то Гитлер сам себя погубит. Другие, произведя предварительные расчёты, полагали, что Гитлер всегда будет в меньшинстве и ни за что не получит большинства в две трети, необходимого для изменения конституции. Юлиус Лебер, другой ведущий социал-демократ, снисходительно заметил, что подобно всем остальным хотел бы, наконец, что-либо «узнать о духовной базе этого движения».[382 - Как заявляет Герхард Риттер, большинству немцев мысль о том, что они оказались в руках бессовестного авантюриста, показалась бы «прямо-таки гротескной». См.: Ritter G. Carl Goerdeler, S. 109. Мнение Рудольфа Брайтшайда передаёт Фабиан фон Шлабрендорф: Schlabrendorff F. V. Offiziere gegen Hitler, S. 12; об отсутствии духовной базы Юлиус Лебер писал в одной из своих дневниковых записей, см.: Leber J. Ein Mann geht seinen Weg. Berlin, 1952, S. 123 f. Многие социал-демократы втайне надеялись, что Гитлер очень быстро начнёт конфликтовать с Папеном и Гинденбургом, так что они смогут появиться на сцене в качестве радующегося третьего «и тут-то мы и сведём с ними счёты, не то что в 1918 году», – пригрозил бывший статс-секретарь Пруссии Абегг в беседе с графом Кеслером, как говорится в «Дневниках» последнего, см.: Kessler H. Tagebuecher, S. 708.]
Кажется, никто не понимал, кем Гитлер был на самом деле. Только географическая отдалённость сделала кое-кого проницательней. Правда, ожидаемых санкций заграницы не последовало – столицы, не меньше самой Германии попавшие в сеть ослепления, надежд на укрощение и слабость, готовились к соглашениям и пактам будущих лет. И всё же отдельные тревожные предчувствия высказывались, хотя и в них проскальзывала странная зачарованность. Так, немецкий наблюдатель в Париже отмечал, что французы испытывают «такое чувство, словно в непосредственной близости от них началось извержение вулкана, которое в любой день может опустошить их поля и города и за малейшими движениями которого они следят поэтому с изумлением и страхом. Явление природы, перед которым они почти бессильны. Германия ныне – снова международная звезда первой величины, притягивающая к себе внимание масс в каждой газете, в каждом кинотеатре и вызывающая страх и непонимание, смешанные с невольным восхищением, не лишённым, однако, доли злорадства; великая трагическая, жуткая, опасная страна-авантюрист».[383 - Kessler H., Graf, Op. cit. S. 684 f.]
Почти ни одна из идей, под знаком которых страна пустилась в свою авантюру, не принадлежала ей одной; но немецкой была та бесчеловечная серьёзность, с которой она отринула своё существование в области воображения. Описанные здесь тенденции и аффекты, усиленные уже нестерпимой напряжённостью между многовековой революционной мыслью и статичностью общественных отношений, придали этому выступлению небывалый вес и экстремистский характер запоздалой реакции: немецкий гром, наконец, достиг цели. В его раскатах потонула отчаянная попытка отрицания реальности под знаком ретроспективной утопии.
Однако отрицание действительности во имя радикально идеализированных представлений довольно трудно подавить; оно имеет дело со стихией фантазии и дерзостью мысли. Политическая проблематика тут налицо. Но тем, что такое он был, немецкий дух не в последнюю очередь обязан своей позицией отказа от реальности, и вопреки бытующему мнению, не все его развитие тупо ведёт только к Освенциму.
Книга пятая
Захват власти
Глава I
Легальная революция
Это не было победой, ибо отсутствовали противники.
Освальд Шпенглер, 1933 г.
Первые шаги. – Перед генералами. – Преемственность целей. – Концепция захвата власти. – Первые чрезвычайные распоряжения. – И опять предвыборная борьба. – Перед предпринимателями. – Пожар рейхстага. – Основной закон «третьего рейха». – Выборы 5 марта. – Революция, устроенная СА. – «Национальное восстание». – День Потсдама. – Закон о чрезвычайных полномочиях. – Самоотречение Гинденбурга. – Революция на открытой сцене. – Бесславные закаты. – Внутреннее расставание с Веймарской республикой.
В ходе продолжавшегося всего лишь несколько месяцев бурного процесса Гитлер не только завоевал власть, но и добился осуществления части своих далеко идущих революционных планов. Комментарии, касающиеся его прихода к власти, носили сплошь пренебрежительный характер: Гитлера если и не называли «пленником» Гугенберга – по своеобразному совпадению такие иллюзии разделял целый спектр сил – от центра до СДПГ и коммунистов, то оценивали его шансы невысоко, полагая, что продержится он недолго[384 - «Пусть перебесится» – сказал фон Нойрат, который сам был членом кабинета Гитлера; см.: Rauschning Н. Gespraeche, S. 141.]. Однако все скептические прогнозы, которые предрекали крушение Гитлера в силу мощи консервативных партнёров по коалиции, Гинденбурга и рейхсвера, сопротивления масс, в особенности левых партий и профсоюзов, многочисленности и тяжести экономических проблем, вмешательства заграницы или же, наконец, его собственного, ставшего очевидным дилетантства – все они были опровергнуты впечатляющим процессом захвата власти, который вряд ли имеет себе аналог в истории. Да, ход событий отнюдь не был так тонко рассчитан в деталях, как это порой представляется в исторической ретроспективе, но тем не менее каждый момент Гитлер имел перед глазами одну цель: взять всю власть в свои руки до ожидавшейся смерти восьмидесятипятилетнего президента страны, и он знал, какая тактика необходима для этого: модифицированная страхом и чувством неуверенности практика легальных действий, которую он так успешно опробовал в предшествующие годы. Средством ему служил атакующий динамизм, который удар за ударом прорывал одну за другой позиции противника, не давая возможности обескураженным силам последнего, пытавшимся оказать сопротивление, сформироваться; в то время как ему на руку играли случайности, появлявшиеся возможности и всякий раз краешек плаща Провидения, орудием которого он себя провозглашал, и этот уголок плаща он учился схватывать все более уверенно.
Уже 2 февраля Гитлер посвятил заседание кабинета главным образом подготовке новых выборов, согласие на которые он выжал незадолго до приведения к присяге 30 января из сопротивлявшегося Гугенберга и необходимость которых он затем лицемерно оправдывал быстрым провалом проводившихся для видимости переговоров с партией Центра. Доступ ко всем государственным средствам давал не только возможность выправить положение, сложившееся после поражения в ноябре, но и с первых же шагов выйти из-под контроля партнёра – Немецкой национальной народной партии. Хотя предложение Фрика предоставить правительству миллион марок на предвыборную борьбу было отклонено после возражения министра финансов Шверина фон Крозига, чтобы совершить тот «шедевр агитации», который предсказывал Геббельс в одной из своих дневниковых записей, без таких подпорок можно было и обойтись, имея за спиной государственную власть.[385 - Goebbels J. Kaiserhof, S. 256.]
Как это отвечало склонности Гитлера фиксировать внимание на одном вопросе, с этого момента все мысли, каждый тактический ход были поставлены на службу широкой кампании подготовки к назначенным 5 марта выборам. Он сам дал сигнал её начала «Воззванием к немецкому народу», с которым выступил по радио поздно вечером 1 февраля. Гитлер как нельзя быстро вжился в свою новую роль и ту манеру поведения, которой она требовала. Хотя присутствовавший при зачтении воззвания Яльмар Шахт мог наблюдать возбуждение Гитлера и то, как он в отдельные моменты «дрожал и дёргался всем телом»[386 - Schacht H. Abrechnung mit Hitler, S. 31; само «Воззвание» опубликовано в кн. Domarus M. Op. cit. S. 191 ff.], сам документ, предварительно представленный на одобрение всем членам кабинета, был выдержан в ровном тоне заявления государственного мужа. Он соединял в себе критику прошлого и разрыв с ним с патетическими заверениями в преданности национальным, консервативным и христианским ценностям: с дней предательства в ноябре 1918 года, начал Гитлер выступление: «Всевышний лишил наш народ своего благословения». Грызня между кучей партий, ненависть и хаос подменили единство нации «клубком политико-эгоистических противоречий», Германия являет собой «картину разобщённости, при виде которой сердце обливается кровью». Вынося обобщающие вердикты прошлому, он клеймил внутренний разлад, а также нищету, голод, утрату собственного достоинства и катастрофы последних лет и рисовал страшную картину конца двухтысячелетней культуры под широким натиском штурма опирающегося на «волю и насилие» коммунизма:
«Эта способная лишь на отрицание, всеразрушающая идея не пощадила ничего – начиная с семьи и всех понятий чести и верности, народа и Отечества, культуры и хозяйства вплоть до вечных основ нашей морали и нашей веры. 14 лет марксизма разорили Германию. Один год большевизма Германию бы уничтожил. Районы, относящиеся сегодня к самым богатым и прекрасным культурным областям мира, были бы повергнуты в хаос и превратились бы в руины. Даже страдания последних полутора десятилетий нельзя было бы сравнить с бедствиями Европы, в центре которой взвился бы красный флаг уничтожения».
В качестве задачи нового правительства Гитлер назвал восстановление «единства духа и воли нашего народа», он обещал взять под защиту «христианство как основу всей нашей морали, семью как основную ячейку нашего народного и государственного организма», преодолеть классовую борьбу и вернуть традициям подобающее им почётное место. Восстановление экономики должно было быть обеспечено при помощи двух широкомасштабных четырехлетних планов, принцип которых он вновь заимствовал у своих противников – марксистов, загранице было твёрдо указано на жизненные права Германии, но в тоже время её успокаивали смягчающими тон фразами о наличии воли к примирению. За четыре года, – завершал Гитлер своё обращение, – его правительство постарается «загладить вину 14 лет», правда, при этом, прежде чем благоговейно просить благословения у Бога, он ясно дал понять, что правительство отбросит в сторону все конституционные контрольные механизмы: «Оно не может просить одобрения на восстановительный труд у тех, кто виновен в развале. У партий, приверженных марксизму, и их попутчиков было 14 лет, чтобы доказать на что они способны. Результат налицо – груда развалин…»
Тактическую сдержанность, которую несмотря на все угрожающие революционные нотки всё-таки в целом сохраняло это воззвание, Гитлер отбросил, когда он всего лишь двумя днями позже имел беседу в служебной квартире командующего сухопутными войсками генерала фон Хаммерштайна с верхушкой рейхсвера. Примечательная быстрота, с которой он стремился провести эту встречу, несмотря на множество требовавших его неотложного участия дел, была связана не только с ключевой позицией военных в его концепции завоевания власти – в упоении и на волне подъёма тех дней ему, несмотря на всю скрытность, не терпелось посвятить в свои грандиозные планы новых людей. Вряд ли что-либо так ясно подчёркивает это нетерпение, как тот факт, что Гитлер раскрыл перед командующими свою самую сокровенную, центральную идею.[387 - См. в этой связи: Kluke P. Nationalsozialistische Europaideologie. In: VJHfZ, H. 3, S. 244. П. Клуке придерживается той точки зрения, что поведение Гитлера «объяснялось лишь чувством триумфа непосредственно в час окончательного захвата власти»; см. затем также: Gisevius Н. В. Adolf Hitler, S. 175.Полный текст этого выступления не сохранился, однако имеется несколько подробных и взаимодополняющих свидетельств участников встречи. См., напр., записи Хорста фон Меллентина, бывшего в то время вторым адъютантом фон Хаммерштайна: Mellenthin H. Zeugenschrifttum des IfZ Muenchen, Nr. 105, S. 1 ff.; ему же принадлежит и цитируемое в следующем абзаце описание этой встречи; см., кроме того, сделанные во время выступления записи генерала Либмана среди документов, собранных Тило Фогельзангом: Vogelsang Th. VJHfZ, 1954, Н. 2, S. 434 f., a также показания Редера в Нюрнберге: IMT, Bd. XIV, S. 28; правда, Редер утверждает, что «ни о каких военных намерениях, воинственных намерениях и речи не было». Однако другие свидетельства противоречат этому. И утверждение Редера, будто высказывания Гитлера «были с удовлетворением» восприняты всеми слушателями, также оспаривается многими, например, генералом фон дём Буше. См. также: Hammerstein К. v. Spaehtrupp, S. 64. Гитлер сам якобы заявил Бломбергу, что это выступление было «одной из его самых трудных речей, поскольку он всё время говорил, словно обращаясь к стене»; см.: Foertsch H. Schuld und Verhaengnis, S. 33.]
Хаммерштайн, как описывает один из участников встречи, «несколько покровительственно», свысока, представил «господина рейхсканцлера», фаланга генералов с холодной вежливостью поприветствовала его, Гитлер скромно, угловато со всеми раскланялся и пребывал в состоянии смущения до тех пор, пока после трапезы он не получил за столом возможность для продолжительного выступления. Гитлер обещал вермахту как единственному носителю оружия в стране главное развитие, а в начале своей почти двухчасовой речи он, как и в дюссельдорфском клубе промышленников коснулся мысли о примате внутренней политики: самая первоочередная цель нового правительства – вновь сосредоточить власть в своих руках посредством «полного преобразования нынешних внутриполитических условий», не останавливающегося ни перед чем искоренения марксизма и пацифизма, а также создания широкой готовности к борьбе и обороне за счёт «жёсткого авторитарного государственного руководства»; только последнее даёт гарантию возможности сперва начать борьбу с Версалем при помощи осторожно действующей внешней политики, чтобы затем, собрав силы, перейти к «завоеванию нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадной германизации». Непреложную необходимость экспансии, он между тем, обосновывал не только геостратегическими аргументами и требованием обеспечить страну продовольствием, но и ссылкой на экономический кризис: и его причина, и его решение заключаются-де в «жизненном пространстве». При анализе положения ему представляются проблематичными только годы скрытого военно-политического восстановления, в этот период станет видно, имеются ли во Франции государственные деятели: «Если да, она не даст нам времени, а нападёт на нас, вероятно, с восточными сателлитами», – записал один из участников встречи.
В этом выступлении примечательно не только то, что оно с новой стороны высветило построенную на идее насилия структуру мышления Гитлера: буквально каждое явление он воспринимал лишь как дополнительное подтверждение уже давно закрепившихся в уме идей, хотя и при этом настолько неверно оценивал сущность явлений – как в случае с экономическим кризисом, что это напоминало прямо-таки гротеск; и, по-прежнему, единственным решением, вообще понятным ему, было насилие. Рассуждения в этой речи одновременно свидетельствуют о преемственности мира идей Гитлера и опровергают все теории, согласно которым влияние лёгшей на его плечи ответственности сделало его более умеренным, а позже (обычно называют 1938 год), когда он впал в старые агрессивные комплексы ненависти или же, как утверждает другая версия, оказался под воздействием новой системы маниакальных идей, его сущность изменилась.
Гитлеровская концепция завоевания власти, которая несмотря на все заимствования из апробированной практики большевистских и прежде всего фашистских государственных переворотов относится к числу действительно самостоятельно разработанных, оригинальных элементов его взлёта, все ещё остаётся по своему сценарию классической моделью тоталитарного преодоления демократических институтов изнутри, т. е. при помощи государственной власти, а не в схватке с ней. Он с незаурядной находчивостью, не стеснённой в выборе средств, пускал в ход методы последних месяцев, приспосабливая их к новому положению. В продуманном взаимодействии с коричневыми вспомогательными формированиями все новые дерзкие революционные акции так сочетались с юридически санкционированными актами, что возникала, если брать каждый отдельный случай, хотя часто сомнительная, но в целом убедительная кулиса легальности, прикрывавшая противозаконность режима. В ту же линию вписывалось и то, что во многом сохранялись старые институциональные фасады: тем беспрепятственнее можно было в их тени осуществлять глубинное преобразование всех отношений – пока люди безнадёжно запутывались в своих оценках законности или незаконности системы, необходимости лояльности или сопротивления; парадоксальное понятие легальной революции – это было нечто гораздо «большее, чем пропагандистский приём», его значение для успеха процесса захвата власти невозможно переоценить[388 - Так считает К. Д. Брахер, см.: Bracher К. D. Diktatur, S. 210.]. Гитлер сам объяснял позже, что Германия в то время хотела порядка, в силу чего ему пришлось отказаться от открытого применения силы; в один из последних дней жизни, когда его охватывали настроения отчаяния, он, подводя итог ошибок и упущений прошлого, возлагал на любовь немцев к порядку, их манию законопослушания и глубокое неприятие хаоса, которые придали нерешительный характер уже революции 1918 года, сорвали и его акцию у «Фельдхеррнхалле», ответственность за всю половинчатость, компромиссы и роковой отказ от внезапной кровавой расправы: «Иначе тогда были бы ликвидированы тысячи… Только потом начинаешь жалеть, что был таким добрым».[389 - См. последнее застенографированное обсуждение обстановки 27 апреля 1945 года: Der Spiegel, 10.01.1966. Геббельс добавил – и это весьма примечательно, – что и в 1938 году, в ходе аншлюсса Австрии, «было бы лучше, если бы Вена оказала сопротивление, и мы смогли бы все разделать под орех». Затем: Hitlers Tischgespraeche, S. 364, 366.]
В тот же момент тактика лавинообразно развёртывающейся революции, прикрытой атрибутами легальности, представлялась, однако, чрезвычайно успешной. По сути дела, всё было предопределено уже в течение февраля тремя декретами, законность которых, как казалось, в равной степени обеспечивали буржуазные авторитеты, находившиеся рядом с Гитлером, подпись Гинденбурга и сопровождавший все это туман национальных лозунгов. Уже 4 февраля вышел декрет «О защите немецкого народа», который предоставлял правительству права запрещать политические мероприятия, газеты и печатные издания конкурирующих партий на самых неопределённых основаниях. Тут же последовали драконовские меры, направленные против отличающихся политических воззрений любого направления, был прерван даже вскоре после его начала конгресс левых интеллектуалов и деятелей искусств в опере Кролля из-за якобы атеистических высказываний. Двумя днями позже, следующим чрезвычайным декретом, своего рода вторым государственным переворотом, был распущен прусский ландтаг, после того, как соответствующая попытка добиться этого парламентским путём потерпела провал. Спустя ещё два дня Гитлер обосновал перед ведущими немецкими журналистами чрезвычайный декрет от 4 февраля, обратив при этом их внимание на ошибочные суждения газет о Рихарде Вагнере и заявив, что «хочет уберечь нынешнюю печать от подобных промахов». Одновременно он пригрозил самыми решительными мерами тем, «кто сознательно хочет вредить Германии»[390 - Domarus M. Op. cit. S. 202 f, S. 200.]. В комплексе маловразумительных сообщений, эффектно скомпонованных с угрозами и актами насилия, скупо поступали сведения о Гитлере как о человеке. 5 февраля бюро НСДАП по связям с печатью известило, что Адольф Гитлер, «который очень привязан к Мюнхену», сохраняет там свою квартиру и что он, между прочим, отказался от оклада рейхсканцлера.
Тем временем национал-социалисты глубоко проникают в управленческий аппарат. При распределении ролей актёров легальной революции Герингу, чья дородность придавала ей столь жизнелюбивый оттенок, досталась задача не знающего удержу неистового преобразователя. Хотя новый чрезвычайный декрет передавал все правительственные полномочия в Пруссии Папену, реальная власть была у Геринга. Пока вице-канцлер надеялся на свою «воспитательную работу внутри кабинета»[391 - Papen F. v. Op. cit. S. 294.], соратник Гитлера направил в прусское МВД несколько так называемых почётных комиссаров, таких, как оберфюрер СС Курт Далюге, которые тут же закрепились в крупнейшем управленческом ведомстве Германии и стали, проводя обширную перетряску кадров, отдавать распоряжения об увольнениях и назначениях новых людей, так что, как говорилось в свидетельстве очевидца, «чинуши старой системы вылетали штабелями. Эта беспощадная чистка затронула всех – от оберпрезидента до вахмистра».[392 - Gritzbach E. Herman Goering. Werk und Mensch, S. 31; см. также: Horkenbach С Op. cit. S. 66. Некоторое представление о размахе этих мер даёт тот факт, что, например, из 32 полковников охранной полиции были уволены 22. «Сотни офицеров и тысячи вахмистров разделили ту же участь в последующие месяцы. Привлекались новые силы, и повсюду эти силы черпались из огромного резервуара С А и СС», – так писал Геринг, см.: Aufbau einer Nation, S. 84.]
Особое внимание Геринга было направлено на управления полиции, руководство которых он за короткое время укомплектовал командирами СА высокого ранга. 17 февраля он обязал полицию своим приказом «установить отношения наилучшего взаимодействия с национальными формированиями (СА, СС, „Стальной шлем“), а в отношении же левых „применять в случае необходимости оружие без малейших колебаний“: „Каждая пуля, – так предельно откровенно он подтвердил это распоряжение в произнесённой позже речи, – которая будет выпущена из ствола полицейского пистолета, выпущена мной. Если это называть убийством, то считайте, что это убийство совершил я, все это приказано мною, это я беру на себя“. Из невзрачного второразрядного ведомства в берлинском управлении полиции, которое занималось надзором за антиконституционными действиями, начало формироваться гестапо (государственная тайная полиция), аппарат которого уже четырьмя годами позже имел бюджет в сорок раз больше прежнего и располагал только в Берлине четырьмя тысячами чиновников[393 - Bracher К. D. Machtergreifung, S. 73; затем: Crankshaw E. Die Gestapo, S. 35 ff., где даётся картина этого роста. Высказывание Геринга см.: Aufbau einer Nation, S. 86 f.]. 22 февраля «для разгрузки линейных подразделений полиции при особых ситуациях» Геринг отдал распоряжение об образовании насчитывающей около 50 тысяч вспомогательной полиции, прежде всего за счёт личного состава СА и СС, открыто покончив с фикцией нейтральной полиции и заменив её выполнением функций террора в интересах одной партии. Белая повязка на рукаве, резиновая дубинка и пистолет отныне делали законными дикие аресты и произвол партийной армии, возводя их в ранг правомочных действий на службе государству. «Мои меры, – заверял Геринг в одном из своих заявлений тех дней, в которых витает дух упоения насилием, – не будут страдать боязнью нарушить в чём-то юридические нормы. Мои меры не будут страдать болезнью какой-либо бюрократии. Моё дело здесь – не блюсти справедливость, а уничтожать и истреблять – и баста».[394 - Из выступления на митинге НСДАП во Франкфурте-на-Майне 3. 03. 1933 г.: Goering H. Reden und Aufsaetze. Muenchen, 1930, S. 27.]
Тем самым объявлялась война прежде всего коммунистам, которые были не только принципиальными противниками, но и определяли формирование большинства в будущем рейхстаге. Уже спустя три дня после создания правительства Геринг запретил в Пруссии все митинги коммунистов, после того как КПГ призвала к всеобщей забастовке и демонстрациям. Тихая гражданская война тем не менее продолжалась, только в первые дни февраля в результате столкновений пятнадцать человек погибло и примерно в десять раз больше было ранено. 24 февраля полиция в ходе рассчитанной на внешний эффект акции захватила здание ЦК КПГ, дом Карла Либкнехта на Бюловплац в Берлине, которое, правда, руководство компартии давно покинуло. И уже на следующий день печать и радио сообщали о сенсационной находке «многих сотен центнеров материала, свидетельствовавшего о замышлявшейся государственной измене», что позволило снабдить национал-социалистических агитаторов написанными леденящими душу красками жуткими картинами коммунистической революции. Сам материал, правда никогда не был опубликован: «террористические акты против отдельных вождей народа и руководителей государства, выведение из строя жизненно важных предприятий и публичных зданий, отравление целых групп лиц, которых они особенно боялись, захват заложников, жён и детей выдающихся деятелей должны были запугать народ, приведя его в ужас», – говорилось в докладе полиции. Тем не менее КПГ не запрещали, чтобы не толкнуть её избирателей в объятия СДПГ.
Тем временем национал-социалисты взвинтили свои пропагандистские мероприятия до самой шумной и безудержной предвыборной борьбы тех лет. Гитлер, который опять был самым мощным фактором воздействия на людей, лично открыл кампанию большой речью в берлинском Дворце спорта, которая в обильном потоке слов повторяла старые проклятья четырнадцати годам позора и нищеты, старые идеи непримиримости к ноябрьским преступникам и партиям прежней системы, равно как и старые формулы спасения страны и заканчивалась пламенной парафразой «Отче наш»: он, кричал Гитлер, «непоколебимо убеждён в том, что настанет час, когда миллионы тех, кто нас ненавидит, встанут за нами и вместе с нами будут приветствовать сообща созданный, завоёванный в тяжелейшей борьбе, выстраданный нами новый германский рейх Величия и Чести, Мощи, Великолепия и Справедливости. Аминь!»[395 - Domarus M. Op. cit. S. 208.] Опять в ход были пущены все технические средства, на это раз уже с опорой на престиж государства и его поддержку, страну захватил пароксизм воззваний, опять Гитлер летал по всей Германии; разработанный Геббельсом план предусматривал как можно более широкое использование радио, «которое наши противники не умели применить с толком, – писал шеф пропаганды, – тем лучше должны освоить работу с ним мы». Выступления Гитлера во всех городах должны были транслироваться передвижными радиостанциями: «Мы будем осуществлять трансляцию непосредственно из толщи народа, давая слушателю яркую картину происходящего на наших собраниях. Я сам буду предварять каждую речь фюрера вступлением, в котором я постараюсь донести до слушателя магию и атмосферу наших массовых митингов».[396 - Goebbels J. Kaiserhof, S. 256 f.]
Значительная часть средств для предвыборной кампании была собрана благодаря мероприятию, на которое Геринг пригласил 20 февраля во дворец рейхспрезидента ведущих промышленников. Среди участников встречи – их было около двадцати пяти – находились Яльмар Шахт, Крупп фон Болен, Альберт Феглер из «Ферайнигте Штальверке», Георг фон Шницлер из концерна «ИГ Фарбениндустри», Курт фон Шрёдер, представители тяжёлой, горной промышленности и банков. В своей речи Гитлер опять подробно проанализировал антагонизм между авторитарной предпринимательской идеологией и тем демократическим строем, который он с издёвкой назвал политической организацией слабости и упадка, он превозносил жёстко организованное идеологизированное государство как единственную возможность устоять перед лицом коммунистической угрозы и превозносил право отдельной великой личности. Он более не желает, продолжал Гитлер, зависеть от терпимости партии Центра, от поддержки Гугенберга и дойч-националов, и он должен сперва завоевать всю власть, чтобы окончательно раздавить противника. Словами, в которых не было и тени стремления оставаться в рамках легальности, он призвал своих слушателей к финансовым пожертвованиям: «Сейчас мы стоим накануне последних выборов. Каким бы ни был их итог, назад пути больше нет… Так или иначе, если положение не разрешится при помощи выборов, то развязка произойдёт другим путём». В заключение Геринг заявил, что запрашиваемые финансовые пожертвования «будут даны промышленностью тем легче, чем скорее она осознает, что выборы 5 марта наверняка будут последними в ближайшие десять лет, а возможно и на ближайшие сто лет». Затем Шахт обратился к собравшимся с возгласом «А теперь, господа, пора раскошеливаться!» и предложил создать «предвыборную кассу», в которую он за короткое время собрал среди ведущих промышленных компаний по меньшей мере три миллиона марок, а может быть и больше.[397 - О проведении и значении этого мероприятия стало известно лишь во время Нюрнбергского процесса; см. конкретные детали: IMT, Bd. XXXV, S. 42 if. А также: IMT, Bd. V, S. 497ff, затем: Bd. XXXVI, S. 520 ff.]
Гитлер в значительной степени отошёл от прежней сдержанности и в предвыборных речах. «Время интернационалистской болтовни и обещаний примирения народов кончилось, на смену ему пришло время немецкого народного сообщества», – воскликнул он в Касселе; в Штутгарте он обещал «выжечь калёным железом явления разложения и обезвредить яд»; он преисполнен решимости «ни в коем случае не допустить возврата Германии к прежним порядкам». Он тщательно избегал изложения каких бы то ни было программных позиций («мы не хотим лгать и мы не хотим жульничать… раздавая дешёвые обещания»), конкретно он формулировал только одно намерение – «никогда, никогда… не отступать от задачи истребить в Германии марксизм и сопутствующие ему явления»; «первый пункт» его программы – призыв к противникам «Похороните все иллюзии!» Через четыре года он будет держать ответ перед немецким народом, а не перед партиями, развалившими страну; вот тогда пусть будет судьёй народ – и никто иной, воскликнул он богохульно с надрывом, на который его в те дни часто толкала самооценка себя как мессии, «по мне, пусть народ меня распнёт, если он решит, что я не выполнил своего долга».[398 - См.: Domarus M. Op. cit. S. 214, 207, 209, 211; затем: Baynes N. Op. cit., Vol. I, p. 252, 238.]
Концепция легальной революции предусматривала расправу с противником не посредством открытого террора и мер запрета, а постоянной провокацией его на акты применения насилия, чтобы он сам создавал предлоги для законных мер подавления и их оправдания. Геббельс описал этот тактический метод уже в дневниковой записи от 31 января: «Пока мы хотим не прибегать к прямым контрмерам (против коммунистов). Пусть сперва вспыхнет пламя большевистской попытки осуществить революцию. А потом мы в подходящий момент нанесём удар»[399 - Goebbels J. Kaiserhof, S. 254.]. Это была старая гитлеровская идеальная революционная схема расстановки сил: его призывают на помощь как последнюю кандидатуру спасителя, к которой люди отчаянно рвутся всей душой, в кульминационный момент попытки коммунистического переворота, чтобы в драматической схватке уничтожить мощного врага, покончить с хаосом и обрести легитимность и уважение среди масс в качестве вызывающей ликование силы порядка. Поэтому уже на первом заседании кабинета 30 января он отклонил требование Гугенберга, не долго думая запретить компартию, забрать себе её депутатские мандаты и обеспечить таким образом себе большинство в рейхстаге, в силу чего новые выборы стали бы излишними.
Однако его мучило опасение, что коммунисты вообще не способны на широкомасштабную, энергичную акцию восстания. Он уже и до того порой высказывал сомнения в их революционной силе, такой же позиции, кстати, придерживался и Геббельс, который в начале 1932 года не видел в них опасности[400 - Ibid. S. 86, По поводу сомнений Гитлера в революционной силе марксизма см. его выступление на совещании объединения партийных руководителей Тюрингии в начале 1927 года: Jacobsen H.-A., Jochmann W. Op. cit., «Начало 1927 г.» S. 2. На фоне этих и подобных высказываний по разным поводам следует особое внимание обратить на бытующий ещё и поныне, особенно рьяно пропагандировавшийся именно Гитлером и Геббельсом аргумент, будто бы перед Германией стояла тогда неизбежная альтернатива: коммунизм или национал-социализм. Об упоминаемых выше слухах насчёт покушения см.: Goebbels J. Kaiserhof, S. 294.]. Действительно, потребовались известные пропагандистские усилия, чтобы стилизовать их образ под тот призрак, как это им самим хотелось бы в соответствии с их свидетельством о рождении[401 - Имеется в виду «Манифест Коммунистической партии». – Примеч. ред.]. Намёки на найденные в здании ЦК центнеры революционного материала служили этой установке, так же как и ходившие с середины февраля многочисленные, явно инспирированные самими национал-социалистами слухи о предстоящем покушении на Гитлера. Повисший в воздухе в 1918 году вопрос Розы Люксембург «Германский пролетариат – ну где же ты?» – остался и на этот раз без ответа. Хотя в первые недели февраля дело в ряде случаев доходило до уличных побоищ, они все же носили характер стычек явно местного характера, а никаких хотя бы самых призрачных свидетельств крупномасштабной, централизованно управляемой попытки восстания, благодаря которой можно было бы насаждать стимулирующие комплексы страха, не было. Причиной тому были не только депрессия и истощение энергии рабочих вообще, что, естественно, сильнее всего сказалось на коммунистах, но и доходившее прямо-таки до гротеска заблуждение их руководства в оценке исторической ситуации. Не обращая никакого внимания на преследования и мучения, на бегство многочисленных товарищей и массовый отток своих сторонников, коммунисты продолжали считать, что их основной противник – социал-демократия, что нет разницы между фашизмом и парламентской демократией, что Гитлер всего-навсего марионетка, что если он придёт к власти, то тем самым только приблизит власть коммунизма, а на нынешней стадии высшая революционная добродетель – терпение.
Эти тактические просчёты были, очевидно, отражением глубинного процесса смещения центров власти. Один из необычных моментов захвата власти состоял в том, что враг, существование которого было так долго в психологическом плане стимулом жизни национал-социализма, в решающей степени вдохновляло его и позволило вырасти в могучую силу, в момент решающей схватки не вышел на арену. Ещё недавно представлявший собой мощно действующую угрозу, наводивший ужас на буржуазию многомиллионный отряд сторонников коммунистов вдруг испарился – без какого-либо признака сопротивления, действия, сигнала. Если верно, что о фашизме нельзя говорить, не рассуждая как о капитализме, так и о коммунизме[402 - См. в этой связи: Nolte E. Kapitalismus – Marxismus – Paschismus. In: Merkur, 1973, H. 2, S. Ill ff.], то теперь после окончания одной связи исторически перестала существовать и другая: с этого момента фашизм уже не был ни инструментом, ни отрицанием, ни зеркальным отражением; в дни захвата власти он пережил как бы вступление во власть на основании своих собственных прав. В Германии коммунизм так больше и не появился на сцене в качестве провоцирующей контрсилы до самого конца фашизма.
На этом фоне надо рассматривать драматический, по сути дела уже закрепивший захват власти Гитлером пожар рейхстага 27 февраля 1933 года, этот фон определяет и многолетнюю дискуссию об ответственности за него. Коммунисты постоянно горячо отрицали какую-либо причастность к поджогу, и действительно, у них для этого не было никакого мотива; партия со сломленной волей к самоутверждению не могла подать такой грандиозный сигнал к переходу в наступление. Ответственность национал-социалистов можно было убедительно обосновать как раз потому, что пожар так превосходно вписывался в картину революционного нетерпения Гитлера. Долго считался потом бесспорным тезис об их вине, хотя отдельные вопросы оставались невыясненными, и было видно, что спор ведётся с подставными свидетелями и сфабрикованными документами. Сопровождавшие эти события обстоятельства из криминальной сферы также давали благодатную почву для воображения честолюбивых летописцев, так что происшедшее оказалось покрытым мощным слоем отчасти поверхностной, отчасти дерзкой сознательной лжи и стало представляться искажённым даже в его самоочевидных аспектах.
Значение и заслуга известного исследования, опубликованного Фрицем Тобиасом в начале 60-х годов, заключались прежде всего в том, что оно детально и предметно вскрывало многочисленные грубые измышления, продиктованные партийными интересами или же только живой фантазией авторов легенд. Выходящий за рамки упоминавшихся предположений тезис, что не национал-социалисты, а схваченный в горящем рейхстаге потный, полуголый и восклицавший заплетающимся языком «Протест! Протест!» голландец Маринус ван дер Люббе был ни с кем не связанным преступником-одиночкой, обоснована точнее и убедительнее, чем какая-либо другая версия события, но всё же оставались немалые сомнения, которые поддерживали огонь горячо шедших много лет споров[403 - Tobias P. Der Reichstagsbrand. Если верить много численным сообщениям, которые, правда, на момент окончания работы над рукописью ещё не были как следует проверены, Эдуард Чалич и возглавляемый им «Европейский комитет по научному изучению причин и последствий второй мировой войны» придерживаются противоположной точки зрения. См. в этой связи, напр., также: Mommsen H. Der Reichstagsbrand und seine politischen Folgen. In: VJHfZ, 1964, H. 4 и статью того же автора в: Die Zeit, 26. 02. 1971, S. 11. И на самом деле кажется сомнительным, что ван дер Люббе смог в одиночку и в течение всего лишь нескольких минут создать столько крупных очагов возгорания и, опять же, как увязать смелость и расчётливую осмотрительность этого поступка с тремя другими явно неумело организованными поджогами, которые ван дер Люббе устроил в тот же день.]. Приводившиеся при этом доводы «за» и «против», весомость аргументов в нашем контексте к делу отношения не имеет, ибо вопрос о том, кто устроил поджог, – это вопрос криминалистики и имеет для исторического понимания процесса захвата власти второстепенное значение. Мгновенно использовав данное событие для реализации планов установления своей диктатуры, национал-социалисты так или иначе взяли это преступление на свою совесть, обнаружили своё соучастие в том смысле, который не в силах затронуть споры о признаках состава преступления и вопрос о виновном в нём. В Нюрнберге Геринг признался, что аресты и преследования были бы проведены в любом случае, пожар рейхстага их только ускорил.[404 - См.: IMT, Bd. IX, S. 481 f., а также документ PS-3593. Геринг, кстати, до самого конца решительно отрицал какое-либо своё участие в поджоге и – что вполне убедительно – заметил, что ему не нужно было никаких особых поводов для расправы над коммунистами. «На их счёту было столько вины, а их преступление столь огромно, что я без какого-либо дополнительного предлога был полон решимости и желания начать беспощадную войну по искоренению этой чумы всеми находившимися в моём распоряжении средствами власти. Напротив, как я уже заявлял на процессе о поджоге рейхстага, этот пожар, вынудивший меня к срочному принятию мер, был для меня крайне нежелателен, поскольку он заставил меня действовать раньше запланированного срока и ещё до того, как я закончил все необходимые приготовления». См.: Aufbau einer Nation, S. 93 f.]
Решения о первых шагах в сложившейся обстановке были приняты уже на месте события. Гитлер проводил вечер на квартире Геббельса на Рейхсканцлерплац, когда позвонил Ханфштенгль и доложил, что рейхстаг охвачен пламенем. Полагая, что эта информация является «несуразным плодом чьей-то буйной фантазии», Геббельс сперва не стал информировать об этом Гитлера. И только когда вскоре поступило подтверждение известия, он передал его. Спонтанное восклицание Гитлера «Теперь они у меня не выкрутятся!» уже предвещало, как он собирался использовать случившееся в тактическом и агитационном плане. Оба тут же «помчались на скорости 100 км в час по Шарлоттенбургскому шоссе к рейхстагу» и добрались, перешагивая через толстые пожарные рукава, до большой крытой галереи. Здесь они встретили Геринга, который прибыл туда первым и «в сильном возбуждении» уже объявил происшедшее организованной политической акцией коммунистов, эта установка с данного момента и предопределяла формирование политического, журналистского и криминалистического мнения. Один из тогдашних сотрудников Геринга, который позже стал первым руководителем гестапо, Рудольф Дильс, рассказывает, что происходило на месте преступления:
«Когда я вошёл, ко мне приблизился Геринг. В его голосе звучал весь судьбоносный пафос этого драматического часа: „Это начало коммунистического восстания, они пошли в бой! Нельзя терять ни минуты!“