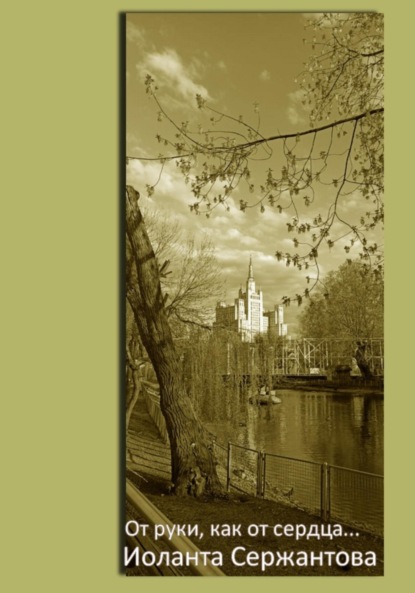По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От руки, как от сердца…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иной громкий звук в доме казался непристойным, неуместным, чрезмерным, а для одного томящегося в четырёх стенах и вовсе непозволительным.
Тон моей размеренной жизни задавали старые ходики, чей простуженный бой расстроился ещё в прошлом веке, так что я не мог уже даже припомнить его мелодии. Кажется только, бабушка морщилась из-за него всякий раз, будто от зубной боли, а дед, воскликнув: «ЧертовА!» отправлялся за чем-нибудь ненужным во двор, громко стуча ногами. Ходики были испорчены намеренно или ответили тем на непонимание их музыкальной темы? – то не задержалось в моей памяти. Знаю лишь, что, не в пример взрослым, блаженная улыбка озаряла моё лицо при первых звуках колокольчиков, сокрытых в глубине механизма.
Теперь, когда я и сам стал немножко старым, догадываюсь, отчего дед с бабой так нервничали тогда. Часы топтались подле их жизни, словно подгоняя к её завершению, да и четверти они били не абы как, но с оттяжкой, будто розгами.
Во мне самом, шарканье минут и заикание стрелок отзывались совсем по-другому, скорее всего, именно от того, что не могли быть ничем, кроме как напоминанием о детстве.
Помимо тиканья, другим разрешённым беспорядком в моём доме была закипающая в чайнике вода. Её возмущение я был готов терпеть любое количество раз в течение дня. Ну, а неизменное стенание пламени в печи, разумеется, за помеху сойти не могло никак, ибо с возрастом мне, как и многим до, перестало хватать собственного тепла.
И вот, такой нежданный случай. Этот весенний шмель, наскучив унылым моим видом и порешив покончить с ним, вызволить из добровольного заточения, стучался в окошко, перебрав цветочной пыльцы, как храбрости. И едва я вышел, но испугавшись обилию звуков, что содержал простор, попытался даже бежать от него, был остановлен всё тем же шмелём.
Неведомым, невиданным мне порывом, он принудил птиц умерить свой пыл и шуметь не враз, отчего, сам не понимая как, я помаленьку начал различать голоса. Направляя взор туда, откуда струилась мелодия, примечал исполнителя, различал и мотив, и нарисованную им картину. Но которая из птиц не вступала бы после предыдущей, в каждой я находил малую каплю от того колокольного перезвона, что чудился в детстве возле ходиков, перед тем, как те прочищали горло, дабы спеть.
Жизнь течёт и вблизи хода часов, и вдали от них. Но пусть уготованный нам испуг поджидает за очередным их ударом, не станем торопить его, он явится и без того, в свой, известный ему одному час.
Судьбе в угоду
– Ты гляди, каково великолепие! Солнышко ещё не укрылось за лесом у горизонта, как за тенником, только-только принялось палить его край, а напротив него, уже показалась луна. Полупрозрачная, как обмылок с острыми краями, которым обводят по выкройке, когда шьют для господ, дабы не портить штуки холста, пачкая его мелом.
– То ночь оставила на небе след. Что ли руки были в муке?..
– Ну, так лишь бы сердце не в мУке. Отзывчивый сострадает не шутя, позабыв об себе, по всему округ.
– Собой бы лучше занят был, и то больше пользы.
– Всё б тебе ворчать! Когда другими озабочен, до себя дела нет.
– А вот это вовсе не годится. Себя надобно беречь, каждый для чего-то, недаром, неспроста.
– О… Завёл шарманку! Да как узнаешь, на что годишься?! Сродники от своего дела не отпустят, не для того плодились, а чтобы облегчение сделать общего труда, да на старости лет было кому хлеба подать, ковш воды, ну и глаза закрыть, когда время придёт.
– Тебя послушаешь, выть хочется. Оно понятно, что у родни своя корысть и заботы, так кто послабже характером, пущай подле семейства и трётся, а которому свобода дороже, тому почёт. Сумел, значит, не посрамил судьбы.
– Ладно, пора мне, да и тебе тоже, не до ночи же нам тут с тобой лясы точить.
Кликнув собакам, разобрали мужики каждый своих коров, да разошлись по разные стороны. Они были родными братьями, но только один пас своё стадо, а другой, что ушёл парнишкой на вольные хлеба, собирал его по дворам и получал подённо с каждого. Потрафил он судьбе или наоборот, судить не возьмусь, со стороны виднее.
Некстати
Аист с клювом в пол-аршина[42 - аршин равен 0,711 метра] или в половину шага вольного человека степенно, в обе стороны прохаживался по дороге у болота, словно поджидал кого. Опасаясь его не напугать, но спугнуть, я остановился. Завидев же меня, аист перестал ходить, и подобрав из травы намеренно припасённую лягушку, вялую от ужаса, длинную из-за того, подбросил её в воздух и проглотил одним махом.
После он не щурился дерзко в мою сторону, не притворялся, что дорога совершенно безлюдна. Казалось, он уже проделал то, что намеревался, а сочтя миссию выполненной, пережил краткую неловкость непростого разбега и полетел. Легко, непринуждённо, с достоинством, неким явным проявлением отстранённости от земных загадок и сомнений.
Глядя аисту вослед, я, как показалось некстати, вспомнил, что недавно видел непоправимо искалеченную людьми змею. На мой вопрос «Зачем?!», они хохотнули победно:
– А она лежала на солнышке, грелась, так мы её лопатой, лопатой!
И столько злорадства было в тех словах…
Лишённая всякого смысла жестокость ужасает. Вынужденная – и та приносит немало страданий, а эта… Как справится с нею? Как уберечься и добиться неповторения !?
…Во вмятину луны набралось довольно серебряной росы, как дождевой воды в след от копытца. Окажись подле той блестящей лужицы змея, напилась бы она вдоволь, улеглась бы на чистом, выбеленном солнцем камешке, и никто б ей не причинил никакого вреда.
ХитрО…
Простывший где-то на северах ветер делился холодом с округой, ныл капризно, да сдувал цветы вишнёвых дерев, словно огонь со свечи. Но ежели пламя обыкновенно сдаётся не разом, а врастая в фитиль держится за него до последнего, то цветы не видели пользы в своём упорстве. Они сделались вялы, ибо ветер лишил их большей части нектара, как жизни, и в пустых их ладонях шмели, пчёлы и осы не отыщут уже ничего.
Из-за метели белых лепестков, поседевшая не ко времени окрестность казалась в сумерках покрытой снегом, а присевший перед окном серый снегирь почудился слетевшим с наспех, криво вырванного календарного листа, так что не разобрать на нём теперь ни года, ни даты, ни праздничный нынче день, либо будний.
Скрипя крылами, как ветер створкой двери, к закрытию дня спешила на болото утка. Заполошный её крик спугнул снегиря, невозвратно испортив картину. В чёрно-белой её палитре всего было поровну, и каждый отдавал выделял для себя цвет, подстать своему, глубинному, что неизбежно выдавало характер и свойство[43 - Отношения между супругом и кровными родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов, возникающие из брачного союза.], но не как особенную черту, но вынужденное родство.
Однако… Стынут души на ветру. Вот оно как хитрО…
Маца…
Ни в одной из статей про известных советских хоккеистов, братьях Майоровых не упомянуто про то, что они были учениками школы номер четыре города Вильнюса. Той самой, которая получила имя молодого генерала, Ивана Даниловича Черняховского. И не рассказывали знаменитые хоккеисты, как стояли они, насупив брови, в тот день, когда приехала к ним в школу, на открытие памятника мужу, поседевшая в одночасье вдова героя, и отстранившись от тесной толпы, зябла в нервной горячке, опустошённая навечно. Рыдая горько и беззвучно, не выпуская руки дочери из своей, она нисколько не смущалась несчастным своим видом. Ну, а с чего ей было б стесняться теперь? Кого?!
Там же, среди учеников школы, находился и Эдик Марцевич[44 - Эдуард Марцевич. Советский и российский актёр театра и кино, педагог. Народный артист РСФСР. Член КПСС с 1967 года]. В ужасе от очевидной скоротечности бытия, он невольно приник к несокрытой правде жизни, как к реке, по-оленьи, на коленях, и после, в актёрстве своём не был вполне лицедеем никогда, скорее сострадальцем. Та, перенесённая на ногах боль, заледенела в его глазах невыплаканными слезами…
Отчего мне ведомо это?! От отца, что стоял тринадцатилетним в том же строю, крошил зубы в бессилии и жалости к красивой вдове генерала и его дочери.
И всё, что было до того дня, показалось таким пошлым… Ночёвки на кладбищах Вильнюса на спор с ребятами, – Борькой, Женькой[45 - братья-близнецы Майоровы, советские хоккеисты] и Эдиком, – лазанья в подвалы, чтение книг взахлёб… даже то, как собирали они диковинные марки, сдирая их с открыток, найденных в сумках висельников, немцев, а после забегали пожевать вкусную мацу, пресные еврейские лепёшки, которые пекла мама и бабушка однокашника.
Для чего школам дают имена героев? Ну, не для одного ж красивого слога! А для чего – о том молчат. И канет несказанное в Лету, и будет позабыто многое из того, о чём не помнить нельзя.
Сдержанные мальчишками, невыплаканные слёзы цепляют заусеницами за душу, рвут сердце, напоминая людям, какими они должны быть.
– Не пиши, о чём не знаешь. – Сказал бы отец.
Ну, а кто сделает это, если не я?! То-то и оно…
notes
Примечания
1
призма, трёхгранник
2
елисейские поля – греческая мифология
3
Robert Franklin Leslie «The Bears and I» Ballantine Books, New York, 1974
4