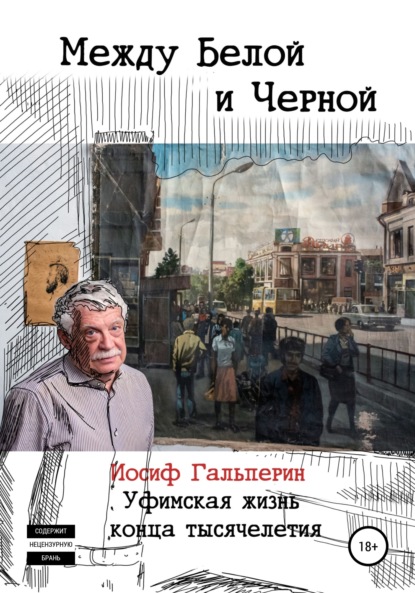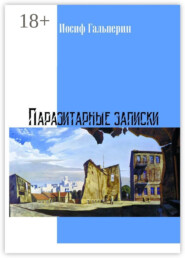По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Между Белой и Черной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Могли бы ведь, гады, за свою зарплату и прочие комсомольские льготы раз в году подвести к комбайну бидон с супом, а к трактору – солярку, заодно рассказать, что в соседнем колхозе валки лежат дольше. И бог с ним, с социалистическим соревнованием! Но вот этих последних, в любом смысле, слов я, конечно, не написал. Поскольку и сам верил, что молодым комбайнерам и трактористам интересно узнать под дождем, кто из них больше намолотил.
Правду сказать, разволновался я еще и по личной причине. Из-за голода. В те годы жителям больших городов, не имевшим дачных участков, еды перепадало мало: магазины пустовали, а на базаре мясо кончалось к часу дня. Был, если не упускать детали, еще кооперативный магазин, один на весь миллионный город, но там к открытию собиралась такая толпа почти профессиональных покупательниц, что мы туда не совались.
Так что отъедался я в командировках, в задних комнатах районных столовых, если везло и задание было хвалить. Иногда удавалось и домой чего-нибудь купить. Помню, в целинном совхозе разрешили продать мне барана, так мы с ним вдвоем и занимали соседние кресла в Ан-24. Он, правда, в бумажном мешке, из которого торчали ободранные ноги. Барана мы ели ползимы, смаковали. А когда собирался в первую московскую командировку и спросил дочек, что привезти из гостинцев, пятилетняя Маша мгновенно воскликнула: «Сосисочек!» А я-то думал, наивный, каких-нибудь конфет…
Поэтому я очень лично воспринимал все, что очевидно не способствовало выполнению Продовольственной программы ЦК КПСС (кстати, на ее выполнение и был поставлен секретарем ЦК Горбачев). Хотя и не особенно надеялся на ее осуществимость.
Заметка вышла накануне областного комсомольского пленума, в результате большая часть его повестки была смята обсуждением заметочки. Клеветника, то есть меня, за подрыв этой самой Продовольственной программы и авторитета комсомольских и прочих директивных органов тут же предложили выгнать из газеты и ходатайствовать об исключении из партии. Слава богу, я в нее не вступал. Спасло положение упрямство Вазира и путаность показаний аскинских райкомовцев. К ним выслали комиссию, и она подтвердила мою правоту. Весь райком, от первого секретаря до бухгалтерши, выгнали с работы.
Должен сказать, что это была не последняя моя заметка об Аскинским районе, одно время в редакции по инициативе боевой Зили Нурмухаметовой его так и называли: «Оськинский». Я писал о людях, которые мне понравились своей спокойной основательностью, о «святом ключе», который бил серебряной водой на болоте близко от границы Башкирии и Пермской области, о музейчике в районном ДК. Больше всего хотелось писать о дневнике сельского попа середины 20-х годов 20-го же века, в музее можно было его основательно полистать. Поп ясно и понятно писал о налогах и урожаях, о погоде и прихожанах, там была ощутимая жизнь. Совсем не похожая на жизнь райкома…
Но на этом история с ним, райкомом, не кончилась, начались неожиданные последствия. Мой начальник, завотделом комсомольской жизни, который в ту пору ходил с красной папочкой подмышкой, а в далеком будущем стал заведовать бюро радио «Свобода», написал об этом случае ударной газетно-аппаратной службы в «Комсомолку». В ЦК ВЛКСМ как раз не знали, чем заняться, и решили провести пленум, посвященный работе комсомольских органов со своей печатью. В Уфе высадился десант для изучения опыта. Кроме моей заметки изучать особо нечего было, но специалисты из комиссии дело знали туго, умели из случая сделать глобальные выводы.
Собрали всю редакцию, стали представляться. Почти во всех смыслах этого слова. Понятно, что собирались изучать девушка из «Комсомолки» и парень из орготдела, но зачем приехала аспирантка философского, кажется, факультета? «Я занимаюсь социопсихолингвистикой , – сообщила она. – А-а, понимаем – лихопингвистикой!» – уточнил Серега Дулов, завотделом спорта. Девушек из комиссии наши парни задобрили до того, что они подготовили специальное постановление ЦК ВЛКСМ об удачном опыте взаимодействия газеты и обкома. Спустя какое-то время мой завотделом стал собкором «Комсомолки», куда я вместе с ним писал его первые заметки, а мне выдали нагрудный знак отличия.
Ну и чтобы сильно не обижался, стали посылать на всякие сборища, в том числе и в Баку. А до этого, правда, определили на полгода учиться в Высшую комсомольскую школу, повышать квалификацию, сочетая теорию с практикой. Это были самые страшные мои московские полгода. Я даже обрадовался, что по итогам обучения и стажировки не попал в штат «Комсомолки». И не порадовался когда-то любимому городу, а ныне олимпийской столице.
Раньше, когда Люба училась в Москве, а я работал в Уфе, я даже часы на уфимское время не переводил. Придумывал себе репортерские командировки – то бригадиром проводников поезда «Башкирия», то встречал Новый год на борту самолета – лишь бы попасть в Москву, там Люба, Ваня Жданов, машинописные самиздатские тексты. Настоящая жизнь, где можно думать и чувствовать наново, а не по кругу. Теперь же вместо Вани и друзей нарвался на прием в ЦК комсомола завсектором печати: моложе меня, краснощекий Геннадий Селезнев, прозрачные, без содержания, глаза и резко надеваемая двусмысленная сладкая улыбка. Вроде из приличной газеты парень, из ленинградской «Смены», а несет такую же чушь, как потертые лекторы ВКШ. Почти через двадцать лет он, председатель Госдумы, захотел стать губернатором Подмосковья, а я радовался, что удалось приложить руку к тому, чтобы это желание не исполнилось. Не знаю, может быть, он был бы и не худшим правителем, чем победивший его с моей помощью соперник, но мне было бы противнее.
В комсомольской общаге на улице Юности гудело какое-то озлобленное, по отношению к собственным организмам, пьянство. И с таким блядством я до той поры не сталкивался. Помню, под утро как-то особенно ярко закричала дамочка в соседнем блоке общежития: уже в процессе взаимного удовольствия разглядела, что делит его не с мужем, который привиделся со сна, а с полузнакомым поляком, которого в постель не приглашала.
Поляки тогда в ВКШ вообще с винта сорвались. У них на родине начала входить в силу «Солидарность», их спешно отзывали с учебы (на подмогу?), они целыми днями, когда не пили, распродавали шмотки. И не только аборигенам, ценившим даже польское за заграничное, но и, что поразило, друг другу! Сидят на кроватях напротив друг друга два польских функционера и показывают, одну тряпку за другой, содержимое своих чемоданов: это почем возьмешь?..
Из иностранцев особенно запомнились фарабундовцы. Наши коммунистические прогрессоры набрали в Сальвадоре человек четыреста недоростков (а может, просто недокормленных) и привезли этих партизан Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти (запомнил имечко в силу пародийности) в зимнюю Москву. Их название пародировало Фронт имени Сандино, который тогда только что успешно победил Сомосу в Никарагуа. Эта победа чужими революционными руками вдохновила наших говорунов-геополитиков, в том числе и лекторов ВКШ, на идею «падающего домино». Мол, вслед за Никарагуа падет империализм в Сальвадоре, затем в Гондурасе, там уже и Мексика видна, ну а за Мексикой – сами знаете что…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: