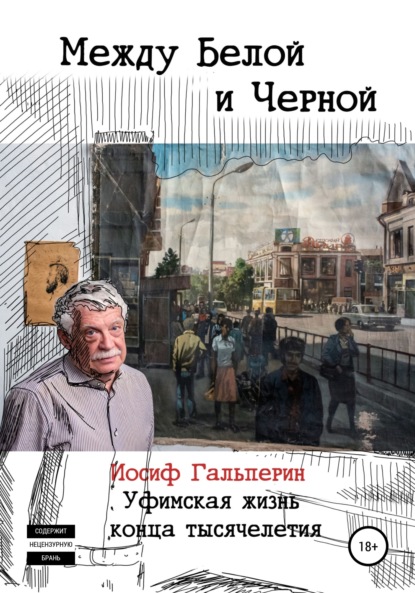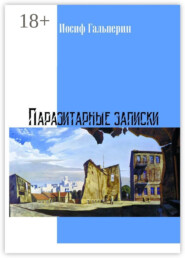По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Между Белой и Черной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Потом этот черно-золотой коридор вернулся – уже в самом обыкновенном сне после моей командировки в прифронтовое Кодорское ущелье. Я даже стих о том сне написал (а о первом «сне» пишу впервые через тридцать лет), только вот не испытал эйфорию вновь. Сон, пусть и такой четкий, пусть и осознанный потом, и описанный, – это только сон, а не полет от своего наглядного тела.
Возвращался я и в больницу к Аркадию, полушутя радовался, что он специализировался на конечностях, а не на голове, не то страдал бы мой рабочий орган от имеющегося в больнице блата. Хворь переходила, как переминалась, с ноги на ногу, вот когда я снова вспомнил неунывающего соседа по палате! За пару лет я провел на костылях больше года. Меня переводили с этажа на этаж, из гнойной хирургии в ревматологию, а ноги продолжали пухнуть. Ко мне водили, как в анатомический театр, студентов-медиков целыми группами, накрашенные девичьи пальчики стройными фалангами погружались в мои инфильтраты. Раньше подобные подкожные рыхлые бугры они могли видеть только на иллюстрациях в учебниках. Иногда я оказывался дома, в отпуску. Поднимаясь на пятый этаж, промахнулся костылем мимо ступеньки – и вновь увидел контраст черноты и обжигающих звезд. Реальность искр из потемневших глаз была ощутима, как никогда: сломал нос в трех проекциях. …
Вылечился, лишь когда сам сообразил, что источник гнили – не в ногах. Рентген нашел гнойник под зубом, удалили – и долой костыли. Вот что значит, на самом деле, «в зуб ногой»! Теперь надо было учиться ходить, а ноги после гипса и инфильтратов походили на какой-нибудь пустой сказочно-восточный хурджум – кожаный мешок на палке. И я поехал в Крым, к родителям парня, которого недавно принял в редакцию после журфака. Прожил у них месяца полтора, дважды в день ходил на море, а оно было в четырех километрах от дома. Много плавал, особенно под водой, бил острогой рыбешек и таскал рапанов. Домой вернулся бронзовым не только по цвету и по собственным ощущениям гудящей силы – и на сторонний взгляд мускулы, казалось, колокольно звенели. Поэтому не составило труда уговорить Любу отпустить со мной на будущее лето дочек в Крым, в Приветное – в бывший татарский Ускут. Теперь Лиза каждый год вывозит туда свою семью, теперь она учит свою Варю жизни без удобств, как я учил тридцать лет назад ее.
Как раз Лиза и обусловила, непреднамеренно, мою вторую попытку вступить в контакт с чем-то запредельным. Она кончала школу, начиналось лето. Пошла в гости к подружкам. Исчезли они уже вместе. А вокруг Уфы именно в то лето стали находить следы деятельности маньяка, я по газетной привычке был хорошо о ней осведомлен. Две девочки растерзаны там-то, одна – там…
Самый дикий страх поднял волосы на затылке, но не парализовал. Я стал звонить по всему спектру правоохранителей, благо тогда у меня с башкирской милицией еще были деловые отношения. Батальон МВД вышел на прочесывание, на моей кухне присоединили к телефону редкую тогда штуку – определитель. Вдруг подружек похитили и бандиты захотят позвонить и потребовать выкуп. Резон был такой: по тем временам я был в республике заметной фигурой, дикие отморозки могли решить, что денег на дочку журналист найдет.
У определителя (такой громоздкий аппарат на холодильнике «Бирюса») остался дежурить оперативник, я выскочил во двор – хотелось то ли еще раз поспрашивать соседских девчонок, то ли просто побыть без наблюдающих глаз. От меня ничего в тот момент не зависело, все, что можно, я уже запустил в действие. Когда младшей дочери, Маше, делали операцию на горле, от меня тоже ничего не зависело, но она была в руках людей, которые точно не хотели ей зла. И когда она вернулась из больницы со шрамом на детской тонкой и длинной шее, вдруг навстречу ей выползла в коридор, шаркая когтями, ее черепаха Чапа. Среди зимы, в разгар спячки! Значит, живое чувствует беду. Может, оно способно её отвести? Я стоял у старого тополя во дворе нашей многоэтажки, наверное, он остался еще от старой жизни, от прежних частных домов, и я погладил его по шершавой коре: «Старик, если можешь помочь – спаси девочку, верни ее…»
Девчонки нашлись через двадцать часов после пропажи– они были на даче у знакомых, откуда нельзя было позвонить. Мобильных телефонов тогда не то что у нас – и в Японии не было.
8.
– Гаффууур! – выпевала Света молодому мужу, томно вытягивая в трубочку пухлые губы. Это были первые молодожены нового издательского дома, их дверь была напротив нашей на верхней площадке подъезда. Томность быстро истаивала, Гафур начал пить, за нашей дверью, прямо на площадке, иногда слышались скандалы. В квартире, которую получила мать молодой жены, скандалить было не с руки.
Однажды я поздно возвращался с дежурства по номеру, на перилах полусидел, пьяно пользуясь возможностями своих длинных ног, Гафур. Света ему что-то втолковывала. Спустя полчаса сквозь дверь донесся шум, через минуту позвонили. Это была Света, а внизу на ступеньках этажом ниже, прямо под перилами мычал Гафур. Я помог Свете его поднять и дотащить наверх, до квартиры, до постели.
Где-то уже ночью вновь звонок. На пороге неодетая Света: Гафуру плохо! Вызвала скорую с нашего телефона, а меня попросила помочь. Гафур не дышал, я стал массировать ему грудь, нажимал на ребра и тогда, когда пошла розовая пена с губ и мне стало ясно, что массирую я уже мертвого. Скорая подтвердила: упав метров с трех на ступеньки, он получил перелом основания черепа…
А через пару месяцев, возвращаясь с дежурства, я наткнулся на Свету, страстно шептавшую в объятиях незнакомого парня. Они стоя, не снимая пальто, приспособились стонать все на тех же ступеньках. Еще через пару месяцев парень стал новым мужем Светы.
И вот зачем, не отпускало меня, жил Гафур, зачем были у него такие длинные ноги, широкая улыбка и твердые ребра? Со временем пропало детективное желание приписать молодой жене вспышку ненависти, толкнувшую мужа через перила. Кажется, понял, что в любом случае, задуманном или нет, это выверт судьбы, кувырок ее по ступенькам. С тех пор я стал проговаривать про себя, представлять в картинках не свое внезапное, но возможное исчезновение, а как это может выглядеть со стороны. Собрал, обмозговал все впечатления от ранее виденных смертей, получил новый страх. Стал бояться умереть не подготовившимся, нелепо, некрасиво, грязно…
Проще всех умирал отец. До последнего взгляда, до последнего моргания, мига светились его светло-зелено-карие глаза, он уже не стеснялся немощи своего истонченного тела. К пятому (или шестому?) инфаркту накопился опыт пребывания в реанимации. Я три дня поил его соком из пакета (видишь, какую редкость для Уфы привез!), когда он забывался, читал книжку в мягкой обложке, вместо того, чтобы просто смотреть на него. Учиться. И еще, дурак, все еще не отошедший за неделю от «победы над красно-коричневыми», от удачи – никто так и не посмел штурмовать построенные по моей инициативе баррикады на Никольской, у здания «Эха Москвы» – гордился перед ним: смотри, меня узнал реаниматолог, вспомнил экологические митинги. Будто известность сына могла помочь отцу, если последняя артерия, способная принимать лекарства, – подключичная – отказывалась их нести рвущемуся сердцу. Руки мои ощутили слабый толчок – и все.
Мама пережила его ненадолго. Отхлопотала по памятнику, все еще переживая волю отца, оставившего место на кладбище для себя рядом с бабушкой, но не подумавшего о месте для матери. А потом мама тихо сказала, прямо подняв глаза: «Зачем мне жить?» Почему-то, вообще, от ушедших близких людей в памяти наиболее точно остались глаза. Наверное, потому, что жизнь была в них.
Мамина смерть пришлась на руки Лены. Мама всю жизнь вздрагивала, вспоминая страшную и долгую болезнь своей матери, легшую дополнительным камнем на ее эвакуированную юность. Диабет, ударивший по всему маминому организму, был по-другому страшен, но именно ожидавшиеся ею мучения ее миновали.
После этого я забыл молодые страхи, думать забыл, что умирание может быть физиологически противно самому, непрезентабельно выглядеть в глазах свидетелей, что боль заставит потерять лицо. Перемотав пленку памяти, по-другому стал видеть и смерти близких стариков: деда, бабушки, тети Сони. Понял и принял их стоицизм, глубину их фатализма, пусть и не всегда опиравшегося на помощь религии. Кажется, всем им в последнюю минуту помогала избежать отчаяния пустоты семья – ее хлопоты, само ее присутствие. Мать до конца были атеисткой, отец по крайней мере не прибегал к ритуалам, даже когда окончательно разуверился в коммунистических идолах и перестал отвергать мысль о боге.
Этой мыслью я пытался поддержать Сашу. Я раньше него узнал правду о диагнозе, отсчитывал месяцы и радовался их добавке, а он сперва не хотел верить очевидному, худел и желтел. Я писал для него не самые утешительные стихи, маскируя их под полуабстрактные образы: «выполнил земное постиженье – к небу поступай в ученики». Прилетел к нему в Уфу за пару недель до конца, мы и в «раковом корпусе», как всегда, прошлись в разговоре по всему фронту – от литсобытий до политики, от успехов детей до цен на продукты. Он поднял свои ставшие вдруг яркими глаза – и я, оторвав взгляды от его рук, превратившихся в палки, от катетера в животе, увидел несгибаемую силу жить до последней капли, вздрогнул, ощутив уровень мужества Касымова.
Такому не научишься, это надо скопить за душой. Это как переход через казавшуюся недостижимой грань таланта. Своих сегодняшних сил здесь может не хватить, разговоры не помогут, книжки тоже. Наверное, надо собрать все ночные мысли, замыслы, радость от их исполнения, горечь от их несбыточности, опоздавшее презрение к собственной лени. Вернуть все, что, казалось, разбазарил. И через сердце пустить по кругу кровообращения, чтобы уже ни на секунду не терять. До конца.
Впрочем, все-таки, учиться тоже можно. Учимся же мы, глядя на близких, даже когда нам не нравится что-то в их привычках – учимся «от противного». Боишься оказаться в их ситуации таким же. Как дед, скупым. И замечаешь за собой экономию жидкого мыла на кухне, никак не вызванную дедовой нищетой, в которой он прожил две трети жизни. И вдруг понимаешь, что внутренне, сам с собой, ты упрекаешь кого-то, как мать, своими благодеяниями. Или, наоборот, с усмешкой видишь себя прекраснодушным, как отец.
Страшно оказаться из-за своей лени безалаберным. Чего-то важного не понимающим, что видно всем вокруг, а ты, идиот, не замечаешь. Или путающим мелочь, частное, с большим общим целым. Боишься самообмана, самооправдания, переоценки. И не только потому, что это может плохо выглядеть со стороны (как ты это сейчас примечаешь за другими!), но и потому, что за душевную лень, невнимательность может покарать судьба.
Когда видишь чьи-то плохие качества, возникает страх-присматривание. Ведь журналистское, репортерское: «Если так может другой, значит, и я смогу!» способно обернуться снижающей фразой «Все мы люди…». Значит, и я способен струсить, продать, предать. Быть злым. И находишь в себе основание этому.
Сестра Ленка маленькая была неуправляемой. Скакала на диване, казалось, – часами, крича: «Пи-си-ми, пи-си-ми!», мы потом поняли, что словечко это означало «почему». Юный исследователь. И позже она меня иногда раздражала упрямым и долгим несовпадением настроений. Стою на крыльце подъезда, мне хочется бежать к ребятам, а она карабкается по скользким ступенькам и никуда идти от них не хочет. Присматривай тут за ней, чтоб не упала… И я толкнул ее, маленькую, с барьера крыльца! Она ударилась об лед головой. Как я потом боялся! Не только того, что из-за меня она будет теперь болеть, не только собственной внезапной злобы, это был страх перед нравственным осуждением: вдруг узнают, что у меня было внутри в ту минуту…
Осуществления многих страхов я уже избежал – по возрасту. Зато сохранил способность сострадать, которая подчас вымораживает страдание собственное. И осталась, уже холодная, привычка искать заранее дурные признаки, дурные предзнаменования – про запас. Чтобы потом сказать: я это предчувствовал!
Боясь будущего, я боюсь возможностей, но не считаю вероятностей. После аварии с первой машиной, когда только подрамник и толстое железо старого «Пежо» спасли всех нас и, в первую очередь, Любу от серьезных травм, я временами впадаю в мгновенную панику. Еще не выезжая со стоянки! Или сижу за рулем в пробке и вдруг теряю реальность – где это я? куда еду?
Представляя себе аварию до выезда на шоссе или в пробки, я резко увеличиваю в своем воображении вероятность. Суеверные люди считают, что вероятность повышается и в действительности, если говорить о будущей возможной беде. Практический смысл суеверия в том, что заранее переживать модальность негатива – значит, ухудшать сопротивляемость организма, значит, повышать вероятность беды.
Близок к этому и страх заводить привязанности: а вдруг придет разочарование? Или с животными: ведь они могут умереть раньше меня, мне придется это переживать, как уже приходилось с собакой, котом, черепахой. Поэтому с радостью завел попугайчика, думал, они лет на сорок заряжены. Потом узнал, что волнистые живут лет десять-двенадцать. А Петруша к нам на балкон прилетел, уже вполне оперившимся и самостоятельно говорящим, как раз лет двенадцать назад…
С Петрушей связан, пожалуй, самый физиологически сильный – животный! – страх в моей жизни. В ту субботу после долгих разговоров накануне с возлияниями в политтехнологической компании я с трудом разлепил глаз уже после полудня. Сразу обомлел: прямо напротив глаза сидит кто-то зелененький с хвостом и говорит мне, целя острым носом в зрачок: «Ну ты хоть что-нибудь помнишь?!». Я опять зажмурился и покрылся холодным потом: вот она, «белочка», белая горячка – допился до чертиков, зелененьких с хвостиком!
Спустя пару мгновений открыл осторожно тот же глаз, потом второй – Петруша, собака, сидит на расстоянии сантиметра! А у стены вдоль двери от хохота сползает Люба. Оказывается, попугай сидел на одеяле не один час, ожидая, пока я проснусь. И стоило мне приоткрыть глаз, как он тут же выдал кодовую, по его мнению, фразу. Накануне часа в два ночи я, рассупонившись при виде родного предбанника, пошел по стенке к открытой Любой двери. Она изумилась: «Как ты в таком виде до Митина добрался?», я честно сказал, что не помню. Тут вот она и выдала фразу, так запомнившуюся попугаю, сидевшему на ее плече.
Получается, если верить физиологическим ощущениям, что больше всего на свете я испугался потерять разум. Стать живым трупом. Хотя, может быть, физиологии в данном случае верить не нужно, дрожь и пот были вызваны похмельем…
20 ноября 2008 года.
Действительный залог
1.
У кого как, а у меня перестройка и Горбачев прочно связаны с дырявыми трениками.
Тогда Андропов только отправился на лафете к Кремлевской стене, и все без стеснения обсуждали, кто придет следующим генсеком. У меня это происходило в Баку, в гостинице, кажется, тогда «Интурист» или «Националь», которая считалась цековской и стояла на самой набережной у площади. Через шесть лет на площади начнутся митинги азербайджанцев, требующих независимости, а тогда висели красные лозунги. В 84-м Гейдар Алиев, уже перебравшийся в Москву, и его бакинские сменщики были лизоблюдно лояльны к советской империи, а наши гиды по азербайджанской столице с гордостью демонстрировали достижения республиканской промышленности. На каждом представляемом нам заводе экскурсию вел знающий человек. Обычно армянин.
Еще не оглушил Спитак, не ужаснул Сумгаит, не предъявил будущего Карабах… Я и представить себе не мог, что относительно скоро присланный из Москвы Примаков с помощью Лебедя и других полковников подавит танками мятеж в Баку, и пострадают не те, кто громил и убивал перед этим армян, а мирные жители. А я, вместе с несколькими сотнями не боящихся граждан, из-за этих событий буду призывать под стенами Кремля к отставке главного советского руководителя. Горбачева, о котором всерьез впервые подумал в Баку.
В гостинице вечером после обязательной программы общались участники всесоюзного сборища. Комсомол собрал для показа, как «широко шагает Азербайджан» (Л.И.Брежнев, монументальная цитата украшала многие бакинские здания), руководителей молодежной печати всей страны. Но умер наследник «железного Феликса» и появилась непредусмотренная программой тема для обсуждения. Так получилось, что я развивал эту тему в драных тренировочных штанах в беседе с двумя тонными высокопоставленными дамами, приятными если не во всех, то во многих отношениях.
Я не был главным редактором, был всего лишь ответственным секретарем башкирской молодежки, к тому же единственным в истории Союза беспартийным ответсеком республиканской газеты. Почему на встречу послали меня – отдельная тема, а пока можно добавить, что в силу своей неноменклатурности я не слишком обращал внимание на этикет. Поэтому, когда вечером дамы позвали меня на кофеек в свой номер, я и не подумал переодеться, рассчитывая, кроме прочего, что в сочетании с более юным, нежели у дам, возрастом, мои треники сделают вечер непринужденнее. А дырку намеревался прикрывать.
Дамы оказались дважды номенклатурными: кроме собственных высоких постов они были еще и женами высокопоставленных партийцев. С сожалением поглядывая на мои хлопчатобумажные, в обтяжку, рейтузы, забыв о кофе, они с жаром принялись рассказывать, насколько хорош новый, самый молодой в Политбюро секретарь. О Горбачеве я слышал и раньше от фотокора Славки Стрижевского, как большой начальник, вспомнив комбайнерскую молодость, во время поездки по степным башкирским совхозам лез во внутренности жаток, самолично проверяя настройку техники. Дважды партийные дамы (одна из них – эстонская, кажется), однако, с пониманием относились к моим радикальным (жар, кроме прочего, был вызван и прорезавшимся стыдом перед светскими редакторшами) высказываниям о застое и развале.
Вообще, стоит заметить применительно и к тогдашней, и к нынешней действительности, у нас два национальных вида общественного времяпрепровождения: строительство вертикали и разбор завалов. Дамы были убеждены, что с обеими задачами лучше всех справится Горбачев, и надеялись, что он победит уже на ближайшем пленуме. Победил Черненко.
Тогда, в зимнем Баку, я впервые принимал участие в открытых разговорах о будущем страны. Стесняясь не столько дырок на штанах, сколько самого, даже пусть временного, совпадения с этими чуждыми дамами. Хотя бы мысленно входил в самую широкую коалицию, осознавая ее временность, примеривался к конкретике решений. А в ней и печатное слово становилось не одной лишь рефлексией, а частью самого действия. И ты становился заложником этой коалиции, этих действий и собственных слов. Правда, зачастую не в большей степени, чем остальные твои соотечественники.
Вернувшись домой, я вырвал из отрывного календаря портрет секретаря ЦК по сельскому хозяйству Горбачева и показал близким: смотрите, вот будущий руководитель страны. Слова сбылись практически через год, когда не только я, но уже и большинство окружающих ждало перемен. Помню пустомелю-обкомовского лектора, который каждый раз, оказываясь в Доме печати, забегал ко мне в кабинет обсудить шансы Михаила Сергеевича и другие возможные партийные бурления. Впрочем, не отрицаю, у лектора просто могло быть такое непрофильное задание: зондировать настроения.
Говорю об этой ерунде, потому что хочется показать, с каких низких позиций начинались перемены, как они вырастали внутри дикой советской жизни. Внутри советских людей. Как из тягостного долгого бездействия рождалось действие. Пусть такое же далекое от цивилизации, как драные треники. И за это Горбачеву спасибо. За нестандартные, поначалу – особенно, речи, за наше волнение при чтении партийных стенограмм, при попытках угадать среди выступавших возможных союзников, проводников, пусть и по собственным расчетам, нового. Спасибо, в конце концов, за то, что мы не получили по башке, когда стали во всю крыть Михал Сергеича.
Коли уж честно, если б иметь твердые политические и нравственные установки, выращенные реальным общественным взаимодействием, уже тогда можно было бы разглядеть превращения следующих десятилетий. Как из плюрализма и многоречения вырастают пустословие и двоемыслие. Как харизматик, ведя толпу, превращается в ее пленника. А в дальнейшем углядеть, что формула «но ворюги мне милей, чем кровопийцы» не освобождает от нравственного выбора, что справедливость нельзя приглушить рассуждениями. Тем более, что триада «демагог-ворюга-кровопийца» связана намертво.
2.
В Баку меня послали за заслуги перед комсомолом, обнаружившиеся за несколько лет до того. И орден такой, комсомольский, а не государственный, дали. Хотя поначалу за тоже самое хотели выгнать с работы с волчьим билетом. За маленькую, в четыре рукописных странички заметку, которую наш редактор Вазир Мустафин не побоялся поставить на первую полосу.
Тогда я заведовал сектором комсомольской жизни. Это был изощренный шаг Вазира, бывшего помощника стрелочника на глухом разъезде, а потом матерого аппаратчика. Любишь на репортажи ездить и обругивать достижения советского кино? А поди-ка, брат, послужи! И я полетел на Ан-2 в далекий Аскинский район живописать, как местный райком помогает сельхозпроизводителям (на сегодняшнем языке) в страду.
Все бы ничего, ограничься программа пребывания положенным одним днем. Я посмотрел, как комбайнеры под дождем подбирают намокшую рожь, пообедал, посмотрел планы работы и направился к кукурузнику. А тот не может взлететь с местного болота. И так четыре дня. За это время я нагляделся на не знающих сна и горячего обеда комбайнеров, на райкомовские пьянки-гулянки, на бессмысленные и безграмотные плакаты. А потом прилетел, посидел, подумал и написал, что видел, а не что заказывала редакция.
Со мной и раньше это случалось. Если начальство на местах просило, делясь сокровенным, о чем-нибудь не писать, меня всегда подмывало именно эту, доверчиво мне поведанную, деталь вставить в материал. Какой-то нездоровый синдром болтливости, очевидно, связанный с подсознанием профессии. Но не в таких же ответственных газетных кампаниях, каковая с легкой руки нашего метранпажа, который не смог загнать аршинную «шапку» в ширину полосы, называлась «каждуюминутуборьбезахлеб!» И не про весь же райком – всю правду!
Я, конечно, не рассчитывал увидеть свое творение опубликованным, но еще больше боялся, что из зарплаты вычтут командировочные. И заметочку сдал. А Вазир, разозленный на туфту, которую в отчетах гнали райкомовцы, заметку поставил, ни с кем из обкомовских секретарей, в силу своего вздорного характера, не советуясь. Мне же, по большому счету, было плевать даже на туфту. Меня взбесили сытые молодые бездельники обоего пола на фоне своих голодных ровесников, безропотно перепахивающих болота.