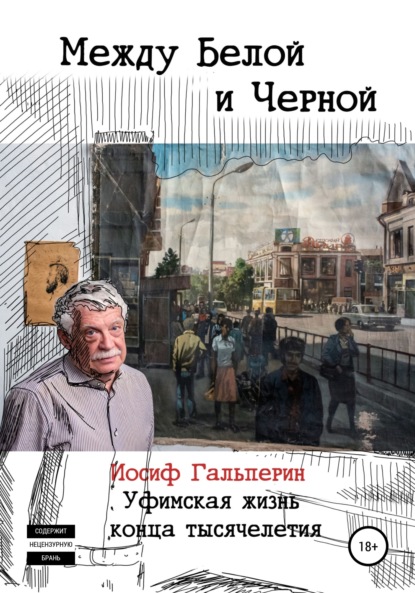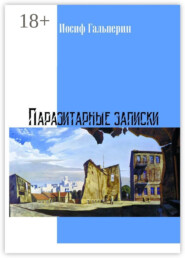По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Между Белой и Черной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так формировалось мучительное «табу». Я не боялся оказаться несостоятельным при реальной близости, потому что не знал, что у женщин тоже могут быть свои требования. Когда в одной из женских комнат общежития меня томным голосом спрашивала, явно издеваясь, двадцатилетняя опытная девушка: «Ося, вы можете дать счастье женщине?», я даже не понимал, что речь она ведет об оргазме. Я боялся самой близости, как запретного. Очень может быть, что этот страх, преодоленный безоглядной взаимной любовью, называется целомудрием. Но до преодоления еще было далеко, путь лежал сквозь обычные общежитские шалости, путь случайный, приведший к верной точке.
Каких только слов я не услышал от девушек, обвалившихся на меня на первом курсе. Лез за пазуху, радуясь безответственности и необязательности, и слышал холодное: «Ты не думаешь, что мне может быть больно?» Та, которую пожалел и защитил, случайно выглянув в коридор, сказала при следующем свидании: «Когда мы поженимся, папа с мамой подарят нам эту квартиру и машину, а себе купят другую». Папа был полковником, мама – майором, а я собирался жениться на Тане и убежал. Еще одна, присевшая на ручку жидконогого кресла в холле рядом со мной, призналась, что больше пятнадцати минут целоваться не может, я не понял, но на всякий случай испугался. От одной прямо из постели в новогоднюю ночь меня утащили друзья, подслушав обещание жениться (с Таней начались размолвки). Про другую я гордо сказал, придя на рассвете в нашу комнату, что она оказалась девственницей. От возмущения Вовка так брыкался, что запутался в одеяле и долго не мог выбраться, чтобы сообщить мне, под хохот остальных, насколько я неправ.
У них даже песня была про меня, ставшая одним из фирменных знаков «Шуги кокупы», про то, как я, самый младший в компании, все никак не могу лишиться девственности. Не помогло даже близкое знакомство с пролетариатом. В кафе перекидывались взглядами с соседним столиком, выбирая, какая из сидевших дам больше подходит. Пошли приглашать на танец – нетолерантный, по нынешним меркам, конфуз: у той, которую выбрал Юрка, ножки, до того спрятанные под столом, оказались от колен маленькими и толстенькими, как пивные бутылки. А у моей одна нога была очень даже ничего, зато вторая – сухая. Да еще на свитере – значок «Ударник коммунистического труда». И чего она с ним после штукатурных своих работ потащилась из Кузьминок на улицу Горького!
Делать нечего, поехал провожать, надеясь на количество выпитого. Но когда она меня затащила на какой-то чердак, вырвался и заторопился в общагу – мол, скоро закроют. Думал, на этом все и кончится. Тем более, из конспирации назвался Игорем. Но Юрка подвел – показал своей коротконогой путь на Ломоносовский. И вот через несколько дней они явились туда довершить начатое с бутылкой, половиной буханки и солеными огурцами. Я убежал из комнаты, соврав про заседание редколлегии стенгазеты, а когда вернулся, моя баба-Яга радостная и довольная щипала волосы на мускулистой груди гитариста Андрея. И никак не могла понять, почему ребята меня зовут «Ёсиком». «Ёсик? Ёсик? – Игорёсик!» – нашелся Валерка.
А я не на редколлегию вовсе убегал, а к Любе. Поговорить. Как-то хорошо у нас с ней это получалось. Тем более, что я не пытался вообразить какие-то более близкие отношения – слишком хороша, не по мне. Даже старался познакомить ее с Вовкой, считал – он достоин. Однако разговоры, многокилометровые прогулки сквозь метель, а главное – естественная готовность помочь, признающая, при этом, мою силу, сняли отчуждение к чернобровой и краснощекой дальневосточнице. Все стало просто и неотвратимо, как у первых и единственных людей на Земле…
Совершеннолетие не уничтожило остальные мои тревожные вопросы. Что там у нее в голове? Как она сегодня на меня посмотрит? Нужен я ей? Боится забеременеть или не хочет раствориться, раскрыться? Почему со мной она так не смеется? И главный страх – охлаждения, измены, потери. Я научился его преодолевать, заставляя себя быть нужным, снова интересным, а конкретнее – следить каждодневно не только за собой, но и за тем, о чем думает человек рядом. Хотя тут встает новая опасность – надоесть, и не просто своим присутствием, а еще и влезанием в душу. Остается, несмотря ни на что, ноющая боязнь несоответствия ожиданий – и того, каким я окажусь в данный момент.
Боялся обидеть других женщин, боялся отказывать им – вдруг судьба за это больше ничего не предложат. Но ухитрился обойтись без серьезных романов. Даже гордился этим, пока подруга Альбина не сказала: «А ты подумал, что кому-нибудь из них хватило бы и маленького кусочка счастья?» Хмыкнул: «Тоже мне – счастье!», а потом сообразил, что дело-то не в моих достоинствах, а в том, что рядом со мной могли сочинить женщины.
Страшнее всего в этой и без меня растиражированной сфере половых откровений оказалось впечатление, полученное от друга. Отец многих детей и муж не одной жены, он вдруг рассказал мне, как влюбился в молодого поэта, как тот капризничает и жеманничает, мучает и не отпускает… Я заледенел! И стал выискивать и у себя признаки подобной возможности. Припомнил удивленно-радостный взгляд балетного критика, я его поцеловал в щеку от незнания этикета, вместо того чтобы просто приложится, что, как я потом заметил, проделывали все окружающие. А критик этот не мог оторваться от моего автора-физика, который свою неординарность подчеркнул, зайдя на нашу общую редколлегию в шортах. Всплыли, добавляя ужаса полуабстрактным рассуждениям, слова одной уже умершей подруги, которая увидела в моей гомофобии латентную противоположность…
Слава богу, обошлось!
6.
Хорошо написал или нет – не понять никогда. Можно только почувствовать, насколько полно высказался. На данный момент, потому что завтра легко может оказаться, что сказал не то, что хотел, в недостаточной мере, намекнул на приемлемость того, что противно. И т.д. Стиль изложения раздражает и кажется искусственным, как эхо собственного голоса в зеркалах телефонных сетей. С этими вечно царапающими проблемами я живу больше сорока лет, с тех пор, как стал писать тексты, предназначенные для чтения посторонними.
Хотя, конечно, «хорошо написано» – это был главный критерий. Но важно было, чтобы он прозвучал и после опубликования опуса, а не только при первом чтении другом Сашей Касымовым. Мы с ним с шестнадцати лет стали публиковать заметки в республиканской молодежной газете (он – чуть раньше, так ведь и старше!). Переживали, когда читал и правил текст штатный сотрудник, потом – редактор. Раздражение этим естественным процессом осталось до сих пор.
Впрочем, начиная писать, я совершенно не задумывал работать в газете, отцовская лямка не казалась по плечу. Я и напечатался в его «Ленинце» случайно, безо всякого отцовского участия: девятиклассником рассказал знакомой литсотруднице, что мне не нравится в моей престижной школе, и услышал в ответ: «Слабо об этом написать?» За «подвал» о воспитательном ханжестве я получил свой первый гонорар и тройку по поведению. Чуть позднее выяснилось, что самое страшное в газетной работе – писать не о том, чем хочешь поделиться, а о незнакомых прежде людях, брать на себя ответственность их описывать и оценивать. После первого нашего совместного с Сашей фельетона «Танцбище» уволили массовика-затейника в парке…
Любопытство или любознательность помогали спорить с внутренним голосом, воспитанным на советском почитании физического труда. Белоручка, мол, сам ничего не умеешь сделать, сопляк, а туда же – припечатывать! С одинаковым трепетом расспрашивал столяров обозостроительного завода, как они ладят свои колеса и телеги, и могучую технологиню на пивзаводе – о брожении и созревании. Естественным казалось то, что позже стало работой: узнал – поделись. Главное, чтобы было интересно узнавать. Очевидно, это и есть основная сложность труда умственного.
Избегал ее, уходя в заведомо интригующие сферы. Помню, в девятнадцать лет решился сделать первый серьезный газетный материал на мировоззренческую, что ли, тему. О фокуснике Михаиле Куни, который был как бы пристяжным к славе Вольфа Мессинга. Он тоже на своих сеансах угадывал задуманное зрителями, мгновенно складывал огромные числа. Я захотел написать о бессловесном контакте. Расспрашивал об этом семидесятилетнего Михаила Абрамовича, эмигрировавшего в свою экзотическую профессию из интеллигентских 20-х годов, из училища живописи, где его мастером был Шагал.
Мы шли по уфимской улице Карла Маркса к музею живописи имени Нестерова, где я договорился, что нам покажут в запасниках не выставлявшиеся картины Давида Бурлюка. Старому художнику было важно встретиться с полотнами, близкими его молодости, и мы говорили о том, как Бурлюк во время Первой мировой написал 35 работ в деревне под Уфой. Но я в это время напряженно думал: «Есть ли телепатия?» Михаил Куни, не прерывая разговора об авангардной живописи, вдруг ответил: «Конечно, есть!». Я шел впереди Михаила Абрамовича, как бы расчищая дорогу старику, руки наши не касались, как это у него бывало на концертах со зрителями, глаз моих он не видел. Но почувствовал же, о чем я молча думаю! Я от неловкости не переспросил старого фокусника, как же это у него получается. Потом, после выхода материала, в котором я, конечно, о личном опыте не упомянул, он написал мне из Ленинграда, прислал репродукцию своей картины. Встреча с ним – ожог неведомого, ощущение более сильное, чем боязнь того, что мною можно бессловесно манипулировать.
Тяга к эксцентрике привела к тому, что я стал писать почти о каждой цирковой программе. И навсегда потерял страх перед зверями. Ошивался за кулисами, часами сидел на репетициях, водил слониху Рэзи по городу от вокзала до цирка, держа за цепь, обмотанную вокруг толстенной ноги. Кормил бегемотиху, совал руки в клетку, чтобы погладить тигрицу Волгу. Ощущение – как от пыльного ковра. Попрошайку гималайского медвежонка дергал за язык, который он так старательно высовывал, прося конфету за конфетой. Обдирал линяющих белых медведей. Позволял себе эти вольности без сопровождения служителя. А зря, однажды служитель, к которому я присоседился во время кормежки зверинца, заслонил меня от прыжка пантеры Кометы. Она заволновалась, увидав незнакомца рядом со своими новорожденными котятами. Ее лапа содрала у него кожу над бровями.
Цирк манил меня свободой, «свободная профессия», другим пространством. Но вскоре я понял, что, как и в любом другом серьезном деле, самое трудное и самое высокое в кажущемся «невысоким» искусстве цирка со стороны не видно. Публика не успевает заметить разницу между верчением десяти или двенадцати тарелочек на тростях, не успеет посчитать, сколько оборотов сделал акробат, взлетая с першей, не поймет, что дрессировать зебру сложнее, чем такого же полосатого тигра. Понимают и замечают свои, это еще Шкловский в «гамбургском счете» объяснил.
И «свои» четко знают, почему людей так манит цирк. Посмеиваясь над укротителем белых медведей Володей Синицким, который ради манежа бросил третий курс ВГИКа, цирковые понимали цеховой закон: аттракцион отца нельзя оставить. А что касается поездок по всему миру, так они не только в Токио (куда меня с собой Вальтер Запашный звал ассистентом), но и в Уссурийск заезжают. Кажется, именно там пьяный цирковой завхоз расхвастался перед гостями: «Кто в цирке хозяин? Я! Чьи звери? Того, кто им мясо выбивает!» И сунул руку в клетку к Мальчику – самому большому, полутонному медведю Синицких. Мальчик в нее и вцепился, а когти у медведя внутрь загнуты. Трезвеющие гости с ужасом выдирали завхоза из лап, в результате руку из плечевого сустава вырвали, а Мальчику пожарным багром повредили лапу. Так Синицкий потом еще и в суд подал: за травмирование дорогого зверя, государственной собственности.
Нет, не за красивой жизнью поколение за поколением шли простужаться в шапито и зарабатывать гастрит в цирковых общагах. Помню в комнате гостиницы двух ребятишек, лет шести-девяти, которые очень строго таскали за шкирку бенгальских котят. Теперь они стали не менее знаменитыми, чем их родители, укротителями, и таскают, наверное, по гостиницам своих детей. Будущих Запашных.
Я был не критиком, а репортером. Даже «менял профессию»: Вальтер Михайлович Запашный разрешил войти в манеж и ассистировать ему на ночной репетиции молодняка. Я вошел в раж, гонял палкой годовалых львят, дергал пуму за хвост, когда она «тормозила», чем пугал фоторепортера редакции. Вальтер Михайлович дал в руки алюминиевый шест, велел наткнуть на него кусок мяса и встать по ту сторону круглой дыры в стальной решетке манежа. Надо было приманивать молодых львов, чтобы они научились красиво, в прыжке, покидать представление. Я встал у барьера – и только тут сообразил, что прыгать эти звери, размером с крупного дога, будут прямо на меня.
И не боялся. Именно потому, что считал себя репортером, пробователем чужих жизней, полпредом читателей. Я подсознательно себя подогревал: ты можешь то, что может любой другой человек. Пусть лишь на секунду. Если поймешь, как он это делает, и сумеешь выбрать из его поведения нужное. Будешь смотреть таким же немигающим взглядом, как Запашный, – и твое внимание покажет зверю, что ты хочешь быть с ним на равных (а Вальтер еще и улыбался, хищно обнажая клыки. Зверей при мне не бил. И при этом готов был ударить лопатой проштрафившегося ассистента). Как старший брат. Главное, как учил Михаил Абрамович Куни, найти контакт (инструктор в аэроклубе кричит курсанту «Контакт!», тот отвечает «Есть контакт!» – и запускается мотор), а потом уже этот зверь становится для тебя человеком. А незнакомец – возможным вариантом тебя.
Конечно, подражание, соучастие касалось, в основном, не экзотических профессий. Но тоже, желательно, романтических, хотя бы с примесью риска, связанных с путями – воздушными, водными, земными, подземными. Писал о речниках, летчиках, железнодорожниках, шоферах, трассовиках. Например, я без проблем прошел на кабелеукладчике (такой большой плуг с барабаном кабеля наверху) по пустынной границе с Афганистаном от туркменского участка до таджикского, сквозь окаменевшие пески и рассыпающиеся скалы. Потом это почти актерское вживание в предлагаемую роль помогло мне в армии, где после университета сумел освоить профессию радиста.
Броня невидимого, но ощущаемого мной интереса тысяч людей, незнакомых, но пославших «на дело» именно меня, берегла меня во время авторалли, где я был штурманом, ничего тогда не понимая в машинах, и летал на 21-й «Волге» со скоростью 150. И в медной шахте на глубине полкилометра, где от взрывной волны не просто закладывало уши, а еще прижимало эти самые уши к черепу. И в суточном дежурстве с милицейскими оперативниками, когда пришлось вместе с ними врываться на «малину» (они с пистолетами встали под окнами, а я, безоружный, вслед за их начальником поперся в дверь). И в работе бригадира проводников поезда, мотающегося две недели по одному маршруту. И на тушении лесного пожара, когда нас с фотографом высаживали с вертолета (перед этим такой же «чебурашка» Ка-26 разбился, а наш перед вылетом чинили с помощью топора) в сужающийся круг языков огня, и мы ветками и лопатами отбивались от них, пока не пришла техника.
Эту уверенность в неуязвимости «по службе» до сих пор не поколебала и гибель на следующем ралли того водителя, из машины которого я трое суток не вылезал. И смерть на другом лесном пожаре фотографа, который в свое время пришел ко мне в редакцию мальчишкой из ПТУ и стал потом заметным в Москве репортером. И вообще все случаи репортерских смертей и увечий. Будь спокоен, пока ты какому-то делу нужен, и будь что будет. А то, что нужен – надо доказывать ежедневно.
Другими словами, все будет хорошо, пока ты поступаешь правильно, в ладу с тем, что тебя ведет. Репортерство, а потом и более глубокая журналистика на практике означали «учиться у жизни», снимали недовольство собой, подобное басенному «они работают, а вы их труд ядите». Это был как бы поиск обязанностей при старании сохранить чувство свободы. Раз я меняю образ жизни, примеряясь к чужим судьбам, но оставаясь собой, – я свободен.
Но попадаю в другую зависимость, которая тяготила не меньше официальных рамок пропаганды или морали. В зависимость от того человека, которого ты выслушал. До сих пор, пока не написал материал, в ушах звучит голос того, кого расспрашивал. При конфликтах попадаю в более тяжкую зависимость: от противоположных мнений, разноголосицу нельзя свести к плоскому газетному листу. Поэтому часто выбирал свою позицию, не совпадающую ни с одной изложенной мне. И выражал ее в строках и между них, называя себя «экстремистом компромисса». По крайней мере, сволочью меня не назвал ни один герой фельетона или расследования.
А трусом? Стоя под «трассерами» в августовскую ночь у Белого дома, я старался думать не о том, что будет со мной, а о том, как я буду об этом писать утром. Анестезия служебного воображения. О подобных ситуациях, когда профессия становилась синонимом поведения, диктовала выход за рамки страницы формата А-4, А-3, А-2, впрочем, стоить говорить не в страдательном залоге, так что подробности – в другом месте. В этих случаях я не пытался примерить чужую судьбу, а менял свою, иногда – и чужие. Но были в моих поисках материала два случая поведения вынужденного, подневольного. Один: когда надо бы испугаться – не испугался. И второй: когда нечего было бояться – запаниковал.
Первый случай связан с Ингушетией, я тогда в первый раз на Северный Кавказ, еще до Беслана, прилетел. Искал свидетелей налета террористов на Назрань, разбирался, кому это было выгодно и почему войска повернули от города, не спеша к нему на помощь. В гостинице в холле сидели бородатые мужики с автоматами, охрана. Точно такие «телохранители» не помешали потом «неизвестным» вывезти съемочную группу одного телеканала и крепко попугать. Но со мной, тем более что я успел поговорить с тамошним президентом, никаких инцидентов до конца поездки не было.
И вот машина, обеспеченная пресс-секретарем президента, завозит меня в Слепцовский аэропорт, мы прощаемся и я иду на регистрацию. Смотрю в окно – наш ЯК-42 стоит с раскрытым люком на правом моторе и в этот люк по чему-то бьют кувалдой. Потом объявляют, что самолет сегодня не полетит. А ночевать в аэропорту негде, разве что в окопчик, рядом с которым темнеет БТР, попроситься. Я звоню пресс-секретарю – он уже дома, в ауле за 150 километров. Ведь пятница же! Надо самому добираться до гостиницы, иду искать машину. На выезде, у окопчика, вижу молодого человека в блестящем черном костюме и таких же башмаках. Спрашиваю, бывают ли машины. Он вежливо интересуется, зачем это мне. И потом предлагает добросить до города – не один десяток километров.
К его уверенным хозяйским ногам подъезжает «Мерседес». Естественно, тоже черный. Он приглашает меня на заднее сиденье, я открываю дверцу с тонированными стеклами – и оказываюсь между двух небритых молчаливых личностей. «Мерседес» рвет из станицы Слепцовской, но поворачивает не направо, в сторону Ингушетии, а налево – в Чечню. Слепцовская как раз на границе. Мы с хозяином продолжаем разговаривать, а я вспоминаю, что волки по запаху чувствуют, когда их боятся. Решаю не бояться и ни о чем не спрашивать. Машина останавливается у какого-то дома, хозяин выходит. Я сижу с тремя темными личностями и пытаюсь лавировать между созданием образа своей значительности и поддержанием мнения о невысокой моей обменной стоимости, сопряженной с большими рисками. Насколько удается – не знаю, они между собой больше по-чеченски разговаривают.
Возвращается властелин «Мерседеса». О чем-то спрашивает остававшихся. Потом они несколько минут сидят молча. Потом машина разворачивается и везет меня в Назрань. Не знаю, что было бы, если бы я начал спрашивать у них сразу после первого поворота, куда это мы едем. Может быть, пополнил бы список журналистов-заложников. А так доверился, не дал себе почувствовать в них врагов или просто опасность – и вернулся в гостиницу «Асса».
Второй случай еще смешнее (нет ничего смешнее зряшных страхов!). Если смотреть со стороны. Я занимался расследованием гибели американского журналиста Пола Хлебникова, у адвокатов одного из обвиняемых в преступлении получил сведения, что в этом деле могли быть замешаны сотрудники спецслужб. Понял, что именно об этом буду писать. Выхожу из адвокатской конторы, и вслед за мной по узенькому придомному проезду начинает ехать девятка с тонированными стеклами и заляпанным номером. За Хлебниковым следила похожая? Сугробы – в сторону не сойти. Я подумал, что в адвокатской конторе запросто могла стоять «прослушка» и кто-то может захотеть предотвратить публикацию. После публикаций на журналистов обычно не покушаются – смысла нет, а вот перед… И я прыгнул в сугроб, за гараж – и сидел там, по колено в снегу, до тех пор, пока девятка не выехала на улицу. И лишь потом сел в свою машину…
Наверное, я слишком проникся судьбой Пола Хлебникова. До того, в подробностях узнав, как погиб Дима Холодов (я пришел в отдел расследований «МК» через месяц после взрыва подброшенного «дипломата»), долго с опаской вскрывал всякий пришедший в редакцию конверт. Но и более простые случаи – чья-то вера в насилие, чье-то априорное убеждение в своей правоте – которые мне надо было переварить и описать, смущали ленящийся или пугливый ум. Чужие правды, зато, делали мою жизнь длиннее – на длину и глубину сопереживания. Хотелось бы, как в чистой литературе, уходить от их принятия или неприятия, пользоваться правилом «не суди…», но всегда приходилось письменно судить, пусть и с внутренней неуверенностью. Державшейся до момента выхода номера в свет.
Потому и сейчас пишу о себе (о других – в газету) – не надо кому-то иному сочувствовать или осуждать, поеживаясь от мысли: «А вдруг все не так?» Еще газета позволила не кормиться литературным трудом, писать для себя (для других – в газету) без желания понравиться кому-либо. Для себя получались стихи. Но от этой литраздвоенности – и непрофессионализм, ясно и больно осознаваемый мною по обе стороны границы, разделяющей журналистику и литературу. Зато въелось правило не придумывать сюжеты и героев. К сожалению, осталась привычка в конце выписывать мораль. По крайней мере, намекнуть на нее, указать.
А сюжеты… Вот Леня Енгибаров. Несколько месяцев я вплотную наблюдал за этим лучшим в мире клоуном. Одна из моих любимых его реприз: выход на ковер после жонглеров. Он вслед за ними пытался управлять в воздухе четырьмя тарелками, долго не получалось, бил их, осколки заметал от строгого инспектора манежа под ковер. И наконец получалось! Он победно взмахивал руками с пойманными на лету тарелками – и бил их одну об другую. Победитель…
Леня не хотел быть только клоуном, он писал рассказы (книжкой изданы лишь после его смерти, а пару я опубликовал в «Вечерней Уфе»). Но оставался человеком шапито, хвастливым и пьющим. Врал, что был чемпионом мира по боксу, обижался, когда кто-нибудь из провинциальных слушателей вспоминал, что того чемпиона звали Владимир Енгибарян. И блестя глазами, слегка захлебываясь, рассказывал, как его чтут в Ереване. Одна женщина в спальном (!) микрорайоне даже выскочила на балкон и кричала: «Люди! Смотрите – это от меня идет Леонид Енгибаров!» Про Ереван, наверное, не врал, ведь посмертная книжка вышла именно там.
От водки, которой его угощали «прихлебатели таланта», у него расстраивался желудок. После каждой репризы он бежал, на ходу расстегивая лямки клоунских штанов, в туалет сразу за занавесом. Страдал там, переговариваясь через приоткрытую дверь со всеми окружающими, смеша их не только ситуацией, но и репликами. И на аплодисментах заканчивающегося чужого номера, застегивая лямки перед занавесом, выбегал на манеж со счастливой победительной улыбкой.
Он мечтал сделать свой мим-театр. Для этого даже бросил пить. Ходил по Минкульту и пробивал бумаги. Нашел уже помещение, по крайней мере – для репетиций. Был предпремьерный показ. Министерские дамы одобрили, судьба была решена. Победитель! Он пришел домой, лег набок, скрючился от боли и умер.
7.
И я умирал. Попадал на тот свет, правда, пока не навсегда. И все из-за ерунды – из-за футбола.
Команда Дома печати играла в футбол на снегу. В эту морозную субботу кеды и шерстяные носки не защищали ноги, да еще перед тем, как выйти левым защитником в хоккейную коробку, я толком не размялся. И при легком касании сзади лопнул, как басовая струна, мой левый «ахилл». Ступня повисла под углом в 135 градусов, когда я попытался поднять колено. Аркадий Рось, приехавший за мной прямо в редакционный кабинет, куда я как-то доковылял от близкой коробки, сказал, что операция неизбежна. Будем пришивать сухожилие к мышце, пятку к голени. Однокласснику и соратнику по КВНу я доверился не столько потому, что за прошедшие со школы годы он стал хирургом-травматологом республиканской больницы, сколько оттого, что связь ступни с остальной ногой явно отсутствовала.
Оперировал не сам Аркадий, а его заведующая – дама с большим опытом и не меньшим бюстом. Я запомнил склоненное надо мной лицо анестезиолога – соседа по дому, сына моей наставницы в «Ленинце», – и бестеневые лампы медленно закружились. Потом я увидел распростертое на столе собственное тело, услышал разговор Аркадия с начальницей о сложности случая…
И полетел по абсолютно черному коридору. Соскучиться не успел, не знаю, сколько времени прошло до появления золотого света. Он не резал глаза в темноте, а мягко, как живое свечение, рисовал проёмы дверей по бокам коридора и впереди – контур закрытой двери, куда летел я. Из боковых дверей появлялись полупрозрачные тени – хорошо знакомые мне (но как бы не имеющие имени!) родные люди, я вроде бы спрашивал, можно ли мне остаться с ними, рвался поговорить. Они признавали меня с радостью, но вроде бы отвечали, что мне сперва надо дальше – к тем дверям, там, мол, решат, куда меня определить, и исчезали, пересекая коридор. «Вроде бы» – потому что не уверен, звучала ли речь или мы общались без нее. Хотя какие-то звуки, наверное музыка, были.
Но вдруг, почти у самой назначенной двери чувство безграничного счастья поколебалось, меня кто-то разворачивал обратно. Исчез золотой свет, а за ним – и темнота. Я увидел сидящего у моей кровати в палате Аркадия с вопросительно-озабоченно поднятыми бровями, а глаза у него всегда смотрели печально, несмотря на масляный блеск. И я обиделся на него за то, что не дал досмотреть такой прекрасный сон. Пытался даже канючить – ну что, тебе жалко? Сон не вернулся, я потом много дней, может – неделю, старался не разговаривать с Аркадием. Лежал на спине, гипс на всю ногу – от стопы до паха – не давал пошевелиться, и тосковал по черно-золотому полету. Чувство родства и близости к давно умершим людям осталось уже навсегда, но никогда больше не было таким ярким и непосредственным, как в полете над хирургическим столом.
Когда я смог приподниматься, то увидел, пока медсестра меня обтирала, что по плечам и, очевидно, по спине в симметричном порядке рассыпаны темно-желтые кружочки, как оттиски монет. Спросил, что это, сестра пробормотала что-то невразумительное. Спустя несколько дней напряженных размышлений (последствия наркоза сказывались на быстроте соображения) я понял, что эти синяки неспроста. И спросил Аркадия. Он отвел глаза. Лишь потом я узнал, что соседский парень, журналистский сын, что-то не рассчитал с наркозом или не учел какие-то мои особенности. И релаксанты, которые должны были, расщепившись через определенное время, бесследно раствориться в крови, остались в ней действовать, не давая работать мышцам, отвечающим за легкие. В результате я не мог дышать самостоятельно пятьдесят пять минут после окончания операция. Отказывался. Вот Аркадий и щипал меня, возвращая из черноты. Спас одноклассник, ведь была вероятность, что на постороннего человека другие врачи махнули бы рукой. Уходит – и уходит…
С тех пор частенько просыпаюсь от ощущения остановившегося дыхания или сердца, уже привычной командой сознания запускаю мотор вновь. Но никаких запредельных картин при этом не вижу, никто никуда меня не зовет. Я и сейчас не знаю, хотя моя старшая дочь Лиза стала сотрудником академического института и пишет докторскую по физиологии мышления, были это картины, вызванные, подобно наркоманским, дозой наркоза, или я наблюдал иную реальность. Не хочу знать, может быть – боюсь разочароваться.
Иногда чувства важнее. Да и не знают ученые о нашем мозге (и об устройстве, и о работе) пока ничего концептуально железного. Чувствами не занимаются, занимаются эмоциями, то есть проявлениями чувств, если раньше о человеке говорили «чувствительный», теперь еще с большим снисхождением говорят «эмоциональный» (а бедные безграмотные подростки из этого слова даже культ сделали). Из триады страхи-страсти-стрессы массовое сознание видит лишь последнее, стремясь свести явление к реакции, смысл к механизму. От частного к общему…
От общего к частному не каждый сможет обратно пройти, в отсутствии прямой применимости беда философии и прочей мудрости, а живет-то – каждый. Но не каждый читает книжки и\ или смотрит на небо. Скорее всего, вне каждой личности и нет никакого смысла, он заложен в ее движении, изменении, росте. Чем врачи и ученые не могут инструментально заниматься. Литература, в лучшем случае – подсказчик, но на аналогиях долго не протянешь, а если и сумеешь проникнуться чужими чувствами, рискуешь обеднить свои. Медицина, в крайнем случае – прикладное душеведение, психотерапия. Впрочем, религиозные ритуалы – то же самое. Духом в общей массе молящихся заниматься не выходит, можно лишь организовать экстатическую «духоподъемность», которой на трезвую голову рискуешь сам не поверить. Личный духовник – это какой-то инструмент принуждения, обтесывания. А я почувствовал, как моя информационно-эфирная частица (душа?) рада присоединению к всеобъемлющему и при этом внимательному ко мне сообществу, но не растворению в небытии.
Вернуться к нашей реальности мне помог своей трепотней сосед через койку. Не помню, как его звали (именно в прошедшем времени, потому что почти уверен, что до сегодня он не дожил), помню его живую пластику. Движения одноногого сангвиника, давно обжившегося в хирургических палатах, прыгающего с костылем, рассматривающего снятый протез. Его культя, и так короткая, как заячий хвост, всё гнила, процесс грозил перекинуться на вторую ногу, он рассуждал о необратимости гниения со знанием дела – и улыбался. Не унывал, пока жив. Может быть, он, при дневном уже свете, дополнительно поколебал мой страх смерти.